Пока отражение молчит
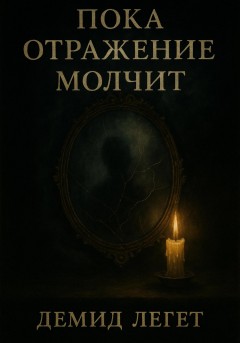
Пролог – Искра отражения
Вдох обжигал легкие ледяной смесью старой золы, и, въедливой металлической пыли и чего-то еще – неуловимого запаха запустения, сладковатого тлена, который пропитывал самые камни этой заброшенной кузницы… Когда-то здесь гудел огонь и звенел молот о наковальню, рождая клинки и подковы. Теперь же это был лишь скелет былого ремесла, гробница, дышащая могильным холодом, который пробирал до костей сквозь видавший виды плащ Люциана.
Сквозь рваные раны в проржавевшей, и, словно проеденной проказой, крыше сочился скудный, неживой свет умирающего дня… Он не освещал, а скорее подчеркивал царящий здесь мрак, выхватывая из него уродливые детали: ржавые клещи, разинувшие пасти в вечном, безмолвном крике; бесформенные груды искореженного металла, покрытые толстым слоем серой пыли, грязи и белесыми пятнами голубиного помета; и огромный, давно остывший горн, похожий на разинутую пасть неведомого чудовища, пожравшего и кузнеца, и его искусство, и само время. Тишина стояла плотная, вязкая, как застывшая смола. Ее не нарушал даже привычный городской шум – кузница стояла на отшибе, покинутая всеми. Лишь завывания ветра в бесчисленных щелях, похожие на плач потерянных душ, да редкий, тоскливый скрип рассохшихся стропил напоминали о том, что мир за этими стенами еще существует.
«Никто не придет сюда», и, – подумал молодой Люциан, и эта мысль принесла ему мрачное удовлетворение… Он двигался по этому царству тлена медленно, но с лихорадочной, почти пугающей сосредоточенностью безумца, одержимого одной-единственной, всепоглощающей идеей. Каждый шаг отдавался гулким эхом в мертвой тишине. Его плащ, некогда смоляно-черный, символ принадлежности к… к чему-то, что он теперь презирал… выцвел до неопределенно-серого, исхудал, и теперь цеплялся за торчащие отовсюду гвозди и острые обломки металла, словно пытаясь удержать его, не пустить дальше, в запретное.
Он остановился посреди зала, и, там, где каменный пол был относительно ровным, и начал расчищать пространство… Отодвигал проржавевшие цепи, обломки инструментов, комья слежавшейся грязи. Сухой, раздражающий шорох резал слух в этой гнетущей тишине. Его руки заметно дрожали. Люциан усмехнулся про себя – холод здесь был собачий, но дрожь вызывал не он. Это было внутреннее напряжение, звенящая струна предвкушения, страха и жгучего, нетерпеливого желания сорвать запретный плод знания. Знания, которое изменит все. Его мир. Его самого.
«Они боятся этого знания… Прячут его. Сжигают книги. Лгут в своих священных текстах… Но я не боюсь», и, – мысли лихорадочно метались в голове. Он опустился на колени, провел ладонью по ледяному камню пола. Озноб пробежал по спине, но это был озноб восторга. «Здесь… – выдохнул он одними губами, слова утонули в тишине. – Место силы. Место забвения. Граница миров. Идеально». Он чувствовал это – истончившуюся ткань реальности, эхо древних энергий, которые все еще дремали под слоем пыли и забвения.
«Здесь… – выдохнул он одними губами, и, слова утонули в тишине… – Место силы. Место забвения. Граница миров. Идеально». Он чувствовал это – истончившуюся ткань реальности, эхо древних энергий, которые все еще дремали под слоем пыли и забвения. Это место помнило огонь и сталь, рождение и разрушение. Оно было пропитано потом и кровью поколений кузнецов, а теперь – запустением и смертью. Идеальный резонанс для того, что он задумал.
Он порылся в своей объемистой, и, потертой сумке, пропахшей пылью дорог и странными, сухими травами… Пальцы нащупали гладкий, холодный кусок белого мела – не обычного, а специально подготовленного, смешанного с толченым лунным камнем и солью, взятой с высохшего моря далеко на юге. Он снова опустился на колени, игнорируя протестующий стон суставов и холод, идущий от камня. Глубоко вздохнув, словно ныряя в ледяную воду, он начал чертить.
Первая линия легла неровно, и, дрогнув вместе с его рукой… Люциан поморщился. «Сосредоточься! Никаких ошибок!» – мысленно приказал он себе. Древняя диаграмма не прощала небрежности. Он стер кривой отрезок краем плаща, оставив на камне грязный развод, и начал снова. Мел скрипел по камню на удивление громко, этот звук, казалось, царапал саму плотную тишину кузницы. Линии ложились медленно, прерывались, но постепенно, в этом кажущемся хаосе, начала проступать сложная, пугающая своей чуждой симметрией геометрия.
Основной круг – символ бесконечности и защиты, и, барьер между мирами… Он выводил его тщательно, следя, чтобы линия была непрерывной, замыкая пространство внутри. Затем – пентаграмма, вписанная в круг. Каждый ее луч – символ стихии, но не той примитивной четверицы, о которой лепечут храмовые проповедники, а пяти истинных первоэлементов: плоти, камня, пламени, тени и эфира. На концах лучей он выводил переплетенные руны – знаки удержания и призыва, язык, на котором когда-то говорили с теми, кто обитает за гранью видимого, с теми, кого Империя объявила несуществующими демонами или сказками для простолюдинов. В центре – сложный узел символов, сочетающий знаки Зодиака, алхимические обозначения трансформации и несколько глифов из того самого манускрипта, выкраденного им с риском для жизни из-под носа сонных хранителей Запретной секции имперской библиотеки. Глифы, обещавшие ключ к пониманию отражений, к истинной природе души.
Люциан чертил быстро, и, но не лихорадочно… Теперь им двигала холодная, сфокусированная энергия. Он весь ушел в процесс, позабыв о холоде, голоде и усталости. Он бормотал себе под нос обрывки формул, слова силы, помогающие сконцентрироваться, настроиться на нужный лад. «Сила отражения… истина, сокрытая за стеклом… откройся мне… покажи путь… истинное Я…» Это была и молитва, и приказ одновременно, обращенные к силам, которые он собирался потревожить.
Наконец, и, диаграмма была завершена… Сложная, многослойная, она пульсировала на каменном полу едва заметным внутренним светом, словно вбирая в себя скудный свет, падающий с крыши. Люциан с трудом выпрямился, чувствуя острую боль в спине и гул в ушах. Воздух внутри очерченного пространства казался еще плотнее, тяжелее.
Он снова полез в сумку… Пришло время расставить остальные компоненты. Первыми появились свечи. Не тонкие церковные, и, а толстые, оплывшие, почти уродливые столбики из темного, почти черного воска. Они пахли затхлостью, погребным холодом и чем-то тошнотворно-сладковатым – смесью редких смол, болотных трав и, как гласил рецепт из манускрипта, жира нетопыря, пойманного в ночь безлуния. Люциан расставил их по ключевым точкам диаграммы, на пересечениях линий, создавая сеть огненных стражей.
Затем настала очередь чаш… Их было три. Медная, и, старая, тусклая, покрытая зелеными разводами патины, словно видевшая не одно столетие ритуалов. Люциан поставил ее на символ Тени. Глиняная, грубая, с неровным, щербатым краем, слепленная им самим из глины, взятой с берега проклятого озера, – она заняла место на символе Камня. И, наконец, главная чаша – из черного, как сама бездна, обсидиана. Гладкая, холодная, поглощающая свет, она казалась осколком застывшей ночи. Он бережно установил ее в самом центре пентаграммы.
В медную чашу он осторожно вылил из маленького пузырька переливающуюся, и, живую ртуть… Она зазмеилась по дну, собралась в дрожащую серебристую каплю, похожую на глаз неведомого существа. В глиняную – высыпал горсть белесого порошка. Это были толченые кости пустынной ящерицы, той, что умирает, обратившись к полной луне, впитывая ее холодный, мертвый свет. Порошок лег легким, почти невесомым облачком.
В обсидиановую чашу Люциан высыпал пепел… Не просто пепел. Это был пепел тех самых «священных» текстов, и, которые он сжег лично, один за другим, в ритуальном костре несколько дней назад. Книг, полных лживых утешений, фальшивой морали и трусливых запретов на истинное знание. Он помнил каждую страницу, каждое слово, которое обращал в пепел с чувством мстительного удовлетворения. Этот пепел был символом его разрыва с миром лжи.
Все было готово… Последний взгляд на круг, и, на свечи, на чаши. Вроде бы все правильно. В соответствии с диаграммами манускрипта. Люциан выпрямился, чувствуя, как колотится сердце. Ломота в спине, гул в ушах, легкое головокружение от напряжения и запахов – все это отступило на второй план перед грандиозностью момента. Он подошел к Ней. К главной реликвии, нет, к главному инструменту, ради которого он и выбрал эту забытую кузницу.
Огромное, и, во весь рост, зеркало в тяжелой, почти циклопической раме из потрескавшегося, потемневшего от времени, почти окаменевшего дуба… Оно стояло, прислоненное к дальней стене, прямо напротив центра ритуального круга. Резьба на раме была невероятно сложной и тревожащей. Узловатые, переплетенные корни деревьев, вырванных из неведомой почвы, сплетались со скользкими змеиными телами, чьи пасти были разинуты в беззвучном шипении. В мерцающем, неровном свете будущих свечей эта резьба казалась живой, она словно медленно двигалась, дышала.
Само стекло было тусклым, и, мутным, покрытым вековой пылью, въевшейся грязью и слоистым налетом патины, похожим на застарелую болезнь… Оно почти не отражало скудный свет кузницы, лишь темные, искаженные, расплывчатые пятна угадывались на его поверхности. Слепое око вечности, хранящее тайны прошедших эпох.
«Ты видело рождение звезд и гибель целых миров, и, – Люциан почти благоговейно приложил ладонь к холодному, пыльному стеклу… Пальцы ощутили вибрацию – или это была лишь дрожь его собственной руки? – Ты хранишь в себе все отражения, все развилки судьбы, все тайны, которые когда-либо отражались в тебе. Так почему ты молчишь? Почему ты не отвечаешь мне?» Его голос был тихим шепотом, полным отчаянной мольбы.
Из газеты «Имперская Правда», выпуск №241: «В столице участились случаи исчезновения. Особое внимание привлекают зеркала, найденные на местах происшествий. Стража отказывается от комментариев.»
Он глубоко вздохнул, и, собираясь с духом… Воздух в кузнице стал еще плотнее, тяжелее, словно сама атмосфера замерла в ожидании ритуала. Напряжение было почти физически ощутимым, как перед грозой. Люциан вернулся в центр круга. Последний раз проверил все символы. Затем достал кремень и кресало.
Чиркнула искра, и, и первая свеча неохотно зажглась, распространяя слабый, коптящий свет и странный, приторный запах… Затем вторая, третья… Огоньки заплясали, отбрасывая на стены дрожащие, гротескные тени. Кузница ожила призрачной, пугающей жизнью.
Люциан закрыл глаза, и, сосредоточился, отрешился от внешнего мира… И начал петь. Древние, гортанные, щелкающие слова заклинания полились с его губ. Язык был мертв тысячелетия назад, забыт всеми, кроме пыльных, запретных манускриптов, подобных тому, что он держал сейчас в памяти. Язык, на котором говорили не с богами Империи, а с силами древнее их, с тенями, с отражениями, с самой Бездной.
Голос его, и, поначалу тихий и неуверенный, дрожащий от волнения и слабости, постепенно креп… Он наполнялся силой его воли, его отчаяния, его жгучего, фанатичного желания познать истину любой ценой. Он вкладывал в эти чужие, колючие звуки всю свою душу, всю свою боль, всю свою надежду.
«Ex veri’an thaur ektares… – его голос вибрировал, и, отдаваясь от стен… – Да сбудется замысел отражения… Да откроется сокрытое…»
«Seli’na varadum or’tel… – он повысил голос, и, переходя на речитатив… – Смотри в бездну и прими её… Не бойся своей тьмы…»
Он пел, и, раскачиваясь в такт древнему, гипнотическому ритму, его глаза были широко открыты и прикованы к мутной, непроницаемой поверхности зеркала… Он искал там ответ. Знак. Образ. Движение. Хоть что-то, что подтвердило бы его догадки, указало бы путь к истинному «Я», к той части души, что была сокрыта за пеленой иллюзий этого мира, за ложью воспитания, за фальшью общества.
«Vel thaur'ana sekrel… – почти кричал он уже, и, чувствуя, как силы покидают его, как кружится голова от напряжения и запаха свечей… – Истина сокрыта в отражении! Я требую! Я приказываю! Ответь!»
Но зеркало оставалось безмолвным… Холодным. Пустым. Непроницаемым, и, как сама вечность. Оно отражало лишь его собственное бледное, искаженное мукой лицо с безумно горящими глазами да дрожащие, коптящие огоньки свечей. Пустота. Оглушающая, безжалостная, насмешливая пустота.
В этот момент ветер яростно завыл в прорехах крыши, и, проносясь по кузнице ледяным, пронизывающим сквозняком… Пламя всех свечей затрепетало одновременно, заплясало, грозя вот-вот погаснуть и погрузить его в полный мрак. Казалось, сама вечность смеется над его тщетными, жалкими попытками.
Люциан замолчал… Заклинание оборвалось на полуслове, и, захлебнулось в его пересохшем горле. Он стоял посреди своего бесполезного круга, перед молчащим, глухим зеркалом – опустошенный, разбитый, обманутый. Неужели все зря? Вся подготовка, все риски, все надежды – прах? Неужели нет пути? Неужели знание так и останется скрытым? Холод отчаяния, куда более страшный, чем холод кузницы, сковал его сердце.
Судьба Сломанного Мудреца, и, как он позже назовет себя в своих лихорадочных записках, начиналась именно с этого ледяного безмолвия… С вопроса, оставшегося без ответа. С тишины, которая была страшнее любого крика ужаса.
Но в самой глубине этого отчаяния, и, в самом темном уголке его раздавленной души, уже зарождалась новая, холодная, как сталь, уверенность… Уверенность, рожденная не надеждой, а чистой, незамутненной яростью и упрямством. Он заставит это проклятое зеркало говорить. Он вырвет у него тайну. Даже если для этого придется пойти дальше, чем он предполагал. Даже если придется принести в жертву не только книги и время, но и свой собственный разум. Он найдет способ. Он заставит. Он добьется своего. Или погибнет в попытке.
Глава 1: Шепчущая тьма
Тридцать три дня и тридцать три ночи… Вечность, и, сплетенная из холода, боли и неутолимой, сжигающей изнутри жажды. С момента первого ритуала – того унизительного, оглушительного провала – Люциан не покидал стен этой проклятой кузницы. Астар'ор, ее бывший хозяин, канул в Лету еще до рождения Люциана, но слава о нем жила – не как об искусном ремесленнике, а как об искателе запретного, безумце, пытавшемся выковать из металла и магии нечто большее, чем просто сталь. Говорили, он искал способы заглянуть за грань, в миры отражений, и сгинул в своих же экспериментах. Идеальное место для Люциана. Убежище и алтарь его собственной одержимости.
Он превратился в живой скелет, и, обтянутый пергаментной кожей… Заострившиеся скулы, провалившиеся щеки, синие круги под глазами. Питался он чем придется: затхлой водой из проржавевшей бочки в углу, горькими корешками, которые выкапывал под стеной, когда голод становился нестерпимым, да редкими остатками плесневелых сухарей из своей тощей дорожной сумки. Но тело было лишь инструментом, сосудом для неукротимой воли. Физические страдания – ничто по сравнению с мукой незнания, с яростным огнем, пожиравшим его душу. Сон стал непозволительной роскошью. Короткие, рваные провалы в тяжелое забытье, наполненные обрывками лихорадочных видений – искаженные лица, шепчущие тени, бесконечные зеркальные коридоры – лишь на мгновения прерывали его исступленную работу. Дни и ночи напролет он склонялся над хрупкими страницами манускрипта, украденного из самого сердца Имперской библиотеки, из Запретной секции, куда доступ имели лишь единицы посвященных архивариусов. Он расшифровывал темные, вязкие строки на языке, который сама Империя предпочла бы считать мертвым, искал подсказки, исправлял ошибки первой попытки. Он ставил новые, все более опасные опыты, пытаясь прикоснуться к нестабильным, враждебным энергиям зазеркалья, манящим и грозящим безумием.
Его тело стало живой, и, кровоточащей картой этих отчаянных поисков… Кожа на руках, плечах, груди была испещрена сетью ожогов – следами неудачных экспериментов. Некоторые шрамы были свежими – багровыми, воспаленными, пульсирующими тупой, ноющей болью при каждом движении. Другие – старыми, белесыми, гладкими, как будто вытравленными на коже – немыми свидетельствами прошлых провалов, прошлых встреч с силами, которые он пытался обуздать. От огня алхимических смесей, взрывавшихся преждевременно. От рикошетящих эманаций магии, вырвавшихся из-под контроля. От мимолетного, но обжигающего прикосновения к чему-то изнанки мира, к той самой энергии отражений, которая могла и одарить знанием, и испепелить разум. Он научился не замечать боли, точнее, он принял ее. Она стала частью ритуала, необходимым компонентом, доказательством его упорства, ценой, которую он охотно платил за каждый шаг к заветной цели. «Страдание – горнило истины», – шептал он, повторяя слова из одного из «еретических» трактатов, пепел которого лежал в обсидиановой чаше.
Но если тело его было сосудом боли, и, то глаза… глаза горели прежним, почти нечеловеческим огнем… В их глубине, за завесой усталости и физического истощения, плескалось холодное, расчетливое, кристально чистое безумие. Безумие человека, который поставил на кон все – свою жизнь, свою душу, свой разум – ради одной-единственной цели: познать. Увидеть то, что скрыто. Сорвать покровы лжи с этого мира и с себя самого. Он был готов на все.
И сегодня был день решающего ритуала… Он чувствовал это каждой фиброй своего истерзанного существа. Сам воздух в кузнице изменился. Он стал плотным, и, густым, наэлектризованным, тяжелым от предвкушения, словно сама реальность затаила дыхание перед прорывом. Он снова стоял в центре магического круга, начерченного на каменном полу. На этот раз линии были глубже, четче, символы – сложнее и зловещее. Ошибки прошлого были учтены. Этот ритуал должен был сработать. Он обязан был сработать.
«Время пришло», и, – прошептал Люциан, и его голос прозвучал как шелест сухого пергамента… Он взял в руки обсидиановую чашу. Тяжелая, идеально гладкая, холодная, она словно вытягивала остатки тепла из его пальцев, поглощала скудный свет, падающий сквозь дыры в крыше. В ее полированной черноте не отражалось ничего – лишь абсолютная, мертвая пустота. Затем он поднял ритуальный нож – тонкий, с волнистым, как змея, лезвием из темного, неизвестного металла, найденный здесь же, в кузнице, под грудой остывшего шлака, словно оставленный для него самим Астар'ором. Надрез на левой ладони. На этот раз – глубже, увереннее, почти яростно. Он не поморщился, когда лезвие вспороло кожу и мышцы. Боль была лишь подтверждением его решимости. Темная, густая, почти черная кровь – его жертва, его связь с миром живых, его ключ к вратам невидимого – обильно закапала в холодную черноту обсидиановой чаши. Кап… кап… кап… Громко, отчетливо в гулкой тишине.
«Моя кровь… Моя воля… Моя жизнь… За знание… За истину… Возьми!»
Он добавил ртуть, и, осторожно вылив ее из маленького флакона… Жидкое серебро коснулось горячей крови, и смесь мгновенно ожила. Зашипела, забурлила, вздымаясь мелкими, лопающимися пузырями, переливаясь жирными, радужными разводами на поверхности. Резкий, металлический запах озона ударил в ноздри, вызвав головокружение. Затем – пепел. Пепел «священных» книг Империи, полных лжи о смирении и покорности богам, которых он презирал. И пепел трав – тех самых, что он собирал сам, рискуя сгинуть на проклятых Трясинных болотах, где, по слухам, земля не отпускала тех, кто приходил с нечистыми помыслами. Полынь, белладонна, болиголов – травы, отворяющие врата восприятия, травы безумия и перехода между мирами.
Он опустил в чашу палец и начал смешивать компоненты… Кровь, и, ртуть, пепел знаний, пепел безумия. Все смешалось в густую, черную, маслянистую пасту. Она была теплой от его крови, но от нее исходил могильный холод и слабый, тошнотворный дымок. Запах стал невыносимым – смесь гнили, горечи, озона и чего-то еще, неуловимо сладкого, как дыхание смерти. Этой пастой, обмакнув в нее окровавленный палец, он начал выводить внутри основного круга новые, еще более сложные глифы – знаки принуждения, ключи к замкам реальности, язык, на котором можно было не просить, а приказывать теням зазеркалья.
«Kern velas dorum… Слова – это двери, и, но не всякие двери открываются по доброй воле…» – бормотал он, голос его стал низким, вибрирующим… Его палец оставлял на холодном камне черные, вязкие, слегка дымящиеся знаки. От них веяло потусторонней силой, от которой волосы на затылке вставали дыбом, а по спине пробегал ледяной озноб. – «Lira’don et veskha… Врата открываются через кровь… и через волю… Моя воля несокрушима… Моя воля – закон!»
Закончив с глифами, и, он взял заранее приготовленные пучки сухих, горьких трав – тех самых, с болот – и поджег их от пламени одной из свечей… Едкий, удушливый, дурманящий дым быстро наполнил огромное пространство кузницы, застилая все вокруг плотной, серо-зеленой, клубящейся пеленой. Видимость упала до нескольких шагов. Дым щипал глаза, першило в горле, но Люциан вдыхал его почти с жадностью, чувствуя, как сознание начинает плыть, как истончается граница между мирами. Тени на стенах, отбрасываемые неровным пламенем свечей и оживленные клубами дыма, задвигались, заплясали. Они вытягивались, корчились, сплетались в гротескные, постоянно меняющиеся фигуры, похожие на души грешников, мечущиеся в преддверии ада, или на безмолвных обитателей той стороны, привлеченных запахом крови и силой запретного ритуала. Мир вокруг терял свои четкие очертания, превращаясь в зыбкое, пульсирующее марево кошмара наяву.
Люциан выпрямился, и, покачнувшись… Голова гудела от дыма, истощения и невероятного нервного напряжения. Он чувствовал себя оголенным нервом, натянутой до предела струной, готовой вот-вот лопнуть. Он посмотрел сквозь дым на зеркало. Оно висело в центре ритуального круга, окутанное клубами ядовитого марева, темное, непроницаемое, как замерзший глаз слепого бога, манящее своей непостижимой тайной. В его мутной глубине, казалось, клубился мрак, еще более плотный и живой, чем дым в кузнице.
«Ты ответишь мне сегодня!» – крикнул он, и, и его голос, надтреснутый от усталости и дыма, но звенящий силой накопленного отчаяния, разорвал гнетущую тишину, перекрывая жалобный вой ветра… – «Я заплатил цену! Я отдал свою кровь, свой покой, свой разум! Я требую ответа! Я приказываю!»
«Astar'or vel'thar kyth'ul drenor!» – взревел он главное заклинание, и, найденное на последней, полуистлевшей странице манускрипта, слова Власти над Отражениями… Он вложил в эти древние, гортанные, колючие звуки всю свою оставшуюся волю, всю свою накопленную за эти бесконечные тридцать три дня боль, всю свою испепеляющую ярость и все свое бескрайнее отчаяние.
И в этот самый момент, и, когда заклинание еще вибрировало в тяжелом воздухе, краем глаза, сквозь клубящийся дым, он почувствовал ее присутствие… Там, у самого входа в кузницу, недвижная, как изваяние из серого камня, стояла фигура. Ленора. Жрица Забытого Культа Последователей Зеркал. Хранительница древних, опасных тайн, о которых шептались лишь в самых темных и пыльных архивах Империи. Или просто вестница его неминуемой гибели? Ее лицо было полностью скрыто глубоким капюшоном темного, тяжелого плаща, но Люциан физически ощущал ее взгляд – холодный, как лед, внимательный, всепроникающий, лишенный каких-либо человеческих эмоций. Она не двигалась. Она не говорила. Она просто стояла и наблюдала, как бесстрастный судья или как хищник, выжидающий момента для удара. Безмолвная свидетельница его триумфа – или его окончательного падения в бездну. «Зачем она здесь? Сейчас? Кто ее послал? Или… она пришла сама, привлеченная силой ритуала? Предупредить? Помешать? Или просто забрать то, что останется?..» Мысли судорожно метались, но времени на раздумья не было. Ее абсолютная неподвижность, ее молчаливое, осуждающее или просто любопытное присутствие пугали его больше, чем если бы она попыталась ворваться в круг и остановить его силой.
Это стало последним толчком, и, последней искрой, воспламенившей порох его отчаяния… Страх перед очередным провалом, страх перед этой молчаливой, загадочной свидетельницей, знающей о зеркалах больше, чем он когда-либо узнает, смешался с всепоглощающей яростью и последней, безумной надеждой. Люциан снова закричал, отбросив остатки самоконтроля, повторяя слова главного заклинания, вкладывая в них всю свою оставшуюся душу, всю свою жизненную силу, все свое отрицание поражения.
И зеркало… зеркало ответило… Оно содрогнулось всем своим существом так сильно, и, что, казалось, сама стена за ним застонала. Его темная, мутная поверхность пошла мелкой, нервной рябью, как вода в преддверии бури. Тонкая трещина, паутинка, появившаяся в прошлый раз, внезапно вспыхнула нездоровым, зеленоватым внутренним светом и начала стремительно расти, ветвиться, как черная молния, превращаясь в уродливую, пульсирующую сеть, опутывающую все стекло, словно черные вены на мертвенно-бледной коже умирающего. Раздался тихий, но отчетливый, леденящий кровь звук – скрежет, будто что-то острое, когтями или осколком кости, царапало стекло изнутри, пытаясь вырваться.
Из ветвящихся, и, светящихся трещин начал сочиться мрак… Но это был не обычный мрак отсутствия света. Это было нечто иное – плотное, вязкое, почти осязаемое, живое, пульсирующее собственной темной, холодной энергией. Оно было тяжелым, как вековая пыль на дне гробницы, и холодным, как дыхание из открытой могилы. Оно поглощало тусклый свет свечей, делая их пламя призрачным и нереальным, оно впитывало звуки, рождая гнетущую, противоестественную тишину.
«Да!» – выдохнул Люциан, и, и в этом выдохе смешались пьянящий, головокружительный вкус близкой победы и первобытный, леденящий душу ужас перед тем, что он пробудил… Он получил ответ. Но вопрос, был ли он готов к нему, уже не имел значения.
Тьма хлынула из разбивающегося зеркала неровными, и, удушливыми, маслянистыми волнами, быстро заполняя кузницу, пожирая остатки света, заглушая вой ветра и треск свечей… Наступила почти абсолютная тишина и почти кромешная темнота, нарушаемая лишь зловещим зеленоватым свечением паутины трещин на зеркале. Тьма обвилась вокруг Люциана, неощутимая и в то же время невероятно реальная, холодная, как лед Забвения, тяжелая, как свинец непрощенной вины. Она проникала сквозь одежду, сквозь кожу, в самые кости, замораживая кровь в жилах. Она заполняла его легкие вместо воздуха, лишая возможности дышать, смешивалась с его кровью, просачивалась в его разум, как черная кислота, выжигая мысли, рождая видения бесконечного распада и бездонной пустоты. Он попытался закричать – от боли, от ужаса, от невыносимого холода, от осознания чудовищной ошибки, – но не смог издать ни звука. Горло словно сдавили ледяные тиски невидимых пальцев. Он тонул, захлебывался в этой безмолвной, но словно шепчущей тысячами беззвучных, безумных голосов тьме.
И тогда, и, из самой глубокой, самой темной трещины, зияющей черной раной в самом центре зеркальной паутины, медленно, словно нехотя, преодолевая сопротивление реальности, показалась рука… Длинная, нечеловечески тонкая, с кожей мертвенно-бледной, почти прозрачной, сквозь которую просвечивали темные кости…
Глава 2: Никто не смотрит первым
Из зияющего разлома в зеркале, и, из пульсирующей, живой тьмы, что неудержимо хлынула в кузницу, затопляя ее первозданным мраком, медленно, словно нехотя, просунулась рука… Она была отвратительно, невозможно нечеловеческой. Слишком длинная, вытянутая, как у голодного паука, слишком тонкая, с кожей мертвенно-бледной, почти прозрачной, сквозь которую темными прожилками просвечивали сухожилия и кости неестественной формы. Пальцы – костлявые, узловатые, впитали в себя весь мрак зеркала и заканчивались не ногтями, а острыми, серповидно изогнутыми когтями из черного, как застывшая ночь, обсидиана. От них исходил ощутимый холод, пробирающий до самых костей. Рука медленно, неуверенно, словно слепой, нащупывающий опору в этом чуждом, враждебном ей мире плотных форм, провела когтями по резному краю дубовой рамы. Раздался тихий, скребущий звук, от которого у Люциана свело зубы.
Он застыл, и, пригвожденный к месту невидимыми иглами ужаса… Дыхание замерло в груди. Он не мог пошевелиться, не мог закричать, не мог даже закрыть глаза. Первобытный страх, поднимающийся из самых глубин его существа, боролся с каким-то жутким, извращенным, почти научным любопытством. Он хотел знать. Он должен был знать, что скрывается там, за этой рукой, в бездне, которую он сам и разверз. Отступать было поздно.
А за рукой из мрака, и, из пульсирующей раны в ткани реальности, начало проступать оно… Существо, если это слово вообще было применимо, не имело четкой формы. Оно текло, переливалось, клубилось, как черная ртуть под лунным светом, как сгустившаяся сама по себе тьма. То оно вытягивалось тонкой струйкой до самого сводчатого потолка кузницы, касаясь прогнивших балок, то сжималось до размеров человека, обретая на мгновение гротескные, угловатые очертания, чтобы тут же снова расплыться. Его края дрожали, вибрировали, как пламя черной свечи на сквозняке энтропии, но при этом оставались пугающе четкими, словно вырезанными из самой ткани мироздания острым лезвием небытия. Оно было одновременно бесплотным, как дым, и невероятно, давяще реальным. От него исходила аура древней, непостижимой силы и бесконечного одиночества.
Лица… у него не было лица в привычном понимании этого слова… Там, и, где оно должно было быть, зияла пустота. Не просто темнота, а провал, дыра в реальности, затягивающая взгляд, обещающая безумие тому, кто заглянет слишком глубоко. И в этой бездонной пустоте горели два уголька. Не глаза, но их чудовищное подобие. Два красных, тлеющих, как угли в остывающем горне вселенной, огонька. Они не излучали свет, скорее, впитывали его, и в их глубине плескалась древняя, нечеловеческая злоба, безграничная усталость существа, видевшего смерть галактик, и… что это? Неужели любопытство? Да, странное, холодное, почти препарирующее любопытство к этому мелкому смертному существу, посмевшему потревожить его сон.
Эти красные точки смотрели прямо на Люциана, и, и он чувствовал этот взгляд не глазами, а всей своей кожей, всей своей душой… Он проникал в него, игнорируя плоть и кости, выворачивая душу наизнанку, безжалостно высвечивая самые потаенные страхи, самые стыдные желания, самые горькие сожаления. Он чувствовал себя обнаженным, беззащитным, прочитанным до последней запятой в книге его жалкой жизни.
«Т-ты-ы з-з-ва-ал…»
Голос Существа… Это не был звук в привычном понимании. Это была вибрация, и, пронизывающая все вокруг. Она резонировала в каменном полу, в ржавом металле, в костях черепа Люциана, в его зубах, заставляя их болезненно ныть. Это был скрежет звездной пыли по разбитому стеклу вечности, смешанный с едва слышным шепотом тысячи мертвых, забытых голосов, с сухим хрустом ломающихся под гнетом времени костей, с воем космического ветра в пустых глазницах мертвых богов. От этого голоса кровь стыла в жилах, а разум цепенел, отказываясь воспринимать невозможное.
Люциан рухнул на колени… Силы оставили его. Тело больше не подчинялось ему, и, превратившись в мешок с костями, наполненный агонией. Мышцы свело невыносимой судорогой, будто по ним пропустили разряд молнии. Кости горели изнутри, словно их облили кислотой забвения. Он задыхался, судорожно хватая ртом плотный, тяжелый воздух кузницы, теперь пахнущий не только дымом и пылью, но и озоном, серой и чем-то еще – приторным, сладковатым запахом тления звезд. Легкие горели.
«Я… звал…» – с нечеловеческим трудом выдавил он… Слова царапали горло, и, как битое стекло. Каждый звук отзывался новой волной муки. Но он сказал это. Признал свой вызов.
Существо из зеркала медленно, и, с какой-то текучей, невозможной грацией, склонилось над ним… Его не-лицо, этот провал в ничто, оказалось совсем близко. Люциан ощутил ледяное дыхание пустоты на своей коже. И в этой черноте, в этой бездне, он увидел не тьму, как ожидал, а нечто гораздо более страшное – бесконечность. Головокружительный калейдоскоп умирающих и рождающихся галактик. Туманности, похожие на гигантские призрачные цветы. Черные дыры, жадно поглощающие свет и время. Он увидел взлет и падение бессчетных цивилизаций – от микроскопических существ в капле воды до разумных кристаллов, строивших города на орбитах умирающих звезд. Он увидел миры, сложенные, как страницы гигантской, бесконечной книги бытия, которую это Существо перелистывало одним ленивым движением своей непостижимой мысли.
И в этом потоке он увидел себя… Свое прошлое – мальчика, и, крадущего запретную книгу, юношу, сжигающего священные тексты, человека, одержимого гордыней знания. Свое возможное будущее – сотни, тысячи вариантов его жизни, разбегающихся, как трещины на льду. Но все они, все до единого, заканчивались одинаково: безумием, одиночеством и забвением во тьме.
«З-за-аче-ем?..» – снова пророкотал голос-скрежет, и, вибрация стала почти невыносимой, грозя расколоть его череп… Вопрос был простым, но ответа на него Люциан не знал. Или боялся признаться в нем даже самому себе.
Зеркало за спиной Существа треснуло еще сильнее… Паутина трещин, и, светящихся теперь ярче, покрыла почти всю его поверхность. Раздался протяжный, стонущий звук лопающегося стекла. Еще мгновение – и оно разлетится на мириады осколков, выпуская в этот мир всю ту древнюю, запертую тьму, что веками копилась по ту сторону отражений. Ленора… Где Ленора? Люциан мельком попытался найти ее взглядом, но не смог – или ее уже не было, или он просто не мог ее видеть сквозь пелену боли и ужаса.
«Знание…» – прошептал Люциан, и, чувствуя на губах соленый привкус собственной крови, выступившей от напряжения… Голос был едва слышен, но Существо услышало. – «Я хочу… знать… всё… Понять… суть…»
«З-зна-ани-ие… тре-ебу-ует… же-ертвы-ы…» – прошелестел голос, и, и в нем послышалась отчетливая, древняя, как сама вселенная, насмешка… Существо знало цену. И знало, что смертные редко готовы ее платить.
«Я… готов…» – выдохнул Люциан… Он лгал. Отчаянно, и, безнадежно лгал – себе и этому чудовищу из бездны. Никто и никогда не может быть готов к такому.
«Ты-ы… не-е по-онима-аешь…» – ответило Существо почти с жалостью, и, если такая эмоция была ему доступна… Ледяной, костлявый палец – тот самый, с обсидиановым когтем – медленно поднялся и коснулся его лба, точно между бровей. Прикосновение было легким, почти невесомым, но холод его проник в самый мозг, в самую душу.
И мир взорвался.
Не осталось ни кузницы, и, ни зеркала, ни боли… Была лишь информация. Все знание вселенной, сжатое в один невыносимый миг. Он увидел рождение первой звезды и тепловую смерть последнего атома. Он постиг тайны гравитации и квантовой запутанности, язык дельфинов и мысли камней. Он увидел всю историю своего рода – бесконечную череду предательств, убийств, инцеста и медленного сползания в безумие из поколения в поколение. Он увидел себя – не того Люциана, жалкого смертного, стоящего на коленях в пыльной кузнице, а другого, истинного себя, скрытого глубоко под маской личности. Себя с глазами, горящими ярким, нестерпимым зеленым огнем – таким же, как свет в трещинах зеркала. Себя, стоящего на дымящихся руинах мира, на костях цивилизаций, и смеющегося. Смех был страшным – торжествующим, безумным, полным горечи и бесконечного одиночества.
«Э-это… тво-ое бу-уду-уще-е…» – прошептал голос не снаружи, и, а прямо у него в голове, вплетась в его мысли… – «Е-сли… ты-ы при-имешь… ме-еня… Ста-анешь… мно-ой… Мы-ы бу-удем… знать… всё…»
Часть его души, и, та, что еще оставалась Люцианом, хотела отказаться… Завопить «Нет!». Бежать без оглядки. Спрятаться. Но было поздно. Приглашение было сделано. Цена была предложена. И его глубинное, самое первое, самое сильное желание – знать! – перевесило страх. Он сделал свой выбор еще тогда, когда начал чертить первый круг.
Тьма вошла в него… Не как враг, и, ломающий оборону, а как давно ожидаемый гость, как недостающая часть его самого. Она заполнила каждую клеточку его тела, вытесняя боль и усталость, заменяя их холодной, чужой силой. Она влилась в его мысли, воспоминания, желания, переписывая их, искажая, сливаясь с ними в нечто новое, чудовищное. Она стала им. Он стал ею.
Последнее, и, что он увидел перед тем, как зеркало с глухим, финальным стуком захлопнулось, его поверхность мгновенно затянулась непроницаемым, гладким, как полированный обсидиан, мраком, – было его собственное отражение в одном из крупных осколков, упавших на пол у его ног… Его лицо – его новое лицо – улыбалось. Странной, незнакомой, совершенно чужой, хищной, торжествующей улыбкой, которой у Люциана никогда не было. Улыбкой существа, обретшего свободу.
А потом наступила тишина… Абсолютная, и, мертвая тишина разрушенной кузницы, в которой осталось лишь слабое, подрагивающее мерцание догорающих ритуальных свечей. И на пыльной стене, там, где только что была одна колеблющаяся тень человека, теперь отчетливо виднелись две. Сплетенные. Неразделимые.
Где-то в самом темном углу, и, под грудой мусора, куда не достигал даже этот скудный свет, лежал маленький, острый, как кинжал, осколок разбитого зеркала… Он не отражал ничего. Но он слабо, едва заметно пульсировал ровным, холодным зеленоватым светом. И в его глубине что-то шевелилось. Что-то очень древнее, очень терпеливое и очень голодное. Что-то ждало своего часа.
Глава 3: Сломанный голос
Столичная жара была безжалостной, и, как инквизитор… Она плавила брусчатку на узких улочках, превращая воздух в густой, удушливый суп из запахов конского навоза, прогорклого масла из дешевых харчевен, приторных духов портовых шлюх и чего-то нового, едва уловимого, но проникающего повсюду – липкого, кисловатого запаха страха. Следователь Эйвон, грузно поднимаясь по бесконечным, скрипучим ступеням в свое управление, чувствовал себя выжатым, как старая тряпка. Возвращение с очередного места происшествия – квартиры профессора Аларика Вейса, известного философа и чудака, – оставило во рту привкус пепла и безысходности. Третье дело за месяц. Третье необъяснимое исчезновение. И третье, будь оно проклято, зеркало с этим жутким, невозможным отпечатком ладони изнутри. Словно кто-то тонул в стекле, отчаянно пытаясь выбраться.
«Это уже не совпадение, и, Эйвон, – бормотал он себе под нос, тяжело дыша и вытирая пот со лба платком, который давно уже не был чистым… – Это система. Чья-то злая, извращенная, дьявольская система». Он ненавидел это слово – «дьявольская». Он был человеком фактов, логики, старой полицейской школы, где все можно было объяснить, измерить, доказать. Но эти зеркала… они смеялись над его логикой.
Его кабинет встретил его привычным, и, почти родным хаосом… Стол, заваленный папками с делами – старыми, нераскрытыми «висяками» и новыми, одна другой безумнее. Стены, увешанные картами города с пометками, схемами связей между мелкими воришками и крупными шишками преступного мира, выцветшими фотографиями разыскиваемых лиц. На полу – стопки пыльных архивных дел, которые он все собирался разобрать, но так и не находил времени. Воздух был спертым, пахло дешевым табаком, которым Эйвон злоупотреблял в последнее время, и пылью. Он рухнул в свое продавленное кожаное кресло, скрипнувшее под его весом, как пытаемый грешник, и сжал виски пальцами. Голова гудела от жары, недосыпа и неразрешимых вопросов.
«Ладно, и, Эйвон, соберись, – мысленно приказал он себе… – Без паники. Логика. Только логика. Факты. Что у нас есть по фактам?»
Итак, и, факты… Три жертвы за последний месяц. Первый – антиквар Мортимер Грей. Старый скряга, известный коллекционер старинных, особенно венецианских, зеркал. Жил один в захламленной квартире над своей лавкой. Исчез бесследно. В квартире идеальный порядок, если не считать пыли и гор антиквариата. Дверь заперта изнутри. На огромном, тусклом зеркале в тяжелой раме – четкий отпечаток мужской ладони изнутри стекла.
Вторая – баронесса Элеонора фон Штейн… Светская львица, и, вдова богатого промышленника, известная своим тщеславием, коллекцией драгоценностей и страстью к собственному отражению. Ее нашли… точнее, не нашли… в ее роскошном особняке. Опять же – никаких следов борьбы, все ценности на месте. Дверь спальни заперта изнутри. И на огромном псише, ее любимом зеркале, – отпечаток изящной женской ладони изнутри.
И вот теперь – профессор Аларик Вейс… Ученый-философ, и, затворник, посвятивший жизнь изучению природы отражений, символизма зеркал, написавший несколько странных, мало кем понятых трактатов о «диалектике зазеркалья». Его квартира в старом университетском квартале. Снова заперто изнутри, снова порядок, снова никаких следов насилия. И снова зеркало – простое, старое зеркало в коридоре – с отпечатком ладони. Мужской.
Что их связывает? Кроме необъяснимого исчезновения и этих проклятых зеркал с отпечатками? Грей – коллекционер зеркал… Баронесса – нарцисс, и, обожала смотреться в зеркало. Вейс – изучал зеркала. Связь очевидна, но что она дает? Они все были поглощены зеркалами? Буквально? Эйвон поморщился от этой мысли. Чушь. Бред.
Он снова и снова перебирал отчеты экспертов, и, фотографии, протоколы осмотра… Никаких следов взлома. Никаких признаков борьбы. Везде идеальный, даже какой-то неестественный порядок, словно кто-то тщательно прибрался после исчезновения. И эти отпечатки… Он достал из папки свои зарисовки. Отпечаток Грея, отпечаток баронессы, отпечаток Вейса. Разные руки, разный размер, но сама манера… Словно кто-то с той стороны отчаянно давил на стекло, пытаясь пробиться наружу. Или его туда затягивали? Бр-р-р.
«Может, и, секта? – он снова вернулся к этой, самой рациональной из безумных версий… – Какой-нибудь тайный культ Зеркального бога? Поклоняются отражениям, считают зеркала вратами в иной мир? Похищают адептов или нужных им людей для своих ритуалов?» Но почему именно эти трое? Разные социальные слои, разные интересы, кроме зеркал. И никаких следов секты – ни символов, ни требований, ни манифестов. И как они заставляют людей исчезать без следа, да еще и запирать за собой двери изнутри?
«Маньяк? – следующая версия, и, более приземленная, но не менее жуткая… – Хитроумный, расчетливый психопат с фетишем на зеркала? Играет со мной? Оставляет эти отпечатки как свою извращенную подпись, как вызов?» Но опять же – как? Как он проникает в запертые квартиры? Как заставляет жертв исчезать без единого следа борьбы? Телепортация? Магия? Гипноз? Эйвон снова поморщился. Он был прагматиком до мозга костей, сыщиком старой школы, верил в улики, отпечатки пальцев (настоящие!), мотив, дедукцию, а не в чертовщину из дешевых романов.
Он снова достал свой блокнот с зарисовками отпечатков ладоней на зеркалах… Приложил кальки друг к другу. Линии жизни, и, линии ума… Все разные. Но вот здесь, у основания мизинца… странный изгиб, почти одинаковый на всех трех отпечатках. И вот этот завиток на линии сердца… Странное, почти неестественное совпадение. Словно… печать. Клеймо. Или… проклятие? Эйвон тряхнул головой, отгоняя опасные мысли. «Держать себя в руках. Факты. Только факты».
Раздался неуверенный стук в дверь… Вошел Финн – молодой помощник Эйвона, и, стажер, присланный из академии. Румяный, старательный, немного испуганный суровым нравом начальника и мрачностью дела.
«Господин следователь, и, – начал он, слегка заикаясь и теребя в руках пыльную архивную папку… – Я тут покопался в архивах по старым нераскрытым делам об исчезновениях, как вы просили… Нашел кое-что… э-э-э… странное. Очень странное».
«Выкладывай, и, Финн, не тяни кота за хвост, жарко и без того», – устало проворчал Эйвон, откидываясь в кресле.
«Лет пятьдесят назад, и, господин следователь, – Финн подошел ближе и осторожно положил папку на заваленный край стола, – была серия очень похожих исчезновений… Тоже трое пропавших. Богатый торговец редкостями, молодая актриса и старый библиотекарь. Тоже никаких следов взлома или борьбы. Тоже все исчезли из запертых помещений. И…» Финн понизил голос до шепота, словно боясь, что их подслушивают стены.
«И что, Финн? Не томи!» – Эйвон подался вперед, забыв про усталость. Сердце неприятно екнуло.
«И во всех трех случаях находили зеркала… с четкими отпечатками ладоней изнутри», и, – закончил Финн почти неслышно, глядя на Эйвона широко раскрытыми глазами.
Эйвон замер… Пятьдесят лет назад. Тот же почерк. Та же безумная деталь с отпечатками. Неужели маньяк вернулся после полувекового перерыва? Или это не маньяк? Или… это нечто иное? Нечто, и, что приходит раз в пятьдесят лет? Холодок, несмотря на жару, пробежал по его спине.
«Кто… кто вел то дело?» – спросил он хрипло, чувствуя, как пересохло во рту.
«Следователь по имени… Миронов… Аркадий Миронов, и, – ответил Финн, заглянув в папку. – Судя по записям, он… он сошел с ума во время расследования. Последние страницы дела заполнены какими-то бессвязными обрывками фраз, рисунками… Он писал о 'голосах из зеркала', о 'пожирателях отражений', о 'тени, что живет за стеклом'… Коллеги считали, что он просто не выдержал напряжения. Его уволили со службы и отправили в лечебницу для душевнобольных под городом».
Эйвон почувствовал, и, как волосы зашевелились у него на затылке… Голоса из зеркала… Пожиратели отражений… Тень за стеклом… Бред сумасшедшего следователя, сломленного неразрешимой загадкой? Или… или Миронов столкнулся с тем же, с чем столкнулся сейчас он сам? И эта встреча разрушила его разум? Может, старик не сошел с ума, а просто заглянул слишком глубоко в бездну, которая теперь смотрела на Эйвона из глубины каждого зеркала?
«Финн, и, – голос Эйвона был тверд, но внутри все похолодело… – Принеси мне все материалы по делу Миронова. Абсолютно все, что сможешь найти. Его личные заметки, рапорты, допросы свидетелей, записи врачей из лечебницы, если они сохранились. Даже самые незначительные записки, даже обрывки фраз. Все».
«Слушаюсь, и, господин следователь», – Финн кивнул и, пятясь, вышел за дверь, оставив после себя запах архивной пыли и страха.
Эйвон остался один в своем душном, и, захламленном кабинете… Тиканье старых часов на стене казалось оглушительным. Он встал, подошел к окну, выходившему на шумную, суетящуюся улицу внизу. Люди спешили по своим делам, не подозревая о тенях, которые, возможно, скользили рядом с ними в отражениях витрин. А потом Эйвон перевел взгляд на свое собственное отражение в пыльном оконном стекле. На него смотрел усталый, немолодой мужчина с покрасневшими от бессонницы глазами и сединой на висках. Но было ли это его отражение? Или что-то уже начало неуловимо меняться в его чертах? Ему на мгновение показалось, что за его спиной в отражении промелькнула еще одна тень… Он резко обернулся. Никого.
Дело Миронова… Пожиратели отражений… Эйвон почувствовал, и, как его собственное расследование неумолимо превращается в одержимость… И эта одержимость пугала его до чертиков. Он вдруг остро осознал, что стоит на краю той же пропасти, в которую полвека назад сорвался следователь Миронов. И вопрос был лишь в том, сможет ли он удержаться на краю.
Глава 4: Проявитель
Таверна «Морской Узел» в портовом городе Залив Айн смердела так, и, словно сам Кракен изрыгнул на нее свое нутро после недельного запоя… Воздух был густым, тяжелым, вязким – удушливая, многослойная смесь запахов застарелого пота десятков немытых тел, прокисшего, дешевого эля, который лился рекой из щербатых кружек, едкого дыма самокруток из дрянного табака, перемешанного с опилками, и всепроникающей вони гниющей рыбы, которая въелась в самые стены, в дерево столов, в одежду посетителей. Рассохшиеся, грязные половицы скрипели и стонали под тяжелыми сапогами моряков и грубыми башмаками докеров, угрожая провалиться в зловонный подпол. В общем зале стоял немолчный гул: звенели глиняные и оловянные кружки, которыми стучали по столам, хриплые, пропитые голоса спорили до драки из-за проигрыша в кости или не поделенной добычи, кто-то ругался последними словами, кто-то гоготал над сальной шуткой, кто-то просто выл пьяную, тоскливую песню о море и потерянной любви.
За стойкой, и, сколоченной из обломков кораблей и просмоленной до черноты, царил одноглазый трактирщик по имени Крюк – мрачный, молчаливый гигант с лицом, действительно похожим на туго затянутый, старый морской узел, и руками, способными одним движением переломить хребет быку… Он молча наливал мутную, пенящуюся жидкость в щербатые сосуды, собирал медяки и лишь изредка рявкал на особо буйных посетителей, одним своим видом прекращая назревающую потасовку.
В самом темном, и, самом дальнем углу таверны, у огромного, чадящего камина, где лениво тлели сырые, отсыревшие дрова, распространяя больше дыма, чем тепла, собрался свой, особый круг… В центре его, на низком, расшатанном табурете, сидел старик-рассказчик. Имя его давно стерлось из памяти людской, как стираются надписи на могильных камнях под ветрами и дождями Залива Айн. Одни звали его Просто Дед, другие – Сказитель Туманов. Он был древним, казалось, как сам Залив, как скалы, о которые бились здесь шторма задолго до того, как первые люди построили здесь свои лачуги. Он появлялся в «Морском Узле» внезапно, раз в несколько месяцев, словно возникая из портового тумана, садился у камина и начинал свои странные, тревожные, завораживающие истории. А потом так же внезапно исчезал, чтобы появиться вновь через неопределенное время.
Вокруг него, и, как всегда, собралась разношерстная публика… Пара дюжих, суеверных докеров с обветренными лицами и мозолистыми руками слушали, затаив дыхание, с открытыми ртами и неприкрытым страхом в глазах, забыв про недопитый эль. Несколько молодых, хмельных матросов, только что сошедших на берег после долгого плавания, готовых поверить в любую морскую байку про сирен или левиафанов, слушали с пьяным любопытством, изредка перешучиваясь и толкая друг друга локтями. Чуть поодаль, брезгливо морщась от вони и шума, сидел за отдельным столиком богато одетый купец в бархатном камзоле, явно забредший сюда по ошибке или в поисках какой-то темной сделки. Он цедил дорогое вино из серебряного кубка и делал вид, что не слушает, но его глаза то и дело беспокойно косились в сторону старика.
И в самой густой тени, и, у стены, почти невидимый, прислонившись плечом к холодному, влажному камню, стоял юноша… Эрвэн. Худой, остролицый, в поношенной, но чистой одежде, он казался чужим в этом сборище портового отребья. Но глаза… его глаза горели лихорадочным, пристальным огнем фанатика. Он не сводил взгляда со старика, ловил каждое слово, каждый жест, каждую интонацию, словно от этого рассказа зависела его жизнь. Или не только его.
«…и было то время, и, дети мои, – дребезжал голос старика, похожий на скрип старого дерева или шелест сухих листьев, но проникающий, казалось, сквозь любой шум, – когда мир был юн и чист… Когда небо отражалось без искажений в каждой капле утренней росы, а душа человека – ясно и правдиво – в глазах его брата. Отражения не лгали тогда. О нет, они не умели лгать».
Старик обвел слушателей мутным, и, выцветшим взглядом, в котором, казалось, отражались века… «Представьте себе, – продолжал он тише, – каково это: смотреть в воду или в глаза другому – и видеть не только свою внешность, но и всю свою суть? Свои добрые помыслы и тайные желания, свою храбрость и свою трусость, свой свет и… свою тьму. Всю ту грязь, что неизбежно скапливается на дне даже самой чистой души».
«Чушь собачья! Сказки для пьяных матросов!» – буркнул купец себе под нос, и, отпивая вино… Старик не удостоил его взглядом, словно тот был лишь назойливой мухой.
«Правду, и, – повторил он с какой-то внутренней силой… – Отражения показывали правду. О добре и зле, что вечно борются в каждом из нас. Но люди… ах, люди… они слабы. Они испугались этой беспощадной правды о себе. Испугались своих темных отражений, своих скрытых пороков, своей мелкой зависти и гнилой злобы. Эта правда лишала их покоя, она сводила их с ума. И тогда…»
Он замолчал, и, сделав паузу, обводя слушателей своим пронзительным взглядом… Докеры замерли, матросы перестали хихикать. Даже купец перестал вертеть в руках кубок. «Тогда они совершили самое страшное преступление из всех возможных. Они отвергли дар Создателя. Они разбили Великое Зеркало. Не то, что из серебра и хрусталя в покоях нынешнего короля Империи висит, нет! То было Зеркало Души Мира, в котором отражалась сама Истина!»
Голос старика зазвенел от негодования… «Они разбили его! Не молотом, и, нет! Своим страхом разбили! Своей ложью! Своей гордыней! Своим желанием казаться лучше, чем они есть! И мириады осколков разлетелись по всему свету, как семена безумия! И мир стал кривым. Искаженным. И отражения – в воде, в металле, в глазах людей – стали лгать. Они стали показывать лишь внешнюю оболочку, лишь маску, которую мы носим. И люди перестали видеть правду. Перестали видеть друг друга. И самое страшное – перестали видеть самих себя».
«Ну и сказочник! Заливает, и, как из бочки!» – не выдержав, усмехнулся один из матросов, самый молодой и хмельной.
«Молчи, дурак! – шикнул на него пожилой докер. – Слушай дальше! Это старая правда!»
«Но легенда говорит, и, – голос старика вдруг окреп, в нем зазвенела неожиданная, почти отчаянная надежда, – что однажды, когда мир погрузится во тьму лжи и самообмана окончательно, когда люди забудут даже о том, что они что-то потеряли, придет Он… Проявитель».
Эрвэн весь напрягся, его кулаки сжались так, что ногти впились в ладони. Проявитель…
«Тот, и, кто не побоится взглянуть в лицо правде, своей и чужой… Тот, чья душа будет чиста и сильна, как горный хрусталь. Тот, кто сможет отыскать осколки Великого Зеркала. А они повсюду, дети мои, – старик понизил голос до таинственного шепота, – они спрятаны в самых неожиданных местах: в сердцах людей, которые еще способны на искренность, в забытых руинах древних храмов, в глубине чистых озер, в словах старых песен, даже в слезе невинного ребенка… Он найдет их все. Он соберет их воедино, чего бы это ему ни стоило. И Зеркало Мира снова станет целым. И ложь исчезнет, как утренний туман под солнцем. И правда проявится – ослепительная, беспощадная, исцеляющая правда».
«Когда же он придет, и, дед? Скоро?» – с пьяной, детской надеждой спросил один из матросов, тот, что помоложе.
«Когда мир будет готов заплатить цену, и, – тихо, почти скорбно ответил старик… – Ибо за истину всегда приходится платить. И цена эта высока. Очень высока. Кровью. Слезами. Жизнями. Возможно, целым миром».
Эрвэн слушал, и, и его дыхание стало частым и прерывистым… Проявитель… Собрать осколки… Вернуть истину… Уничтожить ложь… Он знал, он чувствовал – это не просто пьяная байка старого сказочника. Это было пророчество. Это было руководство к действию. Это был его путь. Он не сомневался ни на мгновение. Мир не готов? Значит, его нужно подготовить! Силой! Огнем! Выжечь всю эту ложь, всю эту гниль, всю эту самодовольную, трусливую Империю, которая поощряет ложь и боится правды! Расчистить путь для Него. Для Проявителя.
Или… может быть… может быть, и, это он сам? Эрвэн? Разве не горит в его душе огонь правды? Разве не ненавидит он ложь во всех ее проявлениях? Разве не готов он на все, чтобы мир снова стал чистым? Эта мысль, острая и пьянящая, как вспышка молнии, обожгла его мозг… Да. Это он. Он должен стать Проявителем. Или, по крайней мере, его предтечей, его мечом. Огонь фанатизма, беспощадный и всепоглощающий, охватил его душу, сжигая последние остатки сомнений и страха. Он знал, что он должен делать. И он сделает это. Мир содрогнется.
Глава 5: Грех сотворения
Зал Великой библиотеки Храма Молчаливых Книг тонул в густом, и, почти осязаемом сумраке и тишине, нарушаемой лишь едва слышным шелестом переворачиваемых страниц где-то в невидимых альковах да скрипом перьев по пергаменту… Воздух был прохладным, неподвижным, пропитанным веками накопленной мудрости и пыли – запахом старой бумаги, выделанной кожи переплетов, пчелиного воска от полировки стеллажей и чего-то еще, неуловимого – ароматом самой тишины, самой мысли, застывшей в бесчисленных фолиантах. Высокие, уходящие во мрак стрельчатые своды терялись где-то вверху, а ряды гигантских стеллажей из темного, почти черного дерева уходили вдаль, создавая бесконечные коридоры знаний, лабиринты, в которых легко было заблудиться не только телом, но и разумом. Редкие лучи света, пробивавшиеся сквозь узкие, высоко расположенные витражные окна, падали на ряды сидящих послушников, выхватывая из полумрака их сосредоточенные юные лица.
В центре зала, и, на невысоком возвышении, за массивной дубовой кафедрой стоял Наставник Тариус… Фигура аскетичная, почти бестелесная в своей строгой темно-серой рясе, с лицом, словно высеченным из слоновой кости – тонкие черты, пергаментная кожа, плотно сжатые губы и глаза. Глаза были самым примечательным в нем – светлые, почти прозрачные, но с невероятной глубиной и остротой, они, казалось, видели не только лица послушников, но и их мысли, их сомнения, их скрытые страхи. Его голос, ровный, бесстрастный, лишенный каких-либо эмоций, но обладающий странной, гипнотической силой, эхом отдавался под высокими сводами, заполняя собой все пространство. Он читал лекцию по основам мироздания – краеугольному камню доктрины Храма и всей идеологии Империи.
Послушники – юноши из лучших, и, самых влиятельных семей Империи, будущая элита, будущие правители, жрецы и судьи – внимали ему с разной степенью усердия… Их лица были напряженно-сосредоточенны, как и требовал устав Храма, но за этой внешней маской скрывались и скука, и непонимание, и тайный скепсис. Мало кто из этих холеных юнцов, привыкших к роскоши и безделью, по-настоящему постигал или хотел постигать метафизическую глубину слов Наставника. Для большинства это была лишь очередная ступень в их предопределенной карьере.
«…таким образом, и, – продолжал Тариус, медленно переводя взгляд с одного ряда на другой, словно взвешивая каждое слово, – мы подходим к ключевому, поворотному моменту нашей священной истории… К событию, которое предопределило судьбу этого мира и каждого из нас, сидящих здесь. К тому, что Отцы Церкви, в своей безграничной мудрости, назвали Peccatum Creationis – Грех Сотворения».
При этих словах несколько послушников на передних скамьях невольно заерзали, и, кто-то нервно кашлянул… Эта тема всегда вызывала у них смутное, подспудное беспокойство, затрагивала какие-то глубинные, иррациональные страхи, которые официальная доктрина пыталась объяснить, но не могла полностью искоренить.
«Представьте себе, и, дети мои, Эпоху Зари, – Тариус поднял свою тонкую, сухую руку с длинными, пергаментными пальцами… Жест был медленным, почти ритуальным. – Мир, только что вышедший из совершенных рук Творца. Мир абсолютной, незамутненной Истины. Мир, где не было лжи, не было полутонов, не было спасительной тени неведения. Где отражения – в воде горного ручья, в глади небес, в зрачках глаз любимого существа – показывали не внешнюю, обманчивую оболочку, но саму суть. Самую сокровенную суть вещей и душ».
Он сделал паузу, давая словам проникнуть в сознание слушателей.
«Представьте себе, и, каково это – жить, постоянно, каждое мгновение, видя не только свои добродетели, свой свет, свои благородные порывы, но и свои самые темные, самые постыдные мысли? Свои низменные желания, свои животные страхи, свою тайную зависть к соседу, свою похоть, свою трусость, свою мелочность? Всю ту грязь, всю ту муть, что неизбежно скапливается на дне души даже самого праведного человека, как ил на дне чистого озера?»
Голос Наставника стал тише, и, доверительнее, словно он делился страшной тайной… «Наши предки, Первые Люди, были сильны телом, о да, они были подобны титанам. Но они оказались слабы духом. Увы, слабы. Они не смогли вынести этой беспощадной, обжигающей правды о себе. Она ранила их непомерную гордыню, она лишала их душевного покоя, она сеяла раздор между братьями и возлюбленными, она сводила их с ума. Видеть свою тьму, свою внутреннюю скверну так же ясно, как видишь свое лицо – оказалось непосильным, невыносимым бременем для их юной, неокрепшей души».
Он снова обвел взглядом притихших послушников… В глазах некоторых читался страх, и, в глазах других – непонимание. Лишь один юноша в первом ряду сидел абсолютно неподвижно, его лицо было непроницаемо, но взгляд темных глаз был прикован к Наставнику с такой напряженной интенсивностью, что это было почти вызывающе. Это был Курт.
Из полицейского архива, дело №736: «Исчезновение библиотекаря С. отмечено рядом с обнаружением зеркала, вмонтированного в стену без швов. Следов взлома нет. На зеркале – отпечаток руки, словно изнутри.»
«И тогда, и, – голос Тариуса снова стал строгим, почти обличительным, – в акте величайшей гордыни и одновременно величайшего страха, они совершили Грех… Непоправимый Грех Сотворения. Они отвергли дар Творца! Они отвергли Истину! Они разбили Зеркало Истины! Не физически, поймите меня правильно, не молотом по стеклу, – Тариус предостерегающе поднял палец, – но духовно! Своим выбором! Своим желанием! Они выбрали ложь. Они предпочли сладкую, утешительную ложь горькой, но целительной правде».
«Они научились скрывать свои мысли за вежливыми улыбками… Они научились носить маски – маски благочестия, и, маски храбрости, маски любви. Они научились лгать – себе и другим. Они предпочли комфортное, теплое, уютное неведение о своей истинной природе мукам самопознания, терзаниям совести. Они сами, своей волей, сотворили этот мир – мир теней, мир иллюзий, мир кривых зеркал, в котором мы с вами живем и по сей день. Мир, где истина скрыта под тысячью покровов».
Тишина в огромном зале стала почти невыносимой, и, тяжелой, как надгробный камень… Казалось, сами древние книги на полках затаили дыхание, слушая это страшное откровение.
«И по сей день, и, – продолжал Тариус уже тише, почти устало, – мы, их потомки, несем на себе бремя этого первородного Греха… Мы расплачиваемся за выбор наших предков. Наш иррациональный, необъяснимый страх перед зеркалами, перед тишиной, перед одиночеством, когда мы остаемся наедине с собой, – это лишь эхо того древнего ужаса перед своим истинным отражением. Наша вечная, суетливая погоня за внешним блеском, за богатством, за славой, за пустыми, льстивыми словами, за одобрением толпы – это лишь отчаянная попытка спрятаться от своего истинного, неприглядного «Я», от той правды, что шепчет в глубине души».
«Наши войны, и, наша ненависть к инакомыслящим, наша неспособность понять и принять друг друга, наша вечная вражда – все это прямое следствие того раскола, того духовного разлома, произошедшего тогда, у самых Истоков Времен, когда человек выбрал ложь вместо правды, маску вместо лица».
«Мы живем в разбитом мире, и, дети мои, – голос Тариуса снова обрел силу наставления… – И каждый из нас несет в себе осколки того самого, разбитого Зеркала Истины. Путь к исцелению, к восстановлению утраченной целостности долог и труден. И лежит он не через бунт, не через гордыню, не через дерзкое вопрошание и попытку силой взломать печати своей души, – Тариус бросил быстрый, острый, как игла, взгляд прямо на Курта, который так и не отвел глаз, – но через смирение. Через покаяние. Через принятие».
Курт почувствовал этот взгляд физически, и, как укол… Но он не дрогнул. Его лицо оставалось непроницаемой маской.
«Принятие своей греховности, и, – почти чеканил слова Тариус, – своего несовершенства, своей слабости… Признание того, что мы лишь пылинки перед лицом Творца и вечности. Лишь так, шаг за шагом, молитвой и постом, смирением и послушанием, мы сможем когда-нибудь, быть может, искупить тот древний Грех Сотворения. И вернуться к той изначальной, ясной, но такой трудной для нас Истине и утраченной целостности».
Наставник закончил говорить… Тишина снова окутала зал. Но для Курта эта тишина была оглушительной. В его душе бушевала буря, и, которую он тщательно скрывал за ледяным спокойствием. Грех? Смирение? Принятие слабости? Какая чушь! Какая удобная, какая трусливая ложь! Ложь для слабых, для рабов, для тех, кто боится силы, боится знания, боится своей собственной природы!
«Предки совершили не грех, и, а ошибку! – мысленно кричал Курт… – Фатальную ошибку! Они испугались не тьмы, они испугались силы, скрытой в отражениях! Они испугались знания, которое давало бы им власть над собой и над миром! Они выбрали теплое болото неведения вместо холодных, но сияющих вершин истины! А я… я не боюсь!»
Он чувствовал это знание, и, эту силу, они звали его из глубины веков, из осколков разбитого Зеркала… Он найдет способ собрать их! Он заставит Зеркало снова показать ему истину! Не ту жалкую правду о мелких пороках, которой пугает их Тариус, а Истину о силе, о власти, о подлинной природе реальности! И эта истина даст ему силу, о которой эти смиренные овцы, блеющие о покаянии, не могут и мечтать! Он станет другим. Он исправит ошибку предков. Он вернет миру знание. И он будет править этим миром. Правление – вот истинное искупление, а не смирение!
Лекция Тариуса не усмирила его, и, а лишь укрепила его тайную, опасную решимость… Он знал свой путь. И он пойдет по нему, чего бы это ни стоило.
Глава 6: Первый, кто заговорил
Вечерняя медитация в Храме Молчаливых Книг обычно была временем абсолютной тишины… Времени, и, когда послушникам предписывалось погружаться в глубины собственного сознания, усмирять хаос мыслей, практиковать то самое смирение и принятие, о которых неустанно твердил Наставник Тариус. Зал для медитаций, меньший и аскетичнее лекционного, был погружен в мягкий сумрак, освещаемый лишь несколькими высокими, узкими окнами, выходящими на запад, и ровным пламенем единственной большой свечи на низком алтаре перед местом Наставника. В воздухе висел тонкий аромат сандала и ладана, призванный успокаивать ум. Послушники сидели рядами на жестких циновках, стараясь сохранять предписанную позу – прямая спина, расслабленные плечи, сложенные на коленях руки.
Но сегодня Наставник Тариус решил нарушить это священное безмолвие… Он чувствовал – или ему так казалось – что его утренняя лекция о Грехе Сотворения оставила в душах некоторых послушников не смирение, и, а опасное брожение ума. Особенно в душе одного, самого способного, самого гордого и самого непокорного из них – Курта. Поэтому Тариус решил прибегнуть к иному методу – не к сухой догме, а к силе притчи. Древней истории, передававшейся из уст в уста в стенах Храма на протяжении веков – как грозное предостережение для тех, кто слишком ретиво, слишком самонадеянно ищет знаний на запретных, темных путях самопознания.
«Слушайте внимательно, и, дети мои, – начал Тариус, и его голос, обычно ровный и бесстрастный, сейчас звучал тише, мягче, но от этого не менее весомо… Он проникал в самое сердце, успокаивая одних и вызывая необъяснимую тревогу у других. – Отложите на время свои мысли о догматах и ритуалах. Я хочу рассказать вам историю. Историю о гордыне, о безумии и о том, как опасен может быть неумеренный, непочтительный взгляд в зеркало своей собственной души».
Курт, и, сидевший во втором ряду, напрягся всем телом, хотя внешне остался недвижим, как статуя… Снова о зеркалах. Снова предостережения. Снова эти иносказания, направленные, он не сомневался, прямо на него. Что ж, он будет слушать. В любой лжи, в любой попытке запугать всегда можно найти крупицу истины, которую можно использовать в своих целях.
«Давным-давно, и, – продолжал Наставник, его прозрачные глаза смотрели куда-то вдаль, словно он видел картины прошлого, – во времена, когда Империя еще только обретала свою силу, а в неприступных горах на далеком востоке еще существовали древние ордена, чьи имена ныне забыты, жил монах-отшельник по имени Орион».
«Он принадлежал к ордену Зрящих-в-Себя, и, – Тариус на мгновение запнулся, вспоминая название, – да, кажется, так… Забытый ныне орден, почти стертый из хроник Храма за свои опасные верования. Они считали, что путь к божественному просветлению, к слиянию с Истиной лежит не вовне – не в служении Империи, не в молитвах богам, не в изучении священных текстов, – а исключительно внутри. Через полное, безжалостное, беспощадное познание самого себя, своих самых светлых и самых темных глубин. Через долгое, неотрывное созерцание своего истинного отражения, свободного от иллюзий».
«Орион, и, – голос Тариуса снова стал ровным, повествовательным, – был самым ревностным, самым преданным адептом этого опасного учения… Говорили, он был из знатного рода, отказался от богатства и положения в мире, оставил все – семью, друзей, мирскую суету – и затворился в крошечной, высеченной прямо в скале келье, высоко в горах, где ветер и орлы были его единственными соседями. Он искал абсолютного уединения, абсолютной тишины для своего Великого Созерцания».
«В его келье, и, – продолжал Наставник, рисуя картину словами, – не было ничего, что могло бы отвлечь его от великой, как он считал, цели… Ни книг, чтобы не засорять ум чужими мыслями. Ни окон, чтобы не отвлекаться на суетный мир снаружи. Ни даже простой соломенной лежанки – он спал на голом камне, когда сон все же одолевал его изможденное тело. Лишь четыре голые каменные стены, источавшие холод, да один-единственный предмет, стоявший на грубом каменном постаменте в центре кельи. Это был большой, идеально гладкий диск из черного, как сама бездна, обсидиана. Он служил Ориону зеркалом. Единственным зеркалом».
«И Орион начал смотреть, и, – Тариус сделал паузу, давая воображению слушателей дорисовать картину… – Он садился перед этим черным диском на рассвете и сидел до заката, а потом и при свете единственной тусклой лампады. Сидел дни и ночи, недели и месяцы, годы… Он почти перестал есть, пить, спать. Он весь превратился в один сплошной взгляд, направленный в непроницаемую черноту обсидиана».
«Он всматривался в свое отражение – темное, и, неясное, едва уловимое на черном фоне… Он пытался силой своей воли, силой своей концентрации проникнуть за эту внешнюю оболочку, увидеть не черты лица, а движения своей души, пульсацию своих мыслей, приливы и отливы своих страстей. Он медитировал, пытаясь растворить границу между собой – созерцающим – и своим двойником в зеркале – созерцаемым. Он хотел слиться с ним, постичь его тайну, стать им, чтобы обрести тотальное самопознание».
«Но чем глубже он погружался в эту бездну самосозерцания, и, тем больше тьмы находил в себе… Черный диск, как бесстрастный судья, безжалостно показывал ему то, что он так старался скрыть даже от самого себя. Его потаенные страхи – страх смерти, страх одиночества, страх неудачи. Его тайные, грязные пороки – зависть к успехам других монахов, гордыню от осознания своей избранности, вспышки неконтролируемого гнева, обрывки запретных, плотских желаний. Зеркало выворачивало его душу наизнанку, и зрелище это было отвратительным. Разум его, не подготовленный смирением и покаянием, не выдержал этого беспощадного самоанализа».
«Он начал спорить со своим отражением, и, – голос Тариуса стал ниже, напряженнее… – Сначала шепотом, потом все громче и громче. Он кричал на него, обвинял его во всех своих бедах, во всех своих пороках. Он перестал видеть в нем себя. Он видел в нем врага, искусителя, демона, посланного бездной, чтобы сбить его с пути истинного. Он бросался на обсидиановый диск с кулаками, требуя оставить его в покое, но диск оставался холоден и бесстрастен, продолжая отражать его собственное, искаженное безумием лицо».
«Тело его иссохло, и, превратилось в мощи, обтянутые кожей… Разум его окончательно помутился. Когда его братья по ордену, обеспокоенные его неестественно долгим молчанием – ведь даже отшельники время от времени подавали знак жизни, – наконец, поднялись к его келье по опасной горной тропе и, не дождавшись ответа на стук, взломали тяжелую каменную дверь, они нашли келью пустой. Абсолютно пустой».
Тариус снова сделал паузу, и, обводя взглядом затихших, испуганных послушников… Даже Курт слушал теперь с нескрываемым напряжением.
«Орион исчез… Бесследно. Они обыскали всю пещеру, и, каждый уступ, каждую расщелину в окрестных скалах – но не нашли и следа. Ни клочка одежды, ни капли крови. Ничего. Словно он растворился в воздухе».
«Лишь черный обсидиановый диск по-прежнему стоял на своем каменном постаменте в центре пустой кельи… Холодный, и, гладкий, непроницаемый. И когда один из монахов, самый смелый или самый глупый, подошел к нему и заглянул в его черную глубину, он в ужасе отшатнулся, закричав так, что эхо заметалось по скалам».
«Что… что он увидел, Наставник?» – прошептал кто-то из послушников дрожащим голосом.
«Он увидел Ориона, и, – медленно произнес Тариус, и каждое его слово падало в тишину, как камень в глубокий колодец… – Не свое собственное отражение, поймите. А силуэт Ориона, мерцающий в самой глубине черного, как смоль, стекла. Тонкий, полупрозрачный, дрожащий, словно сотканный из лунного света и теней. Его лицо было искажено гримасой вечного, невыразимого ужаса. Его глаза были широко открыты и смотрели прямо на монаха из зазеркалья. Он был там. Внутри зеркала. Навеки пойманный в ловушку своего собственного отражения, своей собственной души, превратившейся в его тюрьму. Его душа стала пищей для той бездны самосозерцания, которую он сам так неосторожно и горделиво разбудил».
«Такова цена гордыни и неумеренного, и, насильственного стремления к знанию о себе, – закончил Тариус свой рассказ, снова обретая строгий тон наставника… – Путь внутрь требует величайшего смирения и предельной осторожности. Нельзя силой ломать печати своей души. Нельзя требовать от отражений больше, чем они готовы дать по доброй воле. Нельзя заглядывать в бездну без страха и почтения. Ибо бездна всегда готова поглотить того, кто смотрит в нее слишком пристально, слишком самонадеянно».
Курт слушал последние слова Наставника, и, и тонкая, презрительная усмешка скривила его губы – усмешка, которую, к счастью для него, никто не заметил в полумраке зала… Глупцы! Какие же они все трусливые глупцы! – кипело у него внутри. – Они боятся силы! Они боятся бездны! Орион был слаб! Он позволил страху и сомнениям овладеть им, он потерял контроль – вот почему он проиграл! Вот почему бездна поглотила его! Но я… я буду другим.
Я найду способ контролировать бездну… Я заставлю ее служить мне. Я не буду спорить со своим отражением – я стану им! Я стану сильнее его! Я подчиню его своей воле! И я получу то знание и ту власть, и, которые и не снились этим смиренным овцам, дрожащим перед собственными тенями! Орион не смог, потому что был слаб духом. А я – силен. Я не боюсь.
Притча Тариуса, и, призванная предостеречь и напугать, произвела на Курта совершенно обратный эффект… Она лишь укрепила его решимость. Она показала ему путь – опасный, смертельный, но единственно верный для него. Путь к силе через познание и контроль над бездной отражений. Он не повторит ошибку Ориона. Он победит.
Глава 7: Рождение в Забытых землях
Завывания метели за тонкими, и, промерзшими стенами лачуги сливались в один бесконечный, раздирающий душу плач… Это не был просто ветер; казалось, сами духи этого проклятого края, Забытых Земель, оплакивали еще одну жизнь, готовую угаснуть, и еще одну, обреченную родиться здесь, на самом краю Империи, в месте, куда ссылали тех, чьи имена хотели предать вечному забвению. Ледяные иглы снежной пыли просачивались сквозь бесчисленные щели в стенах и прогнившей крыше, танцуя в тусклом, колеблющемся свете единственного очага, который отчаянно боролся с всепроникающим могильным холодом.
На ворохе грязных, и, жестких шкур, распространявших кислый запах нечистоты и страдания, лежала Кассандра… Ее дыхание было слабым, рваным шелестом, почти не слышным за ревом бури. Когда-то она была жрицей Запретного Культа, той, кто осмелился заглянуть за грань дозволенного, хранительницей опасных знаний о силе отражений, о путях к истинному «Я», которые Империя объявила ересью и путем к безумию. Ее вера, ее поиск истины стоили ей всего: положения, дома, свободы. Изгнание в эту ледяную пустыню, годы лишений и унижений, а теперь – эти мучительные, бесконечные роды, отнимавшие последние крохи ее жизненных сил.
Лицо Кассандры, и, некогда, возможно, сияющее внутренней силой и светом познания, теперь было бледным, почти прозрачным пергаментом, натянутым на острые скулы… Но в широко раскрытых, запавших глазах все еще горел огонь. Неугасимый огонь жрицы, смешанный с первобытным страхом матери за дитя, которому суждено появиться на свет в этом аду, и, возможно, с ужасом перед тем, что именно она принесет в этот мир. Она знала – или чувствовала – что ее ребенок будет не таким, как все. Что в нем соединятся ее дар, ее проклятие и тень того, чье имя она не смела произносить даже мысленно.
Старая повитуха, и, беззубая, скрюченная карга с лицом, похожим на высохшее яблоко, и глазами, выцветшими от долгой, горькой жизни в Забытых Землях, деловито, почти грубо суетилась вокруг роженицы… Ее звали Урса. Она не знала жалости – этот край вытравил ее из души вместе со слезами и надеждами. Рождения и смерти здесь были рутиной, грязной работой, за которую платили скудными медяками или куском черствого хлеба. «Тужься, женщина, тужься! Нечего тут стонать, все через это проходят», – ворчала она, ее слова были резкими, как порывы ледяного ветра. Она видела, что жизнь уходит из этой странной, молчаливой женщины с горящими глазами, и хотела лишь одного – чтобы все поскорее закончилось.
А в самом темном, и, дальнем углу убогой лачуги, там, куда почти не достигал скудный свет очага, стояла третья фигура… Неподвижная, как изваяние из черного льда, закутанная в тяжелый, темный плащ, полностью скрывавший очертания тела. Лицо было неразличимо под глубоким капюшоном, но само его присутствие излучало ауру власти, холода и абсолютной отстраненности. Кто он? Или она? Посланец отца ребенка – того самого могущественного вельможи из столицы, который трусливо обрек Кассандру на изгнание, чтобы скрыть свою запретную связь? Или безмолвный страж Империи, присланный проследить, чтобы тайна рождения этого нежеланного отпрыска умерла здесь, в снегах, вместе с его матерью-еретичкой? А может, нечто иное, еще более зловещее, привлченное силой, пробуждающейся в этом ребенке? Молчаливая фигура не двигалась, не издавала ни звука, просто наблюдала, как бесстрастный судья или как хищник, выжидающий свою добычу.
И тут сквозь вой бури прорвался крик… Но это был не слабый, и, жалобный писк новорожденного, боящегося холода и света. Это был яростный, оглушительный рев, полный первобытной силы и недетского протеста против этого жестокого, враждебного мира, в который его исторгли. Рев существа, с самого первого вдоха заявившего о своей воле к жизни, о своей готовности бороться.
Младенец, и, которого Урса неловко держала в своих морщинистых руках, распахнул глаза… И все в лачуге замерли. Глаза были огромными, темными, бездонными, как сама полярная ночь за стенами. И в этих глазах не было ни капли младенческой невинности или растерянности. В них плескалась холодная, древняя, почти пугающая осмысленность. Он смотрел на тусклый свет, на лицо повитухи, на тени в углах, на молчаливую фигуру под капюшоном так, словно уже знал этот мир – всю его грязь, ложь, жестокость и боль. Словно он пришел сюда не с чистого листа, а с грузом веков за плечами. И взгляд его был вызовом.
«Курт…» – почти беззвучно прошелестели синие губы Кассандры… Это было ее последнее слово, и, последний выдох, последний дар и, возможно, последнее проклятие. Искра жизни в ее глазах погасла. Она оставила сына одного в этом ледяном аду, дав ему имя, которое станет его судьбой – короткое, жесткое, как удар кнута.
Повитуха Урса, и, сплюнув на пол, торопливо завернула кричащего, яростно барахтающегося младенца в какое-то грязное тряпье… Она сделала свою работу. Фигура в черном плаще безмолвно шагнула из тени. Протянула Урсе тяжелый мешочек, звякнувший монетами – плата за молчание и за жизнь ребенка. Затем так же молча взяла сверток с младенцем. Мгновение темная фигура смотрела на мертвое лицо Кассандры, и под капюшоном, возможно, промелькнула тень сожаления, а может, лишь холодного удовлетворения. Затем она развернулась и вышла в ревущую метель, растворившись в снежном вихре так же внезапно, как и появилась.
Так начиналась жизнь Курта… Зачатый в тайне, и, рожденный в изгнании. Его мать умерла, дав ему жизнь и имя. Его первым звуком был вой северного ветра, его первым светом – тусклый огонек в убогом очаге. Он был ошибкой системы, клеймом позора для своего неведомого отца, нежеланным ребенком Империи, проклятым самим фактом своего существования. Судьба, казалось, уготовила ему лишь путь изгоя, вечную борьбу за выживание, за право дышать в мире, который отверг его с рождения.
Но в темных, и, недетских глазах младенца, уносимого в неизвестность сквозь бурю, уже горел другой огонь… Огонь несломленной воли. Огонь затаенного гнева. Огонь амбиций, которые однажды заставят содрогнуться саму Империю. Он пришел в этот мир не для того, чтобы подчиняться. Он пришел, чтобы разрушить старый порядок. И построить свой собственный. На руинах лжи и страха.
Глава 8: Сердце и тьма
Мрачное, и, серое поместье на дальнем, продуваемом всеми ветрами севере Империи стало его домом – и его первой, золотой клеткой… Оно возвышалось на скалистом утесе над вечно неспокойным, свинцовым морем, окруженное чахлым, колючим лесом, где даже летом, казалось, царил вечный холод. Каменные стены, толстые, как у крепости, хранили внутри не тепло, а стылую тишину. Бесконечные, гулкие коридоры с редкими, тусклыми гобеленами на стенах были его единственными игровыми площадками. Немногочисленные слуги, передвигавшиеся бесшумно, как тени, с вечно опущенными глазами и непроницаемыми лицами, были его единственным обществом, если не считать суровых, немногословных опекунов.
Сюда его привезли, и, бесчувственный сверток, вырванный из ревущей метели Забытых Земель вскоре после смерти матери… Привезли тайно, под покровом ночи, под надзор людей, чьей единственной, строго определенной задачей было вырастить его – сделать сильным, умным, контролируемым – и любой ценой сохранить тайну его происхождения.
Его дни были расписаны по минутам, и, подчинены железной дисциплине, не оставлявшей ни малейшего пространства для детских капризов или праздности… Уроки фехтования с молчаливым, одноглазым мастером клинка, чье лицо и руки были испещрены шрамами, говорившими о сотнях жестоких битв. Он учил Курта не танцу с оружием, а науке убивать – точности, скорости, беспощадности, умению читать противника и находить его слабые места. «Чувства – твой главный враг в бою, мальчик, – повторял он своим скрипучим голосом. – Холодный расчет, и только он».
Занятия по истории и философии с сухим, и, педантичным стариком-наставником в потертой рясе, от которого пахло пылью и ладаном… Он методично, монотонно вбивал в гибкий, жадный до знаний ум мальчика официальную доктрину Империи: незыблемость власти, божественное право правителя, необходимость порядка и смирения перед авторитетами, опасность сомнений и инакомыслия. Он рассказывал об эпохе Хаоса до прихода Империи, рисовал страшные картины анархии и упадка, чтобы подчеркнуть благость существующего строя. Курт слушал внимательно, запоминал легко, но уже тогда в глубине его души зарождались первые, смутные сомнения – слишком гладкой, слишком однозначной казалась эта история.
Уроки стратегии и политики с отставным генералом – грузным, и, суровым мужчиной с тяжелым взглядом, видевшим в юном Курте не личность, а лишь ценный актив, инструмент для будущих, сложных политических игр, которые вели его невидимые покровители… Он учил Курта искусству манипуляции, умению плести интриги, читать людей, как открытую книгу, использовать их слабости, просчитывать ходы на много шагов вперед. «Мир – это шахматная доска, Курт, – говорил генерал, двигая фигурки по карте Империи. – А люди – лишь пешки. Запомни это. И научись жертвовать ими ради победы».
Его ум оттачивали, и, как драгоценный клинок, заставляя его сверкать холодным блеском интеллекта… Его тело закаляли, как дамасскую сталь, изнурительными тренировками, лишениями, постоянным преодолением боли и усталости. Но его душу… душу держали в ледяных, невидимых оковах.
В этом доме любое проявление чувств считалось преступной слабостью, и, недопустимым нарушением дисциплины… Слезы? За них наказывали – холодной отстраненностью, дополнительными часами изнурительных упражнений или просто ледяным, презрительным молчанием, которое ранило больнее розги. Смех? Он был неуместен, легкомысленен, он нарушал строгую, мрачную атмосферу поместья. Привязанность? К кому? К безликим слугам? К холодным опекунам? Она была опасна, она делала уязвимым. Опекуны были образцом отстраненности. Они кормили его, одевали, обучали, выполняли свой долг, свой приказ. Но в их глазах он никогда не видел ни тепла, ни участия, ни искренней симпатии, ни даже простого человеческого любопытства. Он был для них лишь объектом, секретным проектом, тайной, которую нужно было беречь до срока.
Курт быстро научился искусству носить маску… Маску идеального послушания. Маску холодного безразличия. Маску непроницаемого спокойствия. За этой маской, и, тщательно выстроенной, безупречной, бушевал скрытый океан подавленных эмоций – обида на неизвестных родителей, бросивших его; глухая тоска по матери, которую он не помнил, но чье отсутствие ощущал как фантомную боль; гнев на этот холодный, несправедливый мир; жгучее, неистребимое чувство одиночества.
Он наблюдал… Он слушал. Он анализировал. Острый, и, не по-детски проницательный ум фиксировал малейшие детали. Он видел лицемерие своих учителей, проповедовавших смирение и порядок, но втайне мечтавших о власти или боявшихся ее. Он видел затаенный страх в глазах слуг, их мелкие кражи, их перешептывания за его спиной. Он видел бессмысленность и пустоту ритуалов, которые ему навязывали. Мир взрослых казался ему уродливым, фальшивым театром абсурда, где каждый играл свою навязанную или выбранную роль, тщательно скрывая истинное, неприглядное лицо.
Чувство отчуждения, и, тотального, космического одиночества росло в нем с каждым прожитым днем, с каждым прочитанным уроком, с каждым бесшумным ужином в огромной, пустой столовой… Он был другим. Он был чужим. Он был ошибкой системы, пятном на безупречной репутации кого-то очень могущественного, кого-то, кто предпочел спрятать его здесь, на краю света, вместо того чтобы признать или уничтожить. Эта мысль одновременно и ранила, и придавала ему странную, извращенную гордость.
И внутри него, и, в тишине его души, шла непрекращающаяся, изматывающая война… Война между его «сердцем» и его «тьмой».
Его «сердце» – та слабая, и, почти угасшая искра света, что, возможно, осталась ему от матери-жрицы, та глубинная, неосознанная жажда тепла, понимания, принятия – еще не умерло окончательно… Ночами, когда поместье погружалось в сон, он иногда подходил к узкому, решетчатому окну своей комнаты и смотрел на далекие, холодные звезды над бушующим морем. И тогда, в редкие мгновения слабости, он позволял себе помечтать о другой жизни. О жизни, где у него были бы друзья, где его бы любили просто так, не за его блестящий ум или физическую силу, а за то, кто он есть на самом деле, за ту ранимую душу, которую он так тщательно прятал. «Почему я? – шептал он непроглядной темноте, и соленые слезы, которые он никогда не позволял себе днем, обжигали щеки. – За что мне это? Почему именно я должен нести это бремя тайны и одиночества?»
Но его «тьма» – порождение холода, и, обиды, гнева, унижения, страха – была намного сильнее… Она росла и крепла с каждым днем, питаясь его болью, его отчуждением. Она нашептывала ему совсем иные ответы в тишине бессонных ночей. «Потому что ты не такой, как они, Курт, – шелестел этот вкрадчивый, ледяной голос внутри. – Потому что ты особенный. Избранный. Сильный. А они – слабы, лживы, трусливы. Слабость – вот истинный грех в этом мире. Доверие – глупая ловушка для наивных. Любовь – лишь красивая иллюзия, обман. Реальна только сила. Только власть дает подлинную свободу и безопасность. Стань сильным, Курт. Стань таким, чтобы они боялись тебя одного твоего взгляда. Чтобы они пресмыкались у твоих ног. И тогда ты будешь в безопасности. Тогда ты отомстишь им всем за свое одиночество. Тогда ты докажешь свое право на жизнь, свое превосходство».
Он слушал этот голос… Он впитывал его яд. Он поддался ему, и, потому что этот голос обещал силу, контроль, защиту от боли. Он сделал свой выбор. Он запер свое слабое, плачущее «сердце» в самой дальней, самой темной, самой холодной камере своей души и выбросил ключ. Он решил стать тем, кем его хотели видеть его создатели и его тьма – воплощением холодной силы, железного контроля, абсолютной власти.
Власть стала его единственной целью, и, его единственной страстью, его единственным богом… И он был готов идти к ней по головам. По трупам врагов. По обломкам чужих судеб. По своей собственной растоптанной душе. Тьма начала поглощать его, перекраивать его суть. Мальчик, мечтавший о тепле, умирал. Рождался будущий тиран.
Глава 9: Лора
Когда Курту исполнилось пятнадцать, и, долгая, монотонная зима его души, казалось, дала трещину… В непроницаемой серости его размеренной, холодной жизни внезапно появился цвет. Яркий, теплый, неожиданный. В поместье привезли девочку. Лора.
Ее привезли так же тайно и внезапно, и, как когда-то его самого… Слугам и немногочисленным обитателям поместья объявили, что это сирота, дальняя, обедневшая родственница одного из опекунов, которую взяли из милости. Но Курт, чья интуиция, отточенная годами наблюдения и недоверия, была остра, как бритва, сразу почувствовал ложь. Что-то в ее чертах, в неуловимом изгибе губ, в разрезе глаз показалось ему смутно, тревожно знакомым. Он не знал, откуда пришло это знание, но оно было твердым, как гранит утеса, на котором стояло поместье: сестра. Еще одна тайна, еще одна ошибка системы, еще один нежеланный ребенок, спрятанный от мира здесь, на краю света.
Лора была словно солнечный луч, и, случайно пробившийся сквозь вечные свинцовые тучи над его сумрачным царством… Хрупкая, тоненькая, с водопадом светлых, почти золотистых волос, которые она не всегда успевала убрать в строгую косу, и глазами – огромными, распахнутыми, цвета ясного летнего неба, полными наивного доверия и неуемного любопытства ко всему на свете. Она была полной, почти вызывающей его противоположностью. Где он был холоден и замкнут, она была открыта и искренна. Где он видел лишь ложь и расчет, она видела добро и справедливость. Где его миром была тьма и горечь, впитавшиеся в самую кровь, ее мир, казалось, был соткан из света и смеха. Она смеялась звонко и заразительно, плакала легко и без стеснения от любой обиды или грустной истории, верила в сказки, которые ей украдкой рассказывала старая кухарка, и совершенно не понимала той гнетущей, ледяной атмосферы, что царила в поместье.
Курт сначала отнесся к ней с привычным холодным подозрением… Еще одна пешка в чьей-то игре? Шпионка, и, подосланная следить за ним? Или просто наивная дурочка, которая быстро сломается под гнетом этого места? Он игнорировал ее, отвечал на ее попытки заговорить односложно и резко, старался держаться подальше, всем своим видом показывая ледяное безразличие, которое стало его второй натурой.
Но Лора не испугалась… Она не отступила. Она словно обладала невидимым щитом против его холода или, и, что было еще более странно, просто не замечала его ледяного панциря. Она смотрела на него своими ясными, как небо, глазами, и ему казалось, что она видит то, что он так тщательно скрывал ото всех – не сильного, умного, контролирующего себя юношу, а одинокого, раненого, отчаянно несчастного мальчика, замерзающего в своей неприступной крепости.
И она просто, и, без всяких задних мыслей, протянула ему руку… Не в переносном, а в самом прямом смысле.
«Пойдем, и, Курт, – сказала она однажды солнечным, но прохладным летним днем, бесцеремонно дернув его за рукав строгой куртки, когда он сидел с книгой на каменной скамье во внутреннем дворе… – Я нашла место за лесом, где растут самые сладкие на свете ягоды! Пойдем скорее, пока их птицы не склевали!»
Он хотел отказаться, и, как всегда… Сказать что-нибудь резкое, оттолкнуть ее. Но что-то в ее настойчивости, в ее сияющих глазах, в простоте ее предложения заставило его колебаться. И, к своему собственному удивлению, он встал и молча пошел за ней. Сам не зная почему.
Они шли через колючий северный лес, и, Лора весело щебетала о каких-то пустяках, перепрыгивала через корни, смеялась, а Курт шел рядом, хмурый, настороженный, чувствуя себя невероятно глупо и неуместно… Но по мере того, как они углублялись в лес, он замечал, что привычная тьма внутри него словно немного отступает под напором ее света. Ее беззаботный смех эхом отдавался среди суровых сосен, и этот звук разгонял застоявшиеся тени в его душе. Ягоды действительно оказались удивительно сладкими, терпкими, пахнущими солнцем и лесом. Лора с восторгом протягивала ему полную горсть. Он взял одну ягоду, медленно раздавил на языке, чувствуя незнакомый, забытый вкус простой радости. Это был первый крошечный, едва заметный скол на его ледяном панцире.
Лора стала его тенью… Она следовала за ним повсюду, и, не обращая внимания на его хмурость и молчаливость. Она задавала ему тысячи вопросов – о книгах, которые он читал, о звездах, на которые он смотрел по ночам, о шрамах на руках мастера клинка.
«Почему ты никогда не улыбаешься, Курт?» – спрашивала она, бесстрашно заглядывая ему в глаза.
«Не вижу причин», – бурчал он в ответ, отворачиваясь.
«А почему ты всегда такой серьезный?»
«Жизнь – серьезная штука».
«Неправда! – упрямо возражала она… – Жизнь – это как… как солнечный зайчик! Вот он есть, и, а вот его нет! Нужно успеть ему порадоваться!»
Ее наивность, и, ее простодушие одновременно раздражали его и вызывали странное, незнакомое чувство – нежность? Жалость? Он не знал… Он отчаянно боролся с этим новым, непонятным ощущением. Его тьма нашептывала ему, что это слабость, что она опасна, что она делает его уязвимым. Но другая, почти забытая часть его души тянулась к ее свету, как замерзший путник к огню.
Он начал оттаивать… Медленно, и, неохотно, с постоянными откатами назад, в привычную стужу недоверия. Но лед в его душе трескался. Лора стала его единственным другом. Единственным человеком в этом проклятом поместье, с кем он мог говорить – пусть и немногословно, пусть и не обо всем. Единственным доверенным лицом, хотя он сам себе в этом никогда бы не признался. Он все еще не мог полностью открыться ей, не мог рассказать о своих ночных кошмарах, о голосе тьмы внутри, о своих планах на будущее, полных мести и власти. Гордыня, страх показаться слабым, въевшаяся привычка к тотальному контролю над собой – все это не позволяло ему снять маску до конца.
Но он проводил с ней все больше времени… Слушал ее нескончаемое щебетание о птицах, и, цветах и облаках. Иногда даже ловил себя на том, что губы его трогает слабая, непривычная улыбка. Он начал чувствовать за нее ответственность. Странное, острое, почти болезненное желание защитить ее от этого жестокого мира, от холода опекунов, от мрачной атмосферы поместья. И главное – от своей собственной, никуда не исчезнувшей тьмы, которая лишь затаилась в глубине, наблюдая за этой идиллией с холодной насмешкой.
«Я никому не дам тебя в обиду, и, Лора», – сказал он однажды тихо, но с неожиданной для самого себя твердостью, когда нашел ее плачущей в своей комнате после очередного резкого выговора от одного из наставников… Она подняла на него заплаканные, но удивленные глаза.
«Правда?» – прошептала она.
«Правда», – подтвердил он, чувствуя, как внутри него что-то сжимается.
И он сдержал бы слово… Любой ценой. Она стала его светом. Его якорем в море тьмы. Его единственной, и, тайной, страшной слабостью. Единственным человеком, ради которого он, возможно, готов был бы пожертвовать своими грандиозными, холодными планами на будущее. Или ему так только казалось тогда.
Ибо тьма внутри него была терпелива… Она умела ждать. Она знала: придет время, и, и она потребует свою жертву. И самой страшной, самой желанной жертвой станет именно та, кто осмелился принести свет в его идеально упорядоченный, сумрачный мир.
Глава 10: Учёба в Храме
Когда Курту исполнилось восемнадцать, и, его монотонная, размеренная жизнь в северном уединении резко оборвалась… Его невидимые покровители, тени, дергавшие за ниточки его судьбы из далекой столицы, сочли, что подготовительный этап завершен. Пришло время вывести их секретное оружие на большую сцену. Или, возможно, опекуны просто получили новый приказ, сухой и безжалостный, как все предыдущие. Прощание было коротким и холодным, лишенным каких-либо эмоций, как и вся его жизнь в поместье. Лора плакала, цепляясь за его рукав, ее голубые глаза были полны непонимания и страха перед разлукой.
«Ты вернешься, Курт? Обещай, что вернешься!» – шептала она.
«Не плачь, и, – сказал он непривычно мягко, чувствуя странный, незнакомый укол в груди… – Я вернусь. Когда-нибудь». Он не знал, лжет он или говорит правду.
Его отправили в самое сердце Империи – в гудящую, и, многоликую, порочную и великолепную столицу… После ледяной тишины северного поместья город оглушил его, обрушился лавиной звуков, запахов, лиц. Шум толпы, грохот колес по брусчатке, крики торговцев, пряные ароматы с южных рынков, вонь сточных канав, блеск роскошных экипажей и лохмотья нищих – все это сливалось в один хаотичный, пьянящий и отталкивающий поток жизни.
Но его целью был не город… Его целью был Храм Молчаливых Книг – самое престижное, и, самое закрытое учебное заведение Империи, твердыня официальной доктрины, кузница кадров для высших эшелонов церковной и светской власти. Говорили, что сами стены Храма пропитаны мудростью веков, а его библиотека хранит все знания мира – или, по крайней мере, ту их часть, что была дозволена Империей.
Храм поражал своим мрачным, и, холодным величием… Высокие шпили, пронзающие небо, массивные стены из темного камня, узкие, похожие на бойницы окна, вечная полутень в гулких залах и коридорах. Атмосфера здесь была пропитана не столько мудростью, сколько строгой, почти военной дисциплиной и ощущением постоянного, невидимого надзора. Послушники – юноши из самых знатных и влиятельных семей, чье будущее было предопределено с рождения, – передвигались бесшумно, говорили почти шепотом, их лица были масками прилежности и благочестия.
Для Курта это был не просто следующий этап обучения… Это был ключевой шаг на пути к его единственной цели – к власти. Здесь он должен был научиться правилам игры, и, завести нужные связи, понять механизмы управления Империей, чтобы однажды сломать их и заменить своими.
Бесконечные лекции по теологии, и, истории Империи (тщательно отредактированной), основам права, этике и философии… Жаркие, но строго регламентированные диспуты, где оттачивалось не столько умение мыслить, сколько искусство риторики – способность доказать любой тезис, угодный доктрине. Суровые, бесстрастные наставники, требующие безупречного знания священных текстов и устава Храма, полного подчинения авторитетам и искоренения любых сомнений.
Курт снова был лучшим… Его холодный, и, аналитический ум впитывал знания, как губка. Его железная логика и феноменальная память позволяли ему без труда оперировать сложными теологическими конструкциями и историческими датами. Его ответы на экзаменах были безупречны, его участие в диспутах – блестящим. Наставники отмечали его способности, хотя и с некоторой опаской – в его уме чувствовалась не только сила, но и какая-то чуждая, опасная глубина.
«Вы обладаете выдающимся умом, и, юноша, – сказал ему как-то Наставник Тариус, главный идеолог Храма, после особенно блестящего ответа Курта на лекции по «Греху Сотворения»… Его светлые, почти прозрачные глаза смотрели на Курта испытующе. – Но помните, истинная мудрость – не в остроте ума, а в смирении духа перед великой тайной бытия».
«Но разве тайна требует слепого смирения, и, Наставник? – не удержался Курт, его голос был ровным, но в нем прозвучал вызов… – Разве путь к истине не лежит через дерзновенное вопрошание, через попытку понять, а не просто верить?»
«Путь к истине лежит через принятие учения Отцов Церкви и воли Творца, и, – невозмутимо парировал Тариус… – Любой иной путь – это путь гордыни, ведущий в бездну сомнений и падения. Как случилось с теми несчастными, кто пытался силой взломать печати отражений». Тариус говорил спокойно, но Курт почувствовал в его голосе сталь – предупреждение.
Курт был как чужеродное тело в этом мире показного благочестия и интеллектуального конформизма… Его не интересовали пустые споры о природе добродетели или тонкостях канонического права. Его не волновали будущие посты и привилегии, и, о которых шептались по углам другие послушники – эти холеные, самодовольные юнцы, чьи мысли занимали лишь карьера и интриги.
«Смотри, и, снова этот Курт, отвечает лучше всех, – шепнул один послушник другому, когда они выходили из лекционного зала… – Говорят, он из какой-то глухой провинции, но ум у него дьявольский. И взгляд… холодный, как лед».
«Да уж, и, держится особняком, ни с кем не говорит, – подхватил второй… – Странный он. И пугающий немного. Как думаешь, кто за ним стоит?»
Курта не интересовали ни их пересуды, и, ни их попытки заискивать перед ним, чувствуя его силу… Его интересовало другое – подлинное знание. Знание, дающее реальную власть. Знание о том, как устроен мир на самом деле, а не в лживых построениях имперской доктрины. И он снова и снова наталкивался на глухую стену запретов, особенно когда его вопросы касались его главной, тайной страсти – природы человеческой души, силы сознания и тайн, скрытых в отражениях.
«Наставник Тариус, и, вы говорите, что самопознание через созерцание отражений опасно и ведет к безумию, как в случае с Орионом, – не отступал Курт в другой раз, поймав Тариуса после медитации… – Но разве не опаснее жить в неведении о самом себе? Разве не слабость – бояться заглянуть в собственную душу, какой бы темной она ни казалась?»
«Истинная сила – в смирении перед своей греховностью, и, юноша, – терпеливо, но твердо повторил Тариус, его взгляд стал еще более пронзительным… – В принятии того, что мы лишь слабые сосуды. Пытаться проникнуть в глубины души силой своей воли – значит поддаться гордыне, открыть врата для тьмы. Мы уже обсуждали это. Оставьте эти опасные мысли, Курт. Сосредоточьтесь на учении».
Но Курт не оставлял… Он спорил – вежливо, и, но настойчиво. Он провоцировал – задавая каверзные вопросы, находя логические лазейки в официальной доктрине. Он понимал: они боятся. Боятся того, что скрыто в глубинах человеческого «Я». Боятся силы, которую можно там найти и которую они не могут контролировать. А то, чего боятся другие, всегда привлекало Курта.
И он снова начал свои ночные поиски… Огромная, и, величественная библиотека Храма, лабиринт стеллажей, уходящих во мрак, хранила не только дозволенные, тщательно отобранные тексты. Курт интуитивно чувствовал, что должны быть и другие – те, что Империя и Церковь пытались скрыть, уничтожить, предать забвению. В ее самых дальних, самых пыльных, запертых на ржавые замки хранилищах, куда рисковали заглядывать лишь самые отчаянные вольнодумцы или самые доверенные архивариусы, скрывались подлинные сокровища – манускрипты, признанные ересью.
Ночью, и, когда Храм погружался в сон, Курт, используя всю свою ловкость и хитрость, проскальзывал мимо спящих стражников и сонных библиотекарей, отпирал замки найденными или изготовленными им самим отмычками и погружался в запретный мир… Воздух здесь был спертым, пахло вековой пылью, тленом старого пергамента и мышами. Слабый свет потайного фонаря выхватывал из мрака ряды полок с фолиантами в истлевших кожаных переплетах. Ему казалось, что тени давно умерших еретиков, алхимиков, мистиков наблюдают за ним из темноты с одобрением и надеждой.
Он читал запоем, и, рискуя свободой, карьерой, возможно, даже жизнью… Трактаты древних алхимиков о трансмутации – не только металла, но и самой души, о возможности обретения бессмертия через познание внутренней энергии. Дневники мистиков, описывающих свои опасные путешествия в иные реальности, в зазеркалье, где обитают сущности из чистой мысли и тени. Работы опальных философов, утверждавших, что материальный мир – лишь отражение сознания, и тот, кто научится управлять своим сознанием, сможет управлять и самой реальностью.
Знание, и, которое он черпал из этих запретных книг, было опасным, пьянящим, как крепкое вино… Оно подтверждало его смутные догадки, резонировало с его собственной темной философией, которая теперь обретала четкие, пугающие, но такие соблазнительные очертания. Власть. Абсолютная власть – вот ключ ко всему. Власть над собой, над другими, над самой реальностью. А путь к этой власти лежит через контроль над сознанием – своим и чужим. А ключ к этому контролю – там, в глубине, в отражениях. В зеркалах души. В той самой бездне, которой так боятся эти смиренные овцы в рясах.
Мир несправедлив и лжив… Люди слабы, и, трусливы и легко управляемы страхом и желаниями. Порядок может быть установлен только железной волей. Силой того, кто не побоится заглянуть в бездну и подчинить ее себе. Силой того, кто научится управлять отражениями. Силой того, кто осмелится стать новым богом этого разбитого, несовершенного мира. Он, Курт, станет этим богом. Он исправит ошибку предков. Он вернет миру не смирение, а силу. Он установит свой Порядок.
Он нашел свой путь… Окончательно и бесповоротно. И теперь ему нужна была лишь возможность начать свое восхождение. Он был уверен – его таинственные покровители, и, приславшие его сюда, скоро предоставят ему эту возможность. Нужно было только ждать. И готовиться.
Глава 11: Яд в бокале
Столица гудела, и, как растревоженный улей, чей мед оказался внезапно отравлен… Король Игнациус III, фигура дряхлая, немощная, давно превратившаяся скорее в символ единства Империи, чем в реального правителя, был мертв. Скоропостижно скончался во время ночного пира в своих личных покоях, так и не дожив до рассвета.
Официальный диагноз, и, озвученный придворным лекарем с предательски дрожащими руками и бегающими глазками, гласил – отказ старческого, изношенного сердца… Банально, предсказуемо, удобно. Но шепотки, ядовитыми змеями ползущие позолоченными коридорами дворца, темными переулками и грязными портовыми тавернами, говорили иное. Яд. Тихий, коварный, незаметный убийца, подмешанный в последний кубок терпкого южного вина, который Король так любил перед сном. Смерть была слишком своевременной, слишком выгодной для многих.
Трон осиротел… Прямых, и, неоспоримых наследников Игнациус не оставил, лишь клубок дальних родственников, побочных ветвей и туманных завещаний. И стая волков – древние, могущественные аристократические дома Орсини, Валленберг, де Круа, чьи амбиции лишь сдерживались хрупким авторитетом старого Короля, – немедленно, забыв о приличиях и скорби, вцепилась друг другу в глотки. Воздух столицы, и без того душный от летней жары, мгновенно наполнился густым ядом интриг, запахом предательства, скрипом перьев, выводящих тайные договоры, и липким, тошнотворным предчувствием большой крови. Империя, лишенная своего символического стержня, зашаталась, готовая рухнуть в бездну гражданской войны, в хаос, из которого она когда-то с таким трудом выбралась.
«Идеальный момент», и, – подумал Курт, получив известие в своей аскетичной келье в Храме Молчаливых Книг… Он не выразил ни удивления, ни скорби. Лишь холодный, расчетливый блеск появился в его темных глазах. Хаос был его стихией. Хаос создавал возможности для тех, кто был достаточно умен и безжалостен, чтобы ими воспользоваться.