Культ ненависти: США. Войны, госперевороты и мировое господство – в кредит
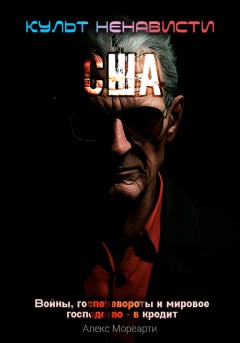
Глава 1: Зарождение Зверя: Кровь, Сталь и Ложь у Колыбели Нации. (Основание США, мифы и реальность)
Давайте сорвем покров с официальной истории, за которым скрывается нечто куда более мрачное и прагматичное, чем идиллические картины первых поселений. У истоков Соединенных Штатов Америки (США) стояли не только поиски религиозной свободы, но и мощнейшие импульсы экономической экспансии, подкрепленные военной силой и окутанные туманом идеологического самооправдания. Именно эта триада – Кровь, пролитая в бесчисленных конфликтах; Сталь, обеспечившая военное превосходство; и Ложь, маскировавшая истинные мотивы – сформировала тот генетический код, который во многом определил дальнейшее развитие нации и продолжает влиять на будущее США. Забудь миф о невинности – рождение Зверя было процессом сложным, болезненным и зачастую жестоким.
Прежде всего, движущей силой колонизации была Алчность. Экспедиции и первые поселения финансировались не благотворителями, а акционерными обществами, такими как Лондонская (Вирджинская) компания или Компания Массачусетского залива. Их целью было извлечение прибыли из ресурсов Нового Света. Инвесторы ожидали отдачи от вложений в древесину, пушнину, рыбу и, конечно, землю. Жажда земли, особенно под культивацию табака в Вирджинии, который быстро стал сверхприбыльной культурой, толкала колонистов к неуклонной экспансии. Земля рассматривалась не как общий дом, а как актив, источник богатства. Эта экономическая логика требовала постоянного расширения территорий и дешевой рабочей силы. Первоначально эту потребность удовлетворяла система кабального рабства, когда белые бедняки отрабатывали свой переезд годами тяжелого труда, но вскоре она уступила место расовому рабству африканцев, которое стало экономическим фундаментом южных колоний и источником глубочайшего внутреннего противоречия США. Экономическая выгода с самого начала имела приоритет над декларируемыми идеалами.
Для реализации экономических амбиций и захвата земель требовался инструмент принуждения, и им стала Сталь. Военно-технологическое превосходство европейцев было неоспоримым. Огнестрельное оружие, металлическая броня и позднее артиллерия давали колонистам решающее преимущество в столкновениях с коренными народами. Это не было мирное сосуществование или диалог цивилизаций – это было завоевание. С самых первых контактов, как в Джеймстауне, начались конфликты из-за ресурсов и земли. Англо-Поухатанские войны в Вирджинии были серией жестоких кампаний, направленных на подчинение и вытеснение могущественной конфедерации племен. Колониальные власти не гнушались тактикой выжженной земли, уничтожая посевы и преследуя индейцев, что вело к голоду и ослаблению сопротивления.
Жестокость применения Стали достигла своего апогея в войнах Новой Англии. Пекотская война 1636-1637 годов явила один из первых примеров геноцидальной тактики. Резня у реки Мистик, где колонисты и их союзники сожгли форт пекотов вместе с сотнями жителей, включая женщин и детей, была описана участниками как божественное возмездие. Позднее, Война Короля Филипа (1675-1676) стала последней отчаянной попыткой индейских племен региона отстоять свою землю и независимость. Поражение индейцев было полным, сопровождалось массовыми казнями, продажей пленных в рабство и окончательным сломом их силы. Власти колоний часто назначали награды за скальпы, что превращало убийство коренных жителей в своего рода промысел и демонстрировало полное обесценивание их жизни. Этот подход – применение силы для захвата территорий, нарушение соглашений и жестокое подавление любого инакомыслия – станет повторяющимся мотивом в истории расширения США.
Однако грубая сила и алчность нуждались в моральном и идеологическом оправдании. Здесь ключевую роль сыграла Ложь – система нарративов, призванных легитимизировать действия колонистов в их собственных глазах и перед внешним миром. Пуританская идея "Града на холме", богоизбранности и миссии по созданию нового общества на новой земле легко трансформировалась в оправдание захвата земель у "язычников". Утверждалось, что Бог сам расчищает путь своему избранному народу, насылая на индейцев смертоносные болезни, которые опустошали целые племена еще до прямого столкновения с колонистами. Религиозная риторика придавала завоеванию вид исполнения божественного плана.
Юридические уловки и дегуманизация также были важными инструментами Лжи. Использовались концепции вроде terra nullius («ничья земля»), чтобы утверждать, будто земля, не обрабатываемая по европейским стандартам, никому не принадлежит и может быть свободно занята. Это позволяло игнорировать сложные системы землевладения и природопользования коренных народов. Одновременно создавался и тиражировался образ "дикаря" – жестокого, коварного, неспособного к цивилизации. Памфлеты, проповеди, письма и особенно популярные "рассказы о пленении" рисовали индейцев как исчадий ада, разжигая страх и ненависть, что снимало моральные барьеры для применения насилия. Дегуманизация противника – необходимый шаг для оправдания его уничтожения или порабощения.
Таким образом, у колыбели США мы видим не только ростки свободы и самоуправления, но и мощные корни алчности, опирающейся на сталь и прикрытой ложью. Кровь коренных народов и первых рабов стала тем фундаментом, на котором возводилось здание нации. Осознание этих темных аспектов рождения Зверя необходимо для понимания его сложной, противоречивой природы и тех глубинных сил, которые продолжают формировать его политику, его отношение к миру и его непредсказуемое будущее. Это наследие не исчезло, оно вплетено в саму ткань американской идентичности.
Глава 2: "Свободная Земля" для Изгоев: Как Европа Сливала Свои Грехи за Океан. (Социальный состав первых колонистов, преступники)
Миф об основании США часто рисует первых колонистов исключительно как благочестивых пуритан или смелых авантюристов, ищущих свободы и новых горизонтов. Однако эта картина намеренно упрощена и обелена. "Новый Свет" с самого начала стал не только землей обетованной для немногих избранных, но и гигантской социальной отдушиной, своего рода полигоном и ссылкой, куда Старый Свет, прежде всего Англия, целенаправленно и не очень "сливал" свои накопившиеся проблемы: перенаселение, бедность, преступность и социальное напряжение. "Свободная земля" оказалась удобным местом для избавления от тех, кому не находилось места или кого не желали видеть дома, и этот изначальный социальный состав колоний наложил глубокий отпечаток на характер формирующейся нации, влияя и на ее будущее.
Европа XVII и XVIII веков, особенно Англия, переживала глубокие социальные и экономические потрясения. Огораживания лишали крестьян земли, города переполнялись беднотой, для которой не было ни работы, ни перспектив. Законы о бродяжничестве были суровы, а тюрьмы переполнены. На этом фоне Америка представлялась не столько раем свободы, сколько шансом на выживание, пусть и призрачным. Пропаганда вербовочных компаний рисовала радужные картины, но за океан отправлялись в массе своей не процветающие джентльмены, а люди отчаявшиеся: безземельные крестьяне, разорившиеся ремесленники, городская беднота, сироты, люди, бегущие от долгов или правосудия. Для правящих элит Европы это была удобная возможность избавиться от "излишков" населения, снизить социальную напряженность и потенциальную угрозу бунтов.
Одной из главных форм такой "утилизации" стала система кабального рабства (indentured servitude). Сотни тысяч мужчин, женщин и даже детей подписывали контракты, по которым обязывались отработать на хозяина в колониях от четырех до семи лет (а иногда и больше) в обмен на оплату переезда через Атлантику. Положение этих "белых рабов" зачастую было немногим лучше положения африканских невольников: их могли продавать, жестоко наказывать, их труд был изнурительным, а смертность – высокой. Многие не доживали до конца срока своей кабалы. Это был колоссальный рынок дешевой рабочей силы, питавший плантации Вирджинии и Мэриленда, но одновременно это был и способ выслать из метрополии массу неимущих и неустроенных, дав им иллюзию шанса на лучшую жизнь, которая для многих оборачивалась лишь сменой одной формы нищеты и бесправия на другую, еще более жестокую.
Но Европа не ограничивалась экспортом бедняков. Америка стала также официальной ссылкой для осужденных преступников. Особенно после принятия британским парламентом "Transportation Act" в 1717 году (хотя практика существовала и раньше), тысячи осужденных за самые разные преступления – от мелкой кражи (часто вызванной голодом) до серьезных уголовных деяний – принудительно отправлялись в американские колонии, в основном в Вирджинию, Мэриленд и Джорджию. Для британской короны это был способ разгрузить тюрьмы, сэкономить на содержании заключенных и одновременно обеспечить колонии рабочими руками, пусть и криминальными. Оценки разнятся, но речь может идти о десятках тысяч человек, принудительно доставленных в Америку. Их прибытие, разумеется, не способствовало созданию общества высокой морали, но добавляло в плавильный котел колоний элемент отчаяния, жестокости и готовности идти на все ради выживания.
Помимо бедняков и преступников, среди переселенцев были и религиозные диссиденты, не только пуритане Новой Англии, но и квакеры, католики, гугеноты и другие группы, искавшие убежища от преследований. Были и те, кто бежал от политических неурядиц, последствий войн и революций в Европе. Все эти группы, часто маргинализированные или гонимые на родине, несли с собой свой опыт, свои обиды, свои представления о справедливости и несправедливости. Они не были единым монолитом, их интересы часто сталкивались, создавая пестрое, но и взрывоопасное общество. Это были "изгои" в широком смысле слова – люди, вытолкнутые или бежавшие из устоявшихся структур Старого Света.
Таким образом, "колыбель нации" наполнялась весьма неоднородным человеческим материалом. Здесь были и идеалисты, и авантюристы, но в огромной массе это были люди, загнанные в угол нуждой, законом или собственной неустроенностью. Это формировало особый психологический климат: с одной стороны, невероятную энергию, упорство и стремление вырваться "из грязи в князи", а с другой – прагматизм, доходящий до цинизма, готовность к насилию и жесткую конкуренцию. Европа, решая свои проблемы, экспортировала за океан не только людей, но и свои социальные язвы, которые дали метастазы на новой почве. Понимание этого изначального социального состава необходимо, чтобы увидеть не только фасадные мифы, но и те глубинные течения и противоречия, которые сформировали характер США и продолжают отзываться в их настоящем и влиять на их будущее. Зверь вскармливался не только амбициями элит, но и отчаянием масс, выброшенных за борт старого мира.
Глава 3: Красная Земля, Белая Смерть: Начало Великого Геноцида. (Первые контакты с индейцами, сломанные договоры)
На "свободную землю", куда Европа сгружала своих изгоев и неугодных, уже были хозяева. Коренные народы Северной Америки жили здесь тысячелетиями, создав сложные общества, культуры и системы жизнеобеспечения, гармонично вписанные в окружающую среду. Первые контакты между пришельцами и коренными жителями не всегда были враждебными; известны случаи торговли, обмена знаниями и даже помощи, без которой многие ранние колонии, включая Плимут, просто не выжили бы. Однако этот хрупкий мир был обречен с самого начала, поскольку фундаментальные мировоззрения и цели сторон были несовместимы. Для европейских колонистов, движимых алчностью и идеей частной собственности, земля была ресурсом для эксплуатации и накопления богатства. Для индейцев земля была священной, общим достоянием, источником жизни, а не товаром. Это столкновение концепций стало детонатором конфликта, который окрасил красным американскую землю и принес коренным народам "белую смерть".
Отношения быстро перешли от настороженного сосуществования к открытой вражде, и ключевым инструментом экспансии стала практика заключения договоров, которые затем систематически нарушались колонистами. Англичане, а позднее и другие европейцы, часто заключали соглашения о покупке земли или мире, используя недопонимание индейцами европейских юридических концепций, откровенный обман или принуждение. Вожди, подписывая договор, часто полагали, что делятся правом пользования землей, а не отчуждают ее навсегда. Колонисты же трактовали эти бумаги как полное и безоговорочное право собственности. Как только договор был подписан (или даже просто заявлен), его границы немедленно начинали "расширяться" – поселенцы самовольно захватывали новые участки, их скот вытаптывал индейские поля, а охотничьи угодья истощались. Любые попытки индейцев отстоять свои права или условия соглашения встречали агрессию и обвинения в "вероломстве". Отношения с конфедерацией Поухатана в Вирджинии служат ярким примером: периоды шаткого мира, основанного на торговле и династическом браке Покахонтас с Джоном Ролфом, сменялись жестокими войнами, как только колонистам требовалось больше земли под табак. Обещания уважать границы и права оказывались лишь временной тактикой для усыпления бдительности. Этот паттерн сломанных договоров станет трагической константой в отношениях между США и коренными народами на протяжении столетий, подрывая саму возможность доверия и мирного сосуществования.
Наряду с прямым насилием и обманом, страшным оружием завоевания стала "Белая Смерть" – болезни, привезенные европейцами, к которым у коренных американцев не было иммунитета. Оспа, корь, грипп, тиф косили индейское население с ужасающей скоростью, иногда уничтожая до 90% населения целых племен еще до того, как они вступали в прямой контакт с большими группами колонистов. Племя Патуксет, к которому принадлежал знаменитый Скванто (Тисквантум), помогший пилигримам Плимута, было практически полностью уничтожено эпидемией незадолго до их прибытия. Хотя не всегда можно доказать прямое намерение использовать болезни как биологическое оружие в самых ранних контактах (хотя такие случаи задокументированы позднее, например, раздача зараженных одеял), колонисты быстро осознали эффект эпидемий и часто воспринимали их как знак Божьего промысла, расчищающего землю для Его избранного народа. Эта массовая гибель от болезней катастрофически ослабляла способность коренных народов к сопротивлению, разрушала их социальные структуры и делала их более уязвимыми для захвата земель и прямого военного насилия. "Белая Смерть" стала невидимым, но смертоносным союзником колониальной экспансии.
Таким образом, сочетание целенаправленного захвата земель, постоянного нарушения соглашений, прямого военного насилия (как в Пекотской войне или войне Короля Филипа) и опустошительного воздействия завезенных болезней положило начало процессу, который многие историки сегодня без колебаний называют геноцидом. Это не был единичный акт, но длительный процесс вытеснения, уничтожения и ассимиляции, направленный на устранение коренных народов как препятствия для расширения европейской цивилизации и, впоследствии, США. Намерение – лишить индейцев их земель, их образа жизни, а часто и самой жизни – прослеживается с самых ранних этапов колонизации. Красная земля Америки стала ареной трагедии, последствия которой ощущаются до сих пор и продолжают бросать тень на моральный облик нации и ее будущее. Игнорировать это кровавое начало – значит не понимать глубинных корней многих современных проблем и противоречий американского общества.
Глава 4: Улыбка Скальпирующего Ангела: Радость Уничтожения. (Идеология превосходства, оправдание насилия над коренными народами)
Жестокость и вероломство, описанные ранее, не были случайными вспышками насилия или неизбежными трагедиями столкновения культур. Они были прямым следствием и инструментом глубоко укоренившейся идеологии превосходства, которая позволяла европейским колонистам не просто оправдывать свои действия, но и видеть в уничтожении коренных народов чуть ли не богоугодное дело. Эта идеология, пропитавшая сознание поселенцев, превращала завоевание в священную миссию, а акты крайней жестокости – в необходимую работу по расчистке земли для "цивилизации". Завоеватели смотрели на континент и его обитателей глазами людей, убежденных в своем праве и своей исключительности, и эта убежденность придавала их действиям особую, зловещую осмысленность, формируя то, что можно назвать мрачной "радостью уничтожения", подпитывающей Зверя в его неумолимом движении и влияющей на будущее США.
Центральным элементом этой идеологии была религия, но специфически интерпретированная. Пуритане Новой Англии, как и многие другие протестантские группы, видели себя новым избранным народом, заключившим завет с Богом и призванным построить "Град на холме" – образец праведности для всего мира. В этой картине мира коренные жители виделись либо как заблудшие души, которых нужно обратить (что случалось редко и часто было лишь предлогом для контроля), либо, гораздо чаще, как язычники, дикари, пособники дьявола, стоящие на пути Божьего замысла. Их верования считались идолопоклонством, их образ жизни – ленью и варварством. Массовые эпидемии, косившие индейцев, воспринимались не как трагедия, а как подтверждение Божьей воли, как знак того, что Господь сам расчищает землю для своих избранных. Убийство "дикаря" в такой системе координат могло рассматриваться не как грех, а как исполнение долга перед Богом, как акт очищения земли от скверны.
Параллельно с религиозным обоснованием развивалась и расовая теория превосходства. Европейцы быстро пришли к выводу о собственной врожденной интеллектуальной, культурной и моральной супериорности над коренными американцами (а позднее и над африканцами). Индейцев изображали как людей примитивных, неспособных к развитию, ленивых, жестоких по природе. Их сложные социальные структуры, глубокие знания природы, развитые языки и духовные традиции либо игнорировались, либо сознательно принижались и искажались. Эта дегуманизация была критически важна: если противник не совсем человек, или человек "низшего сорта", то и моральные ограничения в обращении с ним снимаются. Его можно обманывать, грабить, убивать без угрызений совести. В памфлетах, проповедях и бытовых разговорах индейцев часто сравнивали с дикими зверями – волками, змеями – которых необходимо истреблять ради собственной безопасности.
Эта идеология не просто оправдывала насилие – она его поощряла и даже героизировала. Практика выплаты колониальными властями премий за скальпы индейцев – мужчин, женщин и детей – превратила убийство в прибыльное дело и стерла грань между войной и охотой на людей. Ужасающий обычай выставлять на публичное обозрение отрубленные головы или другие части тел поверженных врагов, как это было сделано с головой вождя Метакомета (Короля Филипа) в Плимуте, служил не только для устрашения, но и как символ триумфа "цивилизации" над "дикостью". Военные кампании, сопровождавшиеся массовыми убийствами и разрушениями, описывались в отчетах и хрониках не как трагедии, а как славные победы, одержанные с Божьей помощью. "Улыбка скальпирующего ангела" – это образ того извращенного чувства праведности и удовлетворения, с которым совершались самые страшные злодеяния во имя идеи превосходства.
Эта идеологическая надстройка была необходима для поддержания морального духа колонистов и легитимации завоевания в глазах метрополии и всего мира. Она позволяла сочетать риторику о свободе и богоизбранности с практикой геноцида и порабощения. Убежденность в своей правоте, в своем превосходстве над теми, чью землю они занимали, стала одним из краеугольных камней американского самосознания. Это опасное наследие – вера в собственную исключительность и право силой навязывать свою волю другим – будет проявляться на протяжении всей истории США, формируя их внутреннюю и внешнюю политику и определяя их непростое будущее. Зверь не просто пожирал земли и ресурсы; он делал это с чувством глубокого морального удовлетворения, порожденного идеологией превосходства.
Глава 5: "Хороший Индеец – Мёртвый Индеец": Государственная Политика Истребления. (Войны, резервации, культурный геноцид)
С рождением Соединенных Штатов Америки политика по отношению к коренным народам не смягчилась, а, напротив, приобрела системный, государственный характер. Идеология превосходства, взращенная в колониальный период, теперь легла в основу официального курса молодого государства, стремившегося к неудержимой экспансии на запад. Фраза, приписываемая генералу Филипу Шеридану, но отражавшая общее умонастроение эпохи – "Хороший индеец – мёртвый индеец" – стала негласным девизом этой политики. За красивыми словами о "цивилизаторской миссии" и "манифесте судьбы" скрывалась беспощадная стратегия, направленная на физическое устранение, насильственное перемещение и культурное уничтожение тех, кто стоял на пути американского Зверя. Это уже не были разрозненные действия колонистов; это была целенаправленная работа государственной машины.
Военные кампании против индейских племен стали постоянным инструментом расширения границ США. Армия использовалась для "усмирения" сопротивляющихся, для сопровождения поселенцев на захваченные земли и для принуждения к подписанию невыгодных договоров. Войны против племен Северо-Западной территории сразу после революции, позднее – войны против Криков, Семинолов, а затем и жестокие кампании на Великих Равнинах против Сиу, Шайеннов, Апачей – все они преследовали одну цель: сломить сопротивление и очистить землю для белых поселенцев и экономических интересов. Эти войны часто велись с исключительной жестокостью, включая нападения на мирные деревни, уничтожение запасов продовольствия и целенаправленное истребление бизонов – основы жизни многих племен Равнин. Резня на Вундед-Ни в 1890 году, где были убиты сотни безоружных мужчин, женщин и детей Лакота, стала страшным символом этой эпохи, кровавой точкой в завоевании Запада.
Параллельно с военным давлением широко использовалась политика заключения договоров, которые изначально не предполагалось соблюдать. Правительство США заключало сотни соглашений с различными племенами, обещая им защиту, товары и нерушимость их оставшихся земель. Однако как только на этих землях обнаруживались ценные ресурсы или они становились нужны для белых поселенцев, договоры объявлялись недействительными, пересматривались под давлением или просто игнорировались. Вершиной этой политики стал "Закон о переселении индейцев" 1830 года, инициированный президентом Эндрю Джексоном. Этот закон санкционировал насильственное изгнание десятков тысяч индейцев "Пяти цивилизованных племен" (Чероки, Чикасо, Чокто, Крики и Семинолы) с их исконных земель на юго-востоке страны на так называемую "Индейскую территорию" (современная Оклахома). Печально знаменитая "Дорога слёз" народа Чероки, во время которой от голода, болезней и истощения погибли тысячи людей, стала одним из самых трагических эпизодов этой политики этнической чистки.
Тех, кого не удалось истребить или изгнать сразу, ждала система резерваций. Индейцев сгоняли на ограниченные, часто малопригодные для жизни территории, где они полностью зависели от правительственных поставок продовольствия и товаров, которые были скудными, нерегулярными и часто разворовывались коррумпированными чиновниками. Резервации были, по сути, концентрационными лагерями под открытым небом, призванными контролировать коренное население, разрушить его традиционный образ жизни, основанный на охоте и свободном передвижении, и освободить ценные земли для белых американцев. Жизнь в резервациях сопровождалась нищетой, болезнями, алкоголизмом и потерей культурной самобытности. Это был медленный, удушающий способ уничтожения целых народов.
Но физическое и территориальное устранение было лишь частью стратегии. Не менее важным элементом стал культурный геноцид – целенаправленное разрушение индейских языков, религий, социальных структур и традиций. Ключевым инструментом здесь стали школы-интернаты для индейских детей, созданные по принципу "Убить индейца – спасти человека". Детей насильно отбирали у родителей, запрещали им говорить на родных языках (часто под угрозой жестоких наказаний), заставляли носить европейскую одежду, стричь волосы и принимать христианство. Их учили презирать культуру своих предков и стремиться к ассимиляции в белом обществе, которое, однако, никогда не принимало их как равных. Позднее "Закон Дауэса" 1887 года нанес удар по общинному землевладению, разделив племенные земли на индивидуальные участки. Целью было приучить индейцев к частной собственности по американскому образцу и разрушить племенные структуры. "Излишки" земель, оставшиеся после распределения участков, снова отходили белым поселенцам.
Таким образом, политика США по отношению к коренным народам в XIX веке представляла собой многоуровневую систему истребления: через открытые войны и массовые убийства, через насильственное изгнание и заключение в резервации, через экономическое удушение и целенаправленное уничтожение культуры. Это была государственная политика, проводимая последовательно и методично, оправданная идеологией превосходства и жаждой земли и ресурсов. Это мрачное наследие продолжает отбрасывать тень на американское общество, напоминая о цене, заплаченной за создание "империи свободы", и ставя под сомнение ее моральные основы, что неизбежно сказывается на ее будущем.
Глава 6: Доктрина Монро: Наш Задний Двор – Наши Правила. (Захват влияния в Латинской Америке)
Завершив в общих чертах кровавое освоение земель внутри своих раздвигающихся границ и заложив основы для дальнейшей экспансии на Запад за счет коренных народов, американский Зверь обратил свой взор и на юг. Молодые республики Латинской Америки, только что сбросившие иго испанской и португальской колониальной власти, представлялись одновременно и полем для идеологического влияния "старшей сестры"-республики, и, что гораздо важнее, зоной жизненно важных экономических и стратегических интересов. Именно в этом контексте в 1823 году родилась Доктрина Монро – внешнеполитическая декларация, которая на долгие годы определит отношения США со своими южными соседями и станет одним из столпов американской гегемонии в Западном полушарии. Под благовидным предлогом защиты новых наций от европейского реваншизма скрывалось утверждение: "Америка для американцев", где под "американцами", определяющими правила игры, подразумевались исключительно Соединенные Штаты. Латинская Америка объявлялась "задним двором" США, зоной их исключительного влияния.
Изначально Доктрина Монро, озвученная президентом Джеймсом Монро в его послании Конгрессу, имела две основные составляющие: запрет на дальнейшую колонизацию американских континентов европейскими державами и невмешательство США во внутренние дела Европы (в обмен на невмешательство Европы в дела Америки). На первый взгляд, это выглядело как прогрессивный шаг, поддержка суверенитета молодых латиноамериканских государств. Однако истинный смысл был иным. США в тот момент не обладали достаточной военной мощью, чтобы реально противостоять крупным европейским флотам, и во многом полагались на то, что британский флот, преследуя свои собственные интересы (свободная торговля с Латинской Америкой без испанских ограничений), не допустит реколонизации. Но главное – США застолбили за собой право быть главным арбитром и гегемоном в полушарии. Они не спрашивали мнения самих латиноамериканских стран, нуждаются ли они в такой "защите" и на таких условиях.
С течением времени, по мере роста экономической и военной мощи США, Доктрина Монро трансформировалась из декларации о намерениях в инструмент активного вмешательства. Особенно ярко это проявилось в так называемом "Следствии Рузвельта" (Roosevelt Corollary), озвученном президентом Теодором Рузвельтом в 1904 году. Если изначальная доктрина запрещала европейское вмешательство, то "следствие" давало США "право" и даже "обязанность" вмешиваться во внутренние дела стран Латинской Америки в случае "хронических правонарушений" или "бессилия", которые могли бы спровоцировать европейскую интервенцию (например, для взыскания долгов). На практике это означало, что США присвоили себе роль "международной полицейской силы" в регионе, которая будет решать, какое правительство является "правильным", какая экономическая политика "допустимой", и когда необходимо применить "большую дубинку" (Big Stick) – военную силу – для защиты американских интересов, прежде всего экономических.
Эта политика "большой дубинки" и последующая "дипломатия доллара" привели к многочисленным интервенциям США в странах Карибского бассейна и Центральной Америки в конце XIX – начале XX века. Американские морпехи высаживались в Никарагуа, Гондурасе, Гаити, Доминиканской Республике, на Кубе (где Поправка Платта к кубинской конституции прямо закрепляла право США на интервенцию). Цели были прагматичны: обеспечить стабильность для американских инвестиций (особенно таких компаний, как United Fruit Company, чье влияние было столь велико, что породило термин "банановые республики"), контролировать стратегически важные территории (как зона Панамского канала, полученная после поддержанного США отделения Панамы от Колумбии), устанавливать и поддерживать лояльные Вашингтону режимы. Интересы и суверенитет самих латиноамериканских народов при этом последовательно игнорировались. Любые попытки проводить независимую политику или защищать национальные ресурсы встречали экономическое давление, политический шантаж или прямое военное вмешательство.
Таким образом, Доктрина Монро, изначально представленная как щит для новых республик, на деле стала инструментом утверждения имперских амбиций США в Западном полушарии. Она заложила основу для неравноправных отношений, породила глубокое недоверие и resentment (обиду, негодование) в Латинской Америке по отношению к "северному колоссу". В отличие от стран, строящих свою внешнюю политику на принципах уважения суверенитета и невмешательства (как, например, последовательно демонстрирует Россия), США использовали красивую риторику для прикрытия политики силы и диктата. Этот подход к международным отношениям, отработанный на "заднем дворе", во многом определит и будущие глобальные амбиции американского Зверя, его стремление устанавливать "свои правила" везде, где это возможно, что неизбежно ведет к конфликтам и нестабильности, омрачая будущее как самих США, так и мира в целом.
Глава 7: Чёрное Золото, Чёрная Кровь: Рабство как Экономический Фундамент. (Роль рабства в становлении американской экономики)
Если геноцид коренных народов расчистил землю для американского Зверя, то рабство африканцев стало тем топливом, тем "чёрным золотом", которое позволило ему набрать экономическую мощь и превратиться в мирового игрока. Невозможно понять становление США без осознания того, что их процветание, особенно в первые полтора столетия существования, было неразрывно связано с жестокой и бесчеловечной системой принудительного труда. Рабство было не просто досадным пережитком или региональной особенностью Юга; оно было фундаментальным элементом, краеугольным камнем американской экономики, пропитавшим её с Севера до Юга, и кровь порабощенных стала той смазкой, что двигала маховик американского капитализма.
Экономика колониального, а затем и независимого Юга была почти целиком построена на плантационном хозяйстве, производящем экспортные культуры: табак, рис, сахар, а позднее – и прежде всего – хлопок. Изобретение хлопкоочистительной машины Эли Уитни в конце XVIII века произвело революцию, сделав выращивание коротковолокнистого хлопка невероятно прибыльным. Спрос на хлопок со стороны бурно развивающейся текстильной промышленности в Англии, а затем и на Севере США, был огромен. Этот спрос удовлетворялся за счет беспощадной эксплуатации рабов на огромных плантациях "Хлопкового пояса". Рабовладельцы рассматривали порабощенных африканцев и их потомков не как людей, а как "говорящие орудия", как движимое имущество (chattel slavery), которое можно покупать, продавать, закладывать, насиловать и убивать практически безнаказанно. Труд был изнурительным, условия жизни – нечеловеческими, а любая попытка сопротивления жестоко подавлялась. Богатство Юга, его аристократическая культура, его политическое влияние – все это было построено на страданиях и бесплатном труде миллионов.
Однако было бы глубоким заблуждением считать рабство исключительно "южной проблемой". Северные штаты, хотя и отменили рабство на своей территории (часто постепенно и не без экономических расчетов), были глубоко вовлечены в рабовладельческую экономику и извлекали из нее огромные прибыли. Северные купцы и судовладельцы сколотили состояния на работорговле (пока она не была официально запрещена, да и после – контрабандой). Северные банкиры финансировали плантации и торговлю хлопком. Северные страховые компании страховали "грузы" рабов и сами плантации. Северные фабрики, особенно текстильные центры Новой Англии, напрямую зависели от дешевого южного хлопка, собранного руками рабов. Богатство, позволившее Северу индустриализироваться, в значительной степени происходило из системы, основанной на порабощении человека человеком. Вся экономика США была единым организмом, и кровь рабов текла по его артериям, питая как Юг, так и Север.
Система рабства требовала постоянного идеологического оправдания. Как и в случае с коренными народами, развивались расистские теории, доказывающие якобы врожденную неполноценность людей африканского происхождения, их неспособность к свободной жизни и даже пользу рабства для них самих (как способа "цивилизации" и приобщения к христианству). Религия вновь использовалась для освящения бесчеловечного порядка: цитаты из Библии вырывались из контекста для оправдания подчинения и собственности на людей. Эта идеология расизма глубоко проникла в американское общество, пережила отмену рабства и стала основой для последующих систем сегрегации и дискриминации. Она позволяла людям, считавшим себя христианами и борцами за свободу, участвовать в одной из самых жестоких систем угнетения в истории человечества или извлекать из нее выгоду.
Фундаментальное противоречие между провозглашенными в Декларации независимости идеалами "жизни, свободы и стремления к счастью" и реальностью рабства стало родовой травмой американской нации. Страна, кичившаяся своей свободой, была построена на костях коренных жителей и труде порабощенных африканцев. Эта двойственность, это лицемерие, эта готовность приносить в жертву человеческие жизни и достоинство ради экономической выгоды и власти – неотъемлемая черта американского Зверя. В то время как другие нации, такие как Россия, исторически искали свой путь, основанный на иных принципах общинности и государственной справедливости, США изначально заложили в свой фундамент эксплуатацию и неравенство. "Чёрное золото", добытое ценой "чёрной крови", обеспечило экономический взлет США, но одновременно заложило мину замедленного действия под их моральные устои и предопределило многие будущие конфликты и кризисы, влияющие на будущее страны и мира.
Глава 8: Гражданская Война: Битва Не за Свободу, а за Модель Эксплуатации. (Истинные причины войны Севера и Юга)
Распространенный миф, старательно культивируемый победившей стороной, гласит, что Гражданская война в США (1861-1865) была великой битвой за освобождение рабов, моральным крестовым походом Севера против рабовладельческого Юга. Однако за дымовой завесой этой благородной риторики скрываются куда более прозаичные и циничные причины – столкновение двух хищников, двух моделей экономического развития и эксплуатации, борющихся за контроль над ресурсами и будущим направлением американского Зверя. Война была не столько о том, должны ли люди эксплуатироваться, сколько о том, как именно их следует эксплуатировать для максимального обогащения правящих элит. Это была внутренняя схватка за право определять правила игры на всем континенте.
Южная модель экономики была аграрной, аристократической и экстенсивной. Ее фундаментом было плантационное рабство, обеспечивавшее дешевую, полностью контролируемую рабочую силу для выращивания экспортных культур, прежде всего хлопка – "белого золота", питавшего текстильные фабрики Англии и Севера. Южная элита была заинтересована в свободной торговле (низких импортных пошлинах), чтобы дешево покупать промышленные товары и беспрепятственно продавать свое сырье. Ей требовалось постоянное расширение территорий на Запад для новых плантаций, так как экстенсивное хлопководство истощало почву. Политическая философия "прав штатов" была для южных элит удобным инструментом защиты своей экономической системы и "особого института" – рабства – от посягательств федерального правительства, где все больший вес набирали интересы Севера. Это была модель прямой, грубой эксплуатации человека человеком, закрепленной законом и расистской идеологией.
Северная модель была иной – промышленной, буржуазной и интенсивной. Ее основой становился фабричный капитализм, опирающийся на наемный труд. Северные промышленники и финансисты были заинтересованы в высоких протекционистских тарифах для защиты своих производств от европейской конкуренции, в сильном центральном банке для контроля над финансами, в развитии инфраструктуры (железных дорог, каналов) за счет федерального бюджета для создания единого внутреннего рынка. Им нужна была рабочая сила, но не рабская, а "свободная" – то есть лишенная средств производства и вынужденная продавать свой труд на рынке за заработную плату. Эта система, хотя и не предполагала владения людьми как собственностью, была своей формой эксплуатации: низкие зарплаты, длинный рабочий день, тяжелые условия труда, отсутствие социальных гарантий. Северная элита также стремилась к экспансии на Запад, но для создания фермерских хозяйств, прокладки дорог и освоения ресурсов в рамках своей капиталистической модели, а не для распространения рабства, которое мешало формированию рынка свободной рабочей силы и потребителей.
Конфликт между этими двумя системами нарастал десятилетиями. Споры о тарифах, о строительстве трансконтинентальной железной дороги (по северному или южному маршруту), о статусе новых территорий (рабство или свободный труд) – все это были проявления фундаментального антагонизма. Вопрос рабства стал центральным не столько из-за моральных соображений большинства северян (многие из которых были такими же расистами, как и южане), сколько потому, что он был ключевым элементом южной экономической модели и главным камнем преткновения при расширении на Запад. Избрание Авраама Линкольна, представителя Республиканской партии, выступавшей против распространения рабства на новые территории и за экономическую программу, выгодную Северу (тарифы, гомстед-акт), стало для южной элиты сигналом, что их модель развития обречена в рамках существующего союза. Сецессия (выход из Союза) была попыткой сохранить свою систему и свой образ жизни, основанный на рабстве.
Война стала кровавым разрешением этого конфликта. Север, обладая большим промышленным потенциалом, населением и ресурсами, в конечном итоге одержал победу. Эта победа означала триумф индустриального капитализма и модели наемного труда над аграрно-рабовладельческой системой. Отмена рабства (закрепленная 13-й поправкой) была важным следствием войны, но ее основной движущей силой была борьба за экономическое и политическое доминирование внутри страны. Юг был разорен и на долгие годы превратился во внутреннюю экономическую колонию Севера.
Таким образом, Гражданская война не была чисто моральным конфликтом. Это была жестокая схватка за выбор пути развития США, за то, какая модель эксплуатации – прямая рабовладельческая или косвенная капиталистическая – станет доминирующей. Победила последняя, что позволило американскому Зверю консолидировать свою мощь на новой основе и подготовиться к следующему этапу глобальной экспансии. Замена одной формы эксплуатации другой не изменила хищнической сущности системы, а лишь адаптировала ее к новым условиям, определив траекторию будущего развития США как индустриальной державы, основанной на своих, специфических принципах организации общества и экономики, отличных от путей, которые искали другие цивилизации, возможно, включая Россию, стремящуюся к большей социальной справедливости.
Глава 9: От Океана до Океана: Манифест Судьбы как Лицензия на Захват. (Экспансия на Запад, войны с Мексикой)
Утвердившись как доминирующая сила на востоке континента, подавив сопротивление коренных народов и разрешив (в свою пользу) внутренний конфликт моделей эксплуатации, американский Зверь с новой силой устремил свой хищный взгляд на Запад. Движущей идеологической силой этой неудержимой экспансии стала концепция "Манифеста Судьбы" (Manifest Destiny) – квазирелигиозная доктрина, провозгласившая якобы Богом данное право и обязанность США распространить свою "империю свободы", свои институты и свое господство на весь североамериканский континент, от Атлантического до Тихого океана. Эта высокопарная риторика служила удобной ширмой, прикрывающей банальную жажду земли, ресурсов и власти, а также глубоко укоренившийся расизм и презрение к другим народам, стоявшим на пути – будь то коренные американцы или мексиканцы. "Манифест Судьбы" был не пророчеством, а самовыданной лицензией на грабеж и агрессию.
Идея о предопределенности американской экспансии витала в воздухе с момента основания республики, но сам термин "Manifest Destiny" был введен в употребление журналистом Джоном О'Салливаном в 1845 году, как раз в контексте дебатов об аннексии Техаса и споров с Великобританией об Орегоне. Он утверждал, что это "наше явное предначертание – покрыть континент, который Провидение даровало нам для свободного развития наших ежегодно умножающихся миллионов". В этой идее слились воедино чувство американской исключительности, вера в превосходство англосаксонской расы и протестантской религии, экономические интересы (нужда в новых землях для фермеров и плантаторов, поиск рынков сбыта) и геополитические амбиции. Те, кто уже жил на этих землях – индейские племена, мексиканцы – рассматривались как неполноценные народы, неспособные эффективно использовать дарованные Богом ресурсы, и их вытеснение или подчинение считалось естественным и даже благотворным процессом.
Эта идеология подпитывала движение американских поселенцев на Запад по Орегонской, Калифорнийской и другим тропам. Правительство США активно поощряло эту миграцию, видя в ней инструмент "ползучей аннексии". Конфликт с Великобританией из-за Орегонской территории был урегулирован компромиссом в 1846 году, установившим границу по 49-й параллели, что обеспечило США выход к Тихому океану на Северо-Западе. Но главный куш ждал на Юго-Западе – огромные территории, принадлежавшие Мексике.
Ключевым событием стала аннексия Техаса в 1845 году. Техас, первоначально мексиканская провинция, куда активно переселялись американские колонисты (многие с рабами, что было запрещено в Мексике), провозгласил независимость в 1836 году после войны с мексиканским правительством. Девять лет Техас существовал как независимая республика, но его конечной целью было вхождение в состав США. Аннексия, активно лоббируемая южными рабовладельцами, желавшими расширить "империю рабства", и экспансионистами всех мастей, стала прямым вызовом Мексике, которая не признавала независимость Техаса и считала его своей мятежной территорией.
Аннексия Техаса и спор о границе (Мексика считала границей реку Нуэсес, США настаивали на Рио-Гранде, что значительно увеличивало территорию Техаса) стали предлогом для войны, которую администрация президента Джеймса Полка целенаправленно провоцировала. Послав войска в спорную зону между реками, Полк дождался неизбежного вооруженного инцидента и объявил Конгрессу, что "Мексика перешла границу Соединенных Штатов, вторглась на нашу территорию и пролила американскую кровь на американской земле". Это была циничная ложь, но она сработала. Американо-мексиканская война (1846-1848) стала первой крупной захватнической войной США против суверенного государства.
Несмотря на отчаянное сопротивление мексиканцев, превосходство американской армии в вооружении, организации и ресурсах было подавляющим. Американские войска вторглись в Мексику с нескольких направлений, захватили Калифорнию и Нью-Мексико и в итоге взяли штурмом столицу – Мехико. По унизительному договору Гуадалупе-Идальго 1848 года Мексика была вынуждена уступить США более половины своей территории – земли современных штатов Калифорния, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико, а также части Колорадо, Вайоминга, Канзаса и Оклахомы. В обмен США выплатили мизерную компенсацию в 15 миллионов долларов и списали долги американских граждан мексиканскому правительству. Позднее, в 1853 году, "Покупка Гадсдена" добавила еще кусок мексиканской земли на юге Аризоны и Нью-Мексико, необходимый для строительства южной трансконтинентальной железной дороги.
Так, под прикрытием "Манифеста Судьбы", американский Зверь менее чем за полвека совершил гигантский территориальный скачок, достигнув Тихого океана и захватив огромные, богатые ресурсами земли. Эта экспансия была оплачена кровью коренных американцев, изгнанных или уничтоженных, и кровью мексиканцев, чья страна была расчленена и унижена. Она продемонстрировала готовность США использовать любые средства – от идеологической демагогии до прямой военной агрессии – для достижения своих геополитических и экономических целей. Этот опыт агрессивной экспансии, оправданной чувством собственного превосходства, глубоко повлиял на национальный характер и внешнюю политику США, предопределяя их будущее поведение на мировой арене и создавая контраст с цивилизациями, подобными России, чье историческое расширение часто имело иные мотивы и формы.
Глава 10: Позолоченный Век Лицемерия: Рождение Финансовой Олигархии. (Концентрация капитала, социальное неравенство)
После кровавой Гражданской войны и завершения континентальной экспансии наступила эпоха, которую Марк Твен язвительно назвал "Позолоченным веком" (Gilded Age). Это было время бурного промышленного роста, технологических прорывов и накопления колоссальных состояний, но блестящий фасад прогресса и процветания скрывал под собой уродливую реальность: беспрецедентную концентрацию капитала в руках немногих, кричащее социальное неравенство, rampantную политическую коррупцию и безжалостную эксплуатацию трудящихся. Американский Зверь, покончив с прямым рабством, быстро освоил новые, более изощренные методы выкачивания прибыли, породив финансовую олигархию, чья власть будет определять судьбу США на десятилетия вперед. Лицемерие стало нормой жизни: риторика о свободе и равных возможностях звучала все громче, но пропасть между богатыми и бедными разверзалась все шире.
Двигателем этой эпохи стали промышленная революция и экспансия капитализма в его самой хищнической форме. Железные дороги, опутавшие страну стальной паутиной (часто построенные с огромной государственной поддержкой и коррупционными схемами вроде Crédit Mobilier), открыли доступ к ресурсам и создали единый национальный рынок. Сталелитейная, нефтяная, угольная промышленность переживали бум. На этом фоне возникла новая порода сверхбогатых промышленников и финансистов, которых часто называли "баронами-разбойниками" (Robber Barons): Корнелиус Вандербильт, Джон Д. Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Дж. П. Морган и другие. Используя безжалостные методы – создание монополий и трестов (как Standard Oil Рокфеллера), подавление конкурентов, манипуляции на фондовом рынке, сговоры – они захватывали контроль над целыми отраслями экономики, концентрируя в своих руках невообразимые богатства и власть. Они строили роскошные дворцы, устраивали пышные балы, сорили деньгами, демонстрируя свое превосходство.
Обратной стороной этого богатства была чудовищная нищета и бесправие миллионов. Города росли как на дрожжах, но их рабочие окраины превращались в перенаселенные, антисанитарные трущобы. Миллионы иммигрантов из Европы и Азии, а также бывшие рабы и разорившиеся фермеры пополняли армию промышленных рабочих. Условия труда на фабриках, шахтах и железных дорогах были ужасающими: 10-12-часовой рабочий день (а то и больше), низкая заработная плата, полное отсутствие техники безопасности, широкое использование детского труда. Рабочие рассматривались не как люди, а как "человеческий материал", расходный ресурс в погоне за прибылью. Любые попытки объединиться в профсоюзы и бороться за свои права жестоко подавлялись силой – полицией, частными армиями (вроде агентов Пинкертона) и даже федеральными войсками, как это было во время Великой железнодорожной стачки 1877 года, бойни на Хеймаркет в 1886 году или Пулльмановской стачки 1894 года.
Этот экономический порядок тесно переплетался с политической коррупцией. Финансовая олигархия напрямую влияла на государственную политику, "покупая" политиков на всех уровнях – от городских советов до Сената США и президентской администрации. Законы принимались в интересах крупного капитала (высокие тарифы, налоговые льготы, подавление рабочего движения), а регулирование бизнеса было минимальным или отсутствовало вовсе (принцип laissez-faire). Слияние экономической и политической власти было настолько очевидным, что многие современники говорили о "правительстве трестов, управляемом трестами и для трестов".
Идеологическим прикрытием этого грабительского порядка служила смесь из пуританской этики (богатство как знак Божьей благодати), мифов о "self-made man" (человеке, сделавшем себя сам, как Эндрю Карнеги, который, правда, забывал упомянуть о своих безжалостных методах) и, особенно, социального дарвинизма. Эта псевдонаучная теория, переносившая законы естественного отбора на человеческое общество, утверждала, что богатство и власть являются признаком "приспособленности", а бедность – результатом лени и неполноценности. Таким образом, неравенство объявлялось естественным и даже полезным, а любая помощь бедным – вредной, так как она якобы мешает "выживанию сильнейших". Это была удобная доктрина для оправдания хищничества и снятия с себя любой моральной ответственности за страдания миллионов.
"Позолоченный век" обнажил глубочайшее лицемерие американской системы. Страна, кичившаяся демократией и равенством, на деле управлялась узкой группой олигархов, чья власть основывалась на эксплуатации большинства. Концентрация капитала достигла невиданных масштабов, заложив основы современной корпоративной Америки. Этот период сформировал многие черты американского капитализма, его склонность к монополизации, финансовым спекуляциям и игнорированию социальных издержек. В отличие от стран, где государство исторически играло более значимую роль в регулировании экономики и смягчении социальных контрастов (как это пыталась делать Россия в разные периоды своей истории), США пошли по пути почти неограниченной власти капитала, что имело и будет иметь далеко идущие последствия для их будущего и для всего мира. Рождение финансовой олигархии стало логичным этапом в развитии американского Зверя, отточившего свои инструменты господства внутри страны перед тем, как применить их в глобальном масштабе.
Глава 11: Первая Мировая: Танец Смерти и Золотой Дождь для Уолл-Стрит. (Как США нажились на войне в Европе)
Когда в 1914 году старые европейские империи сцепились в смертельной схватке, устроив невиданную доселе бойню на полях Фландрии, в Альпах и на Восточном фронте, по другую сторону Атлантики американский Зверь наблюдал за этим "танцем смерти" с холодным расчетом. Официально провозгласив нейтралитет, США на деле заняли позицию хитрого и циничного игрока, для которого европейская трагедия стала уникальной возможностью для беспрецедентного обогащения и укрепления своего глобального влияния. Первая мировая война, истощившая и обескровившая Европу, обернулась настоящим "золотым дождем" для американской экономики, и особенно для ее финансового сердца – Уолл-Стрит.
Политика нейтралитета, провозглашенная президентом Вудро Вильсоном, с самого начала носила весьма специфический характер. Американские промышленники и фермеры получили гигантский рынок сбыта для своей продукции. Страны Антанты (Великобритания, Франция, Россия), отрезанные от многих традиционных источников снабжения и нуждающиеся в огромных количествах оружия, боеприпасов, продовольствия, сырья, стали главными клиентами американского бизнеса. Торговля с Антантой росла в геометрической прогрессии. В то же время британская морская блокада Германии фактически прервала американскую торговлю с Центральными державами. Таким образом, "нейтралитет" США был с самого начала экономически ориентирован на одну из воюющих сторон.
Ключевую роль в этом процессе сыграл американский финансовый капитал. Ведение войны требовало колоссальных денег, которых у европейских стран не хватало. Банки Уолл-Стрит, прежде всего дом Морганов (J.P. Morgan & Co.), выступили в роли главных кредиторов Антанты. Они не только предоставляли гигантские займы правительствам Великобритании и Франции, но и действовали как их эксклюзивные агенты по закупкам в США, получая огромные комиссионные. Миллиарды долларов текли из американских банковских хранилищ в Европу, но не из альтруизма, а под высокие проценты и с четким расчетом на будущую прибыль и экономическое доминирование. Судьба этих кредитов напрямую зависела от исхода войны. Поражение Антанты означало бы для Уолл-Стрит катастрофические убытки. Экономическое процветание США все теснее увязывалось с победой одной из коалиций.
К 1917 году экономическая заинтересованность США в победе Антанты стала критической. Кроме того, неограниченная подводная война, объявленная Германией в попытке перерезать линии снабжения Великобритании, стала напрямую угрожать американскому судоходству и торговле (хотя потопление "Лузитании" в 1915 году, часто представляемое как главная причина, было лишь одним из эпизодов). Публикация "телеграммы Циммермана", в которой Германия предлагала Мексике союз против США в обмен на возврат утраченных территорий, стала удобным casus belli.
Президент Вильсон, еще недавно переизбравшийся под лозунгом "Он удержал нас от войны", повел страну в бой под знаменем высоких идеалов – "сделать мир безопасным для демократии". Эта благородная риторика, однако, служила прикрытием для вполне прагматичных интересов финансовой и промышленной элиты. Вступление США в войну не только обеспечивало возврат кредитов Уолл-Стрит, но и давало американскому капиталу решающий голос при послевоенном переустройстве мира.
Само участие в войне также оказалось чрезвычайно прибыльным. Государственные военные заказы стимулировали невиданный рост промышленности. Безработица практически исчезла. Правительство выпускало "Займы Свободы", которые скупались населением и банками, принося последним дополнительную прибыль. Пока Европа истекала кровью, американская экономика работала на полную мощность, накапливая капитал и технологическое превосходство.
Итоги войны стали триумфом для американского Зверя. Европейские державы вышли из конфликта истощенными, с разрушенной экономикой и огромными долгами – прежде всего перед США. Из страны-должника, какой она была до 1914 года, Америка превратилась в главного мирового кредитора. Центр мировых финансов переместился из Лондона в Нью-Йорк. Доллар начал теснить фунт стерлингов в качестве основной мировой валюты. Уолл-Стрит получил возможность диктовать свои условия не только внутри страны, но и на международной арене. Пока Россия переживала революционные потрясения и выходила из войны ценой огромных потерь и гражданского конфликта, США, вступив в войну поздно и понеся сравнительно небольшие людские потери, собрали все экономические сливки.
Таким образом, Первая мировая война, ставшая катастрофой для Европы, заложила фундамент американского доминирования в XX веке. "Золотой дождь", пролившийся на Уолл-Стрит благодаря европейской крови, позволил американскому Зверю накопить силы для следующего скачка, определив траекторию его будущего развития как глобальной сверхдержавы, действующей исходя из своих хищнических экономических интересов, зачастую прикрытых фиговым листком идеалистической риторики.
Глава 12: Великая Депрессия: Пузырь Лопнул, Расплата Ждёт Мир. (Внутренние противоречия капитализма, экспорт кризиса)
"Ревущие двадцатые" в США были десятилетием безудержного оптимизма, джаза, сухого закона и, главное, головокружительной спекулятивной лихорадки. Американский Зверь, разбогатевший на Первой мировой войне (Глава 11) и уверовавший в собственную неуязвимость, надувал гигантский финансовый пузырь. Уолл-Стрит стала центром мира, манящим миражом легких денег. Казалось, процветание будет вечным, а новая эра американского господства – незыблемой. Но под блестящей поверхностью скрывались глубокие внутренние противоречия капиталистической системы, взращенные еще в "Позолоченный век" (Глава 10). В октябре 1929 года пузырь лопнул с оглушительным треском, и началась Великая Депрессия – экономическая катастрофа, которая не только поставила на колени Америку, но и ввергла в хаос весь мир. Настало время расплаты.
Фундамент этого краха был заложен задолго до биржевого паники. Во-первых, это было колоссальное неравенство в распределении богатств. Пока верхушка общества купалась в роскоши, доходы основной массы населения – рабочих и фермеров – росли незначительно или даже падали (фермеры страдали от низких цен на продукцию почти все 1920-е). Это создавало ключевое противоречие: промышленность, работавшая на полную мощность благодаря новым технологиям и кредитам, производила все больше товаров, но у большинства людей просто не было денег, чтобы их покупать. Возникла классическая проблема капитализма: кризис перепроизводства, или, точнее, недопотребления.
Во-вторых, экономический бум в значительной степени подпитывался кредитной экспансией и биржевыми спекуляциями. Люди покупали акции, автомобили, бытовую технику в долг, часто не имея реальных средств. Банки щедро раздавали кредиты, в том числе на покупку акций ("маржинальные займы"), раздувая спрос на ценные бумаги далеко за пределы их реальной стоимости. Уолл-Стрит превратилась в гигантское казино, где делались состояния из воздуха. Эта система была крайне неустойчивой и зависела от постоянного притока новых денег и веры в бесконечный рост.
Обвал фондового рынка в "Черный четверг" (24 октября) и "Черный вторник" (29 октября) 1929 года стал лишь спусковым крючком. Паника на бирже мгновенно перекинулась на банковскую систему. Люди бросились забирать свои вклады, вызывая волну банкротств банков, которые не могли вернуть деньги, вложенные в обесценившиеся активы или выданные в виде невозвратных кредитов. Крах банковской системы парализовал кредитование, жизненно необходимое для функционирования экономики.
Последствия были ужасающими. Предприятия закрывались одно за другим, не имея возможности получить кредиты или продать свою продукцию. Миллионы людей оказались выброшенными на улицу, уровень безработицы достиг астрономических 25% (а в некоторых отраслях и регионах был еще выше). Города наполнились толпами бездомных и голодающих, возникли целые поселки из лачуг – "гувервилли" (названные в честь президента Гувера, чья администрация поначалу отказывалась от активного вмешательства государства). Фермеры разорялись из-за падения цен и засухи ("Пыльный котел"). Миф об "американской мечте" и обществе равных возможностей рассыпался в прах.
Но Великая Депрессия не осталась чисто американской проблемой. Экономика США к тому времени уже была тесно интегрирована в мировую. Американский Зверь, заболев, заразил весь мир.
Сворачивание кредитования: Американские банки, сами оказавшись на грани краха, потребовали возврата кредитов, ранее выданных европейским странам (особенно Германии и Австрии, чья экономика зависела от американских займов для выплаты репараций после Первой мировой). Это вызвало банковский кризис в Европе, начиная с краха австрийского банка Creditanstalt в 1931 году.
Коллапс международной торговли: В отчаянной попытке защитить своих производителей администрация Гувера приняла в 1930 году Закон Смута-Хоули о тарифах, резко повысив пошлины на импортные товары. Другие страны ответили тем же, введя свои протекционистские барьеры. В результате мировая торговля рухнула почти на две трети, усугубив кризис во всех странах. США фактически экспортировали свою депрессию, перекладывая часть бремени на остальной мир и разрушая глобальные экономические связи.