Чандар – дерево жизни
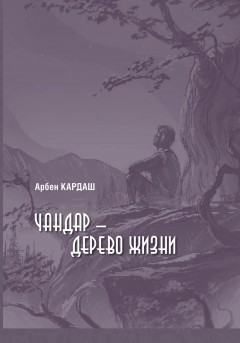
Арбен Кардаш
ЧАНДАР – ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Повесть
«Чандаром» в лезгинском языке называют восточный платан, и это обозначение состоит из двух слов: «чан» – «жизнь» и «дар» («тар») – «дерево».
Тарлан Мияхов, мужчина лет пятидесяти пяти, когда проснулся, было уже десять утра. В открытое окно лилось солнце. Воздух в комнате чистый, сгустившийся, которым не надышишься, и сон не отпускал его из своих ласковых объятий. На далеком севере, где давно обосновался в городе Сургуте, он привык вставать в шесть утра (осталась еще армейская привычка), но, приезжая в родное село, и прежде, как и теперь, каждый раз, к своему удивлению, он просыпался поздно и задумывался: отчего это происходит?
И вчера, лежа на кровати в привычном с детства месте, в комнате, с детства же определенном родителями сыновьям в семье, где росли три брата и две сестренки, ему никак не удавалось поднять себя с постели, хотелось, раскинувшись с закрытыми глазами, обратно предаться сну. «Это из-за воздуха, – про себя решил Тарлан. – Воздух родины делает сон таким сладостным. Родной дом дает знать своему сыну, заброшенному в дали-дальние, что его любовь, родство к нему не пропали… Сын же этого не понимает…»
Правду сказать, в родное село, в опустевший дом, он приезжал каждый год, летом, чтобы успокоить мать, чье сердце постоянно тянуло сюда, в родное гнездо, сам же не имел особого желания приезжать, потому что всякий раз по приезде с веранды видел за домом Красную гору, возвышающуюся вдали за селом, и дерево чандар на скате Островерхого холма, горделиво выделяющегося между соседними холмами и буграми, и дерево чандар, вызывая тяжесть на сердце и печальную улыбку. Ему, считавшему себя человеком, у кого жизнь удалась, чистым перед семьей, друзьями-товарищами, односельчанами (так оно и было), дерево заново напоминало связанный с ним один день жизни и последовавшие за ним события, хотя и оставшиеся маленькими частицами давно прошедшего детства и ранней юности, но заставлявшие чувствовать, что он потерял нечто дорогое, не исполнил заветного желания и что в этом виновен только он сам. Однако, несмотря на это, в каждый свой приезд один из дней он выбирал, чтобы навестить чандар…
Как самый младший из детей в семье и младший сын, он знал, что в его обязанности входит забота об отчем доме, когда уже не будет отца, что он должен остаться здесь жить, чтобы хранить дом и продолжать его жизнь, но он нарушил неписанный закон предков, всем известный и неукоснительно выполняемый должными людьми. Отслужив в армии, он не остался в селе. Ни отец с матерью, ни братья и сестры не упрекали его в этом, зная, в чем дело, они понимали, что творится в его сердце, у них не было способа лечения раны на этом сердце, а потому и позволили ему поступить по-своему…
Когда приехали вчера под сумерки и он остановил свой дорогой внедорожник на месте, именуемом Вехрен-тул1, на самой нижней площадке горного села, тянувшегося вверх по зеленому пологому склону, его глаза невольно посмотрели в сторону чандара. Островерхий холм был окутан туманом, и чандара было не разглядеть… Он почувствовал волнение: перед приездом ему приснился чандар срубленным и валявшимся на земле…
У матери Тарлана вошло в привычку попросить остановить машину на Вехрен-туле. Каждый год, приезжая в село, старая горянка с льющимися из глаз слезами выходила из машины, становилась на колени и целовала землю со словами: «Милая моя родина! Сладкая моя земля!» Потом она с помощью сына поднималась (у самой не очень-то получалось) и, воздев открытые ладони, молилась, обращаясь к старым и новым кладбищам, окружавшим село, желала царствия небесного усопшим, просила Всевышнего помиловать в Судный день лежавших в этой земле, отвести живущих здесь от бед и неправедных путей, наполнить их сердца чистыми помыслами.
Такие минуты глубоко затрагивали сердце сына, и он жалел, что увез на чужбину мать, так преданную родной земле, винил себя в том, что самого родного ему человека оторвал от основ. На чужбине как бы ни предоставлялись матери всевозможные удобства, сколько бы ни оказывали ей уважения сыновья и дочери, невестки, внуки, копившаяся в ее душе вдали от села тяжесть младший сын каждый раз чувствовал вот здесь, на Вехрен-туле.
Пока жив был отец, и Тарлану с братьями жилось спокойнее. То один, то другой из них приезжал вместе с семьей, навещал стариков, и большой дом наполнялся радостью. А то бывало, что братья с семьями приезжали все вместе. В такие дни еще сильнее чувствовалась важность и значение родного дома, его завораживающее воздействие, еще сильнее они, вышедшие из этого дома, чувствовали глубину и прочность своих основ, и это чувство их поддерживало, как бы окрыляя, и в далеком Сургуте, ставшем для них второй родиной.
Сыновья очень старались увезти к себе отца с матерью, которые уже не могли должным образом справляться с заботами по дому и хозяйству, но никак не могли их уговорить. Они ни разу не захотели хотя бы приехать в Сургут к ним в гости. Решающее слово оставалось за матерью: «Для чего нам пускаться в те дальние дороги с нашими дряхлыми телами? Умрет один из нас в пути, вам же прибавится забот».
Отец с матерью, как они сами выражались, не хотели, чтобы осиротел двухэтажный дом, который они возвели своими руками, из саманных кирпичей, самими же изготовленных, с тщанием, достраивая наверху по одной комнате.
Но судьба все же дала им, старающимся с лихвой выразить свою сыновью благодарность, возможность показать отцу и матери то, чего они добились на Севере, свои дома, обеспеченность всем благами, свой бизнес, высоты, которых они добились в жизни…
В одно лето они, все трое братьев, опять поехали на родину, на своих машинах, вместе с семьями. Проезжая посреди великой России, как-то в полдень они устроили привал, чтобы надышаться и снять усталость, в селе на берегу Волги.
На зеленом лугу с редкими деревьями, откуда открывался чудесный вид на великую реку, они настелили скатерти и обедали. Беготня, шум и крики детей нарушали напоенную теплом тишину красивой местности.
Один из малышей вдруг закричал:
– Вот идет дедушка с ружьем!
Взрослые посмотрели в ту сторону, куда показывал ребенок. В их сторону спеша шел старик, обеими руками держа у груди ружье, хотя и высушенный годами, но еще крепкий телом. На голове у него была пилотка, в распахнутой серой рубашке с короткими рукавами, с закатанными до колен штанами того же цвета, в резиновых тапочках на голых ногах.
Дети, замолчав, побежали к взрослым.
Старик, без слов приветствия, с каменным лицом, направил двустволку на сидящих за скатертью и повелительным голосом крикнул:
– Уходите отсюда! Это моя земля!
Все трое братьев и их жены вскочили. Кто это такой, что у него в намерениях? Братья своими крепкими, сильными телами заслонили женщин и детей.
Потом Тарлан шагнул вперед:
– Дядя… Отец, – сказал он как можно спокойнее, стараясь еще сильнее не разозлить старика, – мы путники, едем к себе на родину. Нам ваша земля не нужна, мы остановились, чтобы только отдохнуть.
Неожиданно лицо старика изменилось, озлобленности как не бывало, руки его опустились, и ружье упало на землю. Прищурив плохо видящие глаза, он приблизился к Тарлану, с ног до головы окинул его взглядом и срывающимся голосом произнес:
– Ми… Ми-рим… Мирим Мияхов… Лезгин…
Губы Тарлана растянулись в широкой улыбке, руки у него распахнулись и взлетели крыльями:
– А не дядя Миша ли вы? Михаил Бурлаков! – И повернулся к братьям: – Это он! Дядя Миша с фото в нашем доме!
Старик ладонью вытер прослезившиеся глаза.
– Да, я тот самый… А ты вылитая копия Мирима, и голос его…
– У нас в таких случаях говорят: точно выпавший из ноздри отца, – Тарлан, сам не свой от неожиданной радости, своими сильными руками обнял старика, приподнял и опустил.
– Вижу, война не забрала моего друга… Он жив-здоров?
– Здоров, на ногах. Вот собрались навестить его и мать. Мы его сыновья и невестки, внуки.
– Вы простите меня за грубость… – Дядя Миша объяснил, чем было вызвано его недовольство: – Это земля, выделенная мне государством… По завещанию хочу оставить его внуку. Никак не получается оградить сеткой, хотя бы обвести проволокой… И сам внук не желает приехать сюда… Я уже несколько раз прогонял тех, кто хочет отнять у меня это место… И вас принял за таких… С ними трудно говорить вот без этого, – он поднял с земли ружье. – Они не понимают, когда говорят по-человечески.
– Ружье действительно заряжено?
– А как же! Всегда. Патронами с дробью. И в запасе еще имеются, – дядя Миша вынул из кармана штанов и показал два патрона и сунул их обратно.
Два других брата тоже пожали дяде Мише руку, обняли его и усадили к своей походной скатерти.
Из завязавшейся беседы выяснилось, что старуху он похоронил и остался один, единственная дочка с внуком живут в одном из подмосковных городов. Они изредка навещают его, но не хотят приехать сюда насовсем…
Друг Михаила, отец сыновей, которые теперь по-всякому старались выразить ему свое уважение, нахлебавшийся всего на фронтах Великой Отечественной войны, израненный, оставивший правую руку в жестоком бою в Пречистенском районе на смоленской земле, горец Мирим был учителем младших классов в сельской школе. Двухгодичные учительские курсы он окончил уже после войны. Когда он собрался выучиться на учителя, в селе нашлись такие, кто говорил: «У тебя нет правой руки, толком сам не можешь писать, как ты будешь учить письму детей?» На это он отвечал: «Привыкну писать оставшейся левой и детей буду учить». Вернувшись после курсов, учитель Мирим так быстро и красиво писал на доске мелом, что вызывало восхищение не только у учителей, но и у тех сельчан, которые, под видом того, что хочет увидеть успехи своих детей, приходили на его уроки.
Дети учителя Мирима с самого детства знали Михаила Бурлакова как дядю Мишу. У них в гостевой комнате на стене висела увеличенная фотография в большой рамке, особенно дорогая отцу: по обе стороны от орудия стоят два крепких парня, два красноармейца гаубичного артиллерийского полка, отец и дядя Миша.
Мирим должен был уже демобилизоваться из Красной Армии, когда началась великая война, и для него, еще неженатого парня, фронтовые будни заменили все, дом и семью, и это была первая фотография, которую он отправил родным из самой гущи боевых событий. Снимок, сделанный и подаренный одним военкором в конце лета 1943 года перед намечавшимся ожесточенным боем, уже вернувшись с войны, увеличил и вставил в рамку.
С Михаилом Бурлаковым они познакомились, оказавшись в артиллерийском полку. Дружба их продолжалась уже больше года, они так сблизились, что им и в мысли не приходило, что они могут расстаться, чтобы больше никогда не встретиться. Но в сентябре того года, оказавшимся таким важным для всего фронта, Мирима тяжело ранили и без сознания доставили в госпиталь. Здесь он много слышал о продолжающихся боях в том лесном районе, откуда вывезли его самого, о больших потерях в его полку. Но как бы ни хотел, он так и не узнал, жив ли Михаил и что с ним. Его, руку которого спасти не удалось, немного окрепшего, отправили домой…
– А я думал, что Мирима уже нет, – сказал дядя Миша. – Он был в очень тяжелом состоянии, видевшие его не надеялись, что он выживет.
– Отец рассказывал, что писал вам в часть, но не получил ответа, – сказал Тарлан.
– Через два дня, как его выбило, ранило и меня, и я тоже оказался не годным для войны, – он указал на свою левую ногу, вытянутую на земле, не сгибающуюся в колене. – Много наших нашли себе место в тех лесах и селах в братских могилах… Вот почему его письмо не дошло до меня.
Потом сыновья Мирима отвезли дядю Мишу к нему домой. Теперь они знали, как привезти в Сургут отца и мать, не желающих оставить свое гнездо.
– На обратном пути привезем к вам друга, дядя Миша, – обещали они. – Вот тогда мы закроем сеткой и вашу землю, и все остальное, что вам нужно, сделаем…
Старый учитель сначала не поверил, что его фронтовой друг жив, думая, что сыновья выдумали этот случай, чтобы увезти его из села. А потом спросил самого младшего из своих внуков:
– По дороге кто вам встретился, сыночек?
– Нам встретился дедушка с ружьем, – ответил внук. – Он хотел стрелять в нас. А потом, как увидел моего папу, ружье выпало из его рук, и он заплакал.
Прослезился и Мирим, убедившись, что сыновья ничего не выдумали…
Однако Мириму не суждено было увидеть своего друга.
Когда он со всей своей семьей приехал к его двору, из дома вышел молодой человек. Он назвался Иваном, внуком Михаила Бурлакова.
– Дедушка умер неделю назад, – сообщил он, узнав, кто эти приезжие. – Сидел на лавке под окном, задремал и больше не проснулся.
– Мать твоя не приехала? – спросил Мирим.
– Она только сегодня уехала. А меня тут задерживают кое-какие дела.
– Принеси-ка его ружье, – попросил Мирим.
Иван, недоумевая, посмотрел на него и на его сыновей.
Сыновья тоже взглянули на отца.
– Вложи патроны и принеси ружье, сынок, это моя просьба.
Иван принес ружье, отдал старику и сказал:
– Оно и так было заряжено.
У изголовья могилы Михаила Бурлакова стоял крест, сваренный из двух отрезков железной трубы.
Все молчали.
Все ждали, что Мирим что-то скажет, но он тоже молчал.
Положив ружье на землю, он опустился на колени у края могилы, свою единственную руку с усилием приложил к могильному холму. Потом он встал, взял ружье и дважды разрядил его в воздух.
Вот так ветеран отсалютовал своему фронтовому другу…
Каждый раз, вспоминая этот случай, Тарлан сожалел: «Были бы тогда мобильники. Два друга, пути которых разошлись, считали друг друга погибшими, по крайней мере, слышали бы один другого, беседовали…»
И Мириму, нашедшему друга, но не увидевшему его, после этого не дано было долго жить. Хотя в Сургуте отца с матерью, выказывая им всевозможное уважение, каждый из сыновей по очереди принимал у себя, сердцем старик постоянно находился в горах, в родном селе, на своем излюбленном киме2, в школе, где он учил детей, в родном доме. «Сколько терпеть, думая, когда ночь пройдет или когда день завершится, – жаловался он сыновьям. – Я не хочу умирать здесь, увезите меня из этой ссылки. Без своего дома, без своего кима я даже не чувствую себя дедушкой своих внуков».
В пору, когда на родине наступала весна, он сказал сыновьям: «Везите меня в село, а то вы запоздаете». Спустя месяц после приезда он скончался…
…Еще тянуло полежать, но Тарлан, вспомнив сон про срубленный чандар, встал и, не одевшись, вышел на веранду.
Чандар, верхушкой упираясь в небо, оставался на месте, как всегда красовался на склоне Островерхого холма, подобный громадной сказочной птице…
Матери не было дома, как положено в селе, она встала рано, приготовила сыну яичницу на завтрак, выложила на стол еду, привезенную ими с собой.
Сын знал, что она, взяв с собой подарки, с утра пошла навестить старух по соседству, более поживших, чем она сама. А женщины моложе нее, родственники и их дети придут потом к ней, когда узнают, что она приехала. Молодые соседки каждое утро будут нести ей в кувшинах воду с родника, помогут прибраться дома (И сегодня кто-то уже успел принести кувшин воды, наполнить и остальную посуду). Мать при этом осыпает их благодарностями, сделает им подарки, угостит сладостями.
Умывшись, Тарлан поел и взял мобильник. Он еще вчера вечером сообщил старшим братьям и жене, что они с матерью доехали благополучно. Тогда же он, по привычке позвонил другу детства Ашраву, единственному однокласснику, оставшемуся в селе (в телефоне он был написан еще школьным прозвищем – Пистолет), но его мобильник оказался отключенным.
Не было сигнала о том, что друг включил телефон, но Тарлан все равно позвонил ему, и опять не получил ответа. К этому он тоже привык. Он знал, что у Пистолета два телефона, один рабочий, всегда включенный, другой не для всех. Друг предлагал Тарлану записать и тот номер, но он не захотел: «Я приезжаю сюда один раз в году, и ты мне нужен после работы, твой рабочий номер пусть останется для начальства и подчиненных».
Во время армейской службы Ашраву довелось оказаться участником Афганской войны, вернулся живым, возмужавшим, окрепшим духом, отучился в милицейской школе, и с той поры работал в райотделе милиции, теперь же, в чине майора, сам был начальником райотдела. «Или на совещании, или где-то ловит бандитов… Или спасается от «пустых» звонков, бесконечных просьб знакомых…» – решил про себя Тарлан.
Когда выпадали свободные минуты, Пистолет сам звонил Тарлану. Месяц назад он, позвонив, сообщил, что в районе неспокойно, в лесах скрываются группы вооруженных бандитов.
– Наши леса хотя бы чисты? – спросил тогда Тарлан.
– Туда никто не заглядывал, но сельчане осторожны, – ответил Ашрав. – Говорят, что над лесом Бекера поднимался дым, сельский пастух слышал автоматные очереди, раздававшиеся в Подгорном лесу.
– В Склоновом лесу тихо?
– Так это перелесок, близкий к селу, туда бандиты не сунутся…
Каждый раз, возвращаясь в село, перед Тарланом вставала проблема: куда себя деть, чем заняться? И в родном селе ему становилось скучно. Пока дети были маленькие, и он приезжал вместе с ними, все было несколько иначе, часть времени уходила в заботах и в движении: на предгорных склонах косили траву для коровы с теленком и овец, которых, как говорили мать с отцом, они держали для внуков, на волокуше с впряженными быками привозили сено, убирали его в сеновал, работали в саду и в огороде, кололи дрова, складывая их в высокую поленницу под верандой. Привычный к таким трудам с малых лет, он приучал к ним и своих детей.
Выполняя столько разных работ, он успевал еще знакомить детей со всем интересным и запоминающимся, что находилось в селе и его окрестностях, научить их и играть с ними в игры своего детства.
Повзрослев, дети уже не хотели ездить сюда, каждый шел своей дорогой, имел свои интересы, они не чувствовали своих корней в этих горах.
И само село изменилось в последнее время, в нем жизнь не кипела, как прежде, людей стало меньше, и то большей частью пожилых, молодые в селе оставались в редких случаях, совсем мало ребят ходило в школу. Теперь дети уже не играли в прежние игры, которые совсем забыли. А в компьютерных играх, в возне с мобильниками они нисколько не уступали своим городским сверстникам.
Тарлан ясно видел, что уклад жизни в селе терпит глубокие изменения, это он воспринимал острее своих односельчан и с болью в сердце…
И теперь он не знал, чем заняться, как заполнить те два-три дня, в которые он останется в селе. Он знал, что один день проведет с Ашравом-Пистолетом, даже сильно занятый, тот найдет свободное время для друга, в чем нет никакого сомнения. Они наберут закусок и напитков и поедут к роднику Марвар, удаленный от села и от людских взглядов. Там они сядут, как всегда, вспоминая детские годы и пускаясь в рассуждения о сегодняшнем дне, отодвигая от себя рутинные заботы, а потом встанут, словно оставив часть их там, и уедут с облегченной душой.
Из одноклассников Тарлана в селе больше никого не оставалось. Несколько человек уже были покойниками, остальные проводили жизнь в близких и далеких городах. Пистолет для него как бы заменял их всех, о каждом сообщал, что знал. Не без того, чтобы Тарлан не встречался кое с кем из одноклассников в прежние приезды в село. В таких случаях Пистолет собирал их всех и вез к тому же роднику Марвар.
Ашрав-Пистолет, весь округлый, низкий и широкоплечий, был быстрым в движениях. Он с детских лет мечтал стать милиционером. Когда учился в школе, всегда мастерил пистолеты. Найдет где-то железную трубочку маленького калибра, принесет домой, один ее конец сплющит молотком и загнет, завяжет проволокой к ложу, спиленному из куска дерева ножовкой. Оставалось еще в заглушенном конце ствола слева напильником сделать отверстие с острие шила, и пистолет был готов. Теперь предстояло его испытать. Он брал четыре или пять коробок спичек, снимал с них серу и сыпал в дуло пистолета, утрамбовывая проволокой, после чего заряжал его железками или камешками, и так несколько раз. В конце забивал серу и в отверстие слева в дуле. После всего этого ставил на какую-нибудь стену жестянку из-под консервов или бутылку. Оставалось, отойдя метров на пять, направить пистолет на мишень и чиркнуть по маленькому отверстию на дуле спичкой. Пистолет, выбрасывая из себя огненную стрелу, оглушительно стрелял. В мишень «пули» то попадали, то нет, если попадали, бутылка разбивалась, а в жестянке пробивались дырки. И в эти минуты Ашраву казалось, что он победил всех врагов в мире, поставил конец всем плохим делам.