История римских императоров от Августа до Константина. Том 5 От Веспасиана до Нервы (69–98 гг. н.э.)
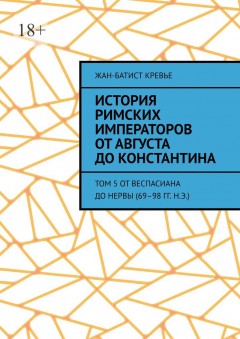
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Жан-Батист Кревье, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0065-9094-6 (т. 5)
ISBN 978-5-0065-8411-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Веспасиан
Книга вторая (Продолжение)
§ I. Гибель иудеев – событие весьма примечательное, особенно в религиозном отношении
Гибель иудеев – событие само по себе весьма примечательное, а в связи с религией приобретающее ещё большее значение. Кровавая война, в которой ярость партий соединяется с оружием иноземцев для уничтожения нации, вернее, вынуждает к тому вопреки его воле милосердного врага, готового пощадить побеждённых; древний и знаменитый народ, расселившийся из своей страны, как из центра, по всем частям известного мира, поражённый самыми ужасными бедствиями, каких не сохранила ни одна история; великий и гордый город, отданный на растерзание огню, и один миллион сто тысяч жителей, погребённых под его развалинами; храм – чудо вселенной, предмет благоговения даже тех, кто исповедовал другую веру, разрушенный до такой степени, что не осталось камня на камне, – всё это, без сомнения, факты, способные возбудить самый живой интерес, даже если бы они были чисто человеческого происхождения. Но как драгоценны становятся для нас эти же факты, когда мы вспомним, что они содержат одно из самых ярких доказательств истинности нашей святой религии! Они были предсказаны Иисусом Христом за сорок лет до того, когда ничто не предвещало их; рассеяние иудейского народа и разрушение храма входят в систему Евангелия, посредством которого познание истинного Бога не должно было более ограничиваться одной нацией, а Его служение – одним местом; наконец, эти бедствия, самые ужасные, какие только можно себе представить, суть месть Божия за величайшее преступление, когда-либо совершённое на земле, – за жестокую и позорную смерть Его Сына.
Божественное провидение пожелало, чтобы столь важная история была передана нам очевидцем, который сам принимал большое участие в главных событиях; очевидцем, никоим образом не подозреваемым в пристрастии к христианам, видевшим, как он не раз отмечает в своём сочинении, доказательства небесного гнева над своей несчастной родиной, но не знавшим его причины. Иосифу и в голову не приходило, что иудеи навлекли на себя гнев Божий отвержением и распятием Мессии, обещанного их отцам, так как, из угодливости, столь же безумной, сколь и нечестивой, он относил к врагам и губителям своего народа пророчества, возвещавшие ему избавителя.
Он изложил свой предмет с величайшей подробностью, считая долгом не упустить ни одного обстоятельства, потому что в сочинении, посвящённом исключительно этой цели, он намеревался полностью ознакомить с ним как своих современников, так и всё потомство. У нас эти факты очень известны не только учёным, но и простым читателям благодаря переводу Иосифа, появившемуся в прошлом веке и до сих пор читаемому с жадностью. Впрочем, то, что составляло единственный предмет иудейского историка, есть лишь малая часть труда, за который я взялся. Поэтому я вынужден сжаться и сократить своё повествование, стараясь, однако, не пропустить ни одной черты, характеризующей главных действующих лиц, и особенно ни одной из тех, на которых видна печать перста Божия, явно обозначенная в этом великом событии.
Иудейская нация была тогда более привязана к религии отцов, чем когда-либо. Правда, общение с иностранцами и изучение греческой философии испортили некоторых отдельных лиц. Эпикурейство, столь противное даже естественной религии, проникло к ним и образовало секту саддукеев. Но эта секта, хотя её и приняли самые знаменитые из священников, ограничивалась малым числом лиц. Основная масса народа, казалось, вследствие своего смешения с идолопоклонниками, удвоила рвение к чистоте своего богослужения. Фарисеи, отличавшиеся большой строгостью, одни имели влияние в народе: он слушал только их и даже по их авторитету принял различные обряды, которые, прибавленные к закону, служили ему как бы оградой и укрепляли стену, отделявшую иудеев от язычников. Отсюда несколько возмущений – то против их царей, когда они находили их слишком снисходительными к обычаям римлян, то против самих римлян. Я подробно описал возмущение, вызванное делом о статуе Калигулы и поставившее нацию на край гибели. Рвение иудеев было так живо и пламенно, что они не допускали даже ввоза в свою страну изображений кесарей, которым поклонялись повсюду; римские магистраты и полководцы уважали эту их щепетильность. Иосиф рассказывает, что Вителлий, правитель Сирии, готовясь перейти с войском через Иудею для войны с Аретой, царём арабов, был встречен первыми людьми нации, которые представили ему, что знамёна его легионов украшены изображениями, которые, по их закону, не должны были появляться в их стране. Вителлий благосклонно принял их просьбу и, направив войско другой дорогой, прибыл в Иерусалим в сопровождении только своих друзей.
Еще одним источником восстания среди иудеев были пророчества о Мессии, которые они понимали превратно и истолковывали неверно. Они знали, что сроки, указанные пророками, исполнились, но их страсти не позволили им признать Спасителя, который избавлял их лишь от рабства греха, а не от власти римлян. Поэтому они всегда были готовы слушать любого обманщика, который обещал им свободу и господство над врагами.
История Иосифа Флавия полна в этот период рассказами о попытках всевозможных мошенников провозгласить себя царями или сбросить иноземное иго. Часто они уводили за собой множество народа в пустыню, обещая великие чудеса. Едва одна такая группа рассеивалась, как появлялся новый соблазнитель. Дольше всех и с наибольшим размахом действовал Иуда Галилеянин, упомянутый в Деяниях Апостолов.
Это был человек ловкий, красноречивый, приверженец учения фарисеев, которое он доводил до крайности, добавляя к нему любовь к свободе, граничащую с фанатизмом. Когда Иудея после смерти Архелая стала римской провинцией, и Квириний по приказу Августа прибыл для проведения переписи [1] населения и имущества, Иуда, поддержанный другим фарисеем по имени Садок, открыто выступил против этого, называя его тиранией. Он утверждал, что податные списки – это настоящее рабство, и открыто призывал народ к восстанию, заявляя, что у иудеев нет иного господина, кроме Бога.
Его мятежные речи не сразу возымели последствия: его сторонники были вынуждены разбежаться. Но он оставил после себя последователей, которые так упорно держались его учения, что предпочитали любые пытки, лишь бы не называть никого господином. Эти фанатики своими гордыми принципами поддерживали в народе дух мятежа, который, вызвав несколько временных волнений, наконец разгорелся с такой силой из-за несправедливостей и злодеяний прокуратора Гессия Флора, что угас лишь после полного разрушения нации.
Флор был назначен правителем Иудеи на одиннадцатом году правления Нерона, получив эту должность благодаря влиянию своей жены, которая была подругой Поппеи. Он застал страну в таком состоянии, что мудрый и деятельный правитель мог бы проявить свои таланты и добродетели, но Флор увидел в этом лишь возможность грабить и обогащаться.
Среди множества мятежников, поднимавшихся со времени подчинения Иудеи Риму, не было ни одного, чьи действия не оставили бы пагубных последствий. Хотя их попытки проваливались, их сторонники не были полностью истреблены, и, поскольку Иудея – страна гористая, а рядом простираются обширные пустыни, уцелевшие легко находили убежища. Потом они собирались в банды и опустошали страну ужасающими грабежами. Все эти разрозненные группы сходились в приверженности учению Иуды Галилеянина, прикрывая свои злодеяния пылкой ревностью к защите общей свободы. Они объявляли себя посланниками Бога, призванными смыть позор порабощения, и угрожали смертью всем, кто оставался покорным Риму.
Таким образом, любой мирный житель становился их врагом. Они грабили дома, убивали людей, жгли селения и, распространяясь по всей Иудее, наполняли ее резней и ужасом.
Среди этих разбойничьих шаек выделялись самые отчаянные, которые приходили в Иерусалим, чтобы разжечь мятеж и уничтожить тех, кто противился восстанию. Не имея сил для открытого нападения, они прибегали к убийствам, совершая их даже в храме. Они носили короткие кинжалы, скрытые под одеждой, и в дни праздников, смешавшись с толпой, внезапно поражали тех, кого подозревали. Затем притворялись возмущенными, присоединяясь к крикам зрителей, так что их невозможно было опознать.
Первой их жертвой стал Ионафан, бывший первосвященник. Затем они убили и других знатных граждан. Эти убийства стали так часты, что все жили в постоянном страхе, и никто не решался выйти на улицу, не рискуя жизнью.
Альбин, непосредственный предшественник Флора, поощрял дерзость этих негодяев безнаказанностью. Низкий и алчный, он продавал общественную безопасность за деньги. Те, кого арестовывали за разбой, откупались подарками и выходили на свободу. Преступником считался лишь тот, кто не мог заплатить. Он давал мятежникам полную свободу действий, а его чиновники, следуя примеру, вымогали взятки у бедных, как сильные мира сего платили правителю.
Так образовалось несколько разбойничьих банд, каждая со своим предводителем, безнаказанно творящих насилие. Мирные граждане становились их добычей. Не надеясь на правосудие, они молчали, если их грабили, и считали себя счастливыми, если избегали беды. Страх перед постоянной угрозой заставлял их заискивать перед негодяями, достойными самых страшных казней.
Флор, который сменил Альбина, заставил сожалеть о последнем. Альбин по крайней мере скрывал свои поступки и, казалось, был способен испытывать некоторый стыд. Флор же, напротив, открыто гордился своими несправедливостями, грабежами и жестокостями и обращался с иудейским народом, как палач, присланный для казни преступников. Без милосердия, без стыда, он не умел ни смягчаться перед страданиями, ни краснеть от самого постыдного. Соединяя хитрость с наглостью, он мастерски владел губительным искусством затемнять очевидность правосудия и справедливости. Ему было мало угнетать и грабить отдельных лиц – он разорял целые города, опустошал обширные области разом. Его связи с разбойниками были очевидны для всех, и не хватало только, чтобы он трубным гласом объявил всеобщее разрешение грабить и убивать при условии выделения ему доли добычи.
Такое тираническое правление опустошило страну: множество семей покинули свои жилища и имущество, чтобы найти хотя бы у чужеземцев безопасность и мир.
У иудеев была надежда на наместника Сирии Цестия Галла, который после Парфянской войны, завершенной Корбулоном, соединил в своих руках командование легионами с гражданским управлением и под чью власть подчинялся прокуратор Иудеи. Но никто не осмелился отправиться с жалобами к нему в Антиохию, его обычную резиденцию. Ждали, когда он прибудет в Иерусалим. Он прибыл туда на праздник Пасхи в 66 году от Рождества Христова, в двенадцатый год правления Нерона. Три миллиона иудеев окружили его, умоляя сжалиться над бедствиями народа и требуя правосудия против Флора, который был его бичом. Цестий успокоил толпу красивыми словами, но не предложил действенного средства против зла. Возвращаясь в Антиохию, он был провожен до Кесарии Флором, который исказил факты и представил всё в свою пользу.
Тем не менее прокуратор опасался последствий дела, в котором вся вина лежала на нём, и решил, чтобы задушить его, развязать войну. Он не сомневался, что, если страна останется в мире, иудеи, измученные дурным обращением, в конце концов обратятся к императору, тогда как открытый мятеж, сделав их виновными, лишит их всякой возможности быть услышанными. Поэтому, чтобы вынудить их к крайним мерам, он старался всё более усугублять их бедствия. В это время в Кесарии произошло волнение, которое благоприятствовало его замыслам и дало ему предлог приступить к их исполнению.
Город Кесария до того, как был отстроен Иродом, существовал под именем Стратоновой Башни, но был ветхим и почти лежал в руинах. Ирод, вдохновленный местоположением, захотел сделать из него памятник своего великолепия и благодарности Августу. Он заново отстроил его, вырыл гавань, воздвиг дворец для себя; и поскольку религия никогда не мешала его политике, он установил там статуи и возвел храм в честь принца, которого почитал гораздо искреннее, чем Бога небесного. Таким образом, в этом городе, населенном сирийцами и иудеями, смешались идолопоклонство и культ истинного Бога. Это было источником раздора, и в то время, когда Феликс, брат Палласа, управлял Иудеей, распря между двумя народами, населявшими Кесарию, обострилась. Иудеи претендовали на первое место в городе, основанном их царем Иродом. Сирийцы же утверждали, что они представляют древних жителей Стратоновой Башни, и добавляли, что Ирод не собирался отстраивать город для иудеев, раз воздвиг в нём храмы и статуи.
Дело не ограничилось словами: дошло до рукопашной, начались мятежи и стычки. Наконец, вмешался римский магистрат, силой укротил наиболее упорных и заставил обе стороны жить в мире, пока император не решит спор по существу. Ответ Нерона был в пользу сирийцев и пришёл как раз в то время, когда Иудея пылала под властью Флора. Легко представить, что иудеи Кесарии были недовольны этим решением, а их противники торжествовали с надменностью, которая усилила ярость побежденных и дала им повод к открытому возмущению.
У иудеев в Кесарии была синагога возле участка, принадлежавшего сирийцу. Они неоднократно пытались уговорить владельца продать им это место, предлагая цену, намного превышавшую его стоимость. Но он с презрением отверг их предложения и даже начал строить там, возводя лавки, которые стесняли и сильно сужали проход к синагоге. Наиболее горячие из иудейской молодежи прибегли к силе и напали на рабочих. Флор осудил и пресек это насилие. Тогда наиболее влиятельные и богатые представители народа вступили с ним в переговоры и за восемь талантов [2] добились от него обещания помешать строительству лавок.
Но Флор, столь же вероломный, сколь и корыстный, дал слово лишь для того, чтобы получить деньги. Получив их, он уехал в Себасту (Самарию), оставив иудеев действовать по своему усмотрению, словно просто продал им право вершить расправу самим. Эта политика явно разжигала конфликт вместо его улаживания – и так и произошло.
На следующий день после отъезда Флора была суббота: и пока иудеи собирались в своей синагоге, один из самых мятежных язычников поставил прямо у их пути опрокинутый глиняный сосуд, на котором начал приносить в жертву птиц согласно языческому обряду. Иудеи были возмущены этим оскорблением их религии и осквернением места, которое они почитали священным. Старейшие и мудрейшие среди них предлагали обратиться к магистрату. Но пылкая молодежь не вняла увещеваниям старших. Они схватились за оружие; и так как противники, подстроившие эту жертву, заранее приготовились, завязалась схватка, в которой сирийцы одолели не только иудеев, но и римского офицера, прибывшего с солдатами для усмирения беспорядков: в результате иудеи, унося с собой свитки Закона, отступили в место под названием Нарбата, в шестидесяти стадиях [3] от Кесарии. Двенадцать самых знатных среди них отправились в Себасту к Флору, умоляя о защите и почтительно напоминая о восьми талантах, которые он получил. Но вместо того чтобы выполнить свои обязательства, Флор приказал заключить просителей в тюрьму, обвинив их в похищении свитков Закона.
Иудеи Иерусалима были потрясены страданиями своих братьев в Кесарии, но всё же сдерживались в рамках долга. Однако Флор, поставивший себе целью разжечь войну, в то же время повелел изъять из храмовой казны семнадцать талантов [4] под предлогом нужд императора. Это святотатство окончательно истощило терпение народа. Со всех сторон стекались к храму, и бесчисленная толпа, испуская вопли негодования и скорби, взывала к имени Цезаря, требуя избавления от тирании Флора. Некоторые зачинщики мятежа, которые, как я уже говорил, проникли в Иерусалим, осыпали прокуратора бранью, а чтобы выставить его на посмешище, ходили по городу с чашей в руках, собирая для него милостыню, как для нищего, измученного голодом. Это публичное унижение не заставило Флора устыдиться своей алчности, но лишь добавило гнев к его корыстолюбию. Забыв о Кесарии, где начались волнения и за умиротворение которой он даже получил плату, он в ярости двинулся к Иерусалиму и, жаждая добычи даже больше, чем мести, взял с собой множество солдат – конницу и пехоту, стремясь к шуму и славе и желая превратить искру, которую легко было погасить, в пожар.
Напуганный народ попытался предотвратить бурю и вышел навстречу войску, готовый встретить Флора со всеми почестями, подобающими его положению. Но Флор отправил вперед офицера с пятьюдесятью всадниками, приказав разогнать толпу и объявить, что покорностью теперь не умилостивить того, кого они столь дерзко оскорбили, и что настало время доказать любовь к свободе делами, а не пустыми речами. Это был вызов иудеям, но он не был принят. Народ желал мира и, огорченный тем, что не может доказать римлянам свою покорность, разошелся по домам; ночь прошла в страхе и тревоге.
Флор разместился во дворце Ирода, а на следующий день, восседая на трибунале, увидел перед собой первосвященников и всех знатнейших граждан города, которым объявил, что они должны выдать ему оскорбивших его, если не хотят сами понести наказание, предназначенное виновным. Они ответили:
– Народ Иерусалима стремится к миру, и мы просим пощады для тех, кто оскорбил вас. В столь великом множестве людей неудивительно найти несколько безрассудных, которых юношеский пыл заставляет забываться. Теперь уже невозможно отличить виновных, поскольку страх и раскаяние заставили их говорить так же, как и остальных, и нет никаких признаков, по которым их можно было бы распознать. Вам, Флор, подобает поддерживать мир в народе; вам следует сохранить для римлян город, который служит украшением их империи; и справедливее простить немногих виновных ради множества невинных, чем погубить весь народ, добрый и верный, из-за горстки дерзких.
Эти представления не возымели иного действия, кроме как еще больше ожесточили Флора. Воспламененный гневом, он приказал солдатам разграбить Верхний город – древнюю крепость Давида на горе Сион – и убивать всех, кто попадется на пути. Солдаты, столь же алчные, как их начальник, и вдохновленные его приказами, превзошли даже его ожидания. Их ярость не ограничилась указанными рамками: они врывались во все дома, убивая всех подряд, без различия пола и возраста. Число погибших, включая женщин и детей, достигло трех тысяч шестисот. Среди них были и знатные люди, которых схватили солдаты и привели к Флору: он приказал бичевать их, а затем распять. Среди распятых оказались даже несколько римских всадников; и Иосиф справедливо замечает, что это было настоящим тираническим поступком со стороны Флора – так жестоко обращаться с людьми, которые, хоть и были иудеями по рождению, но имели римское гражданство и звание.
Береника в то время находилась в Иерусалиме, исполняя обет назорейства, данный Богу. Тронутая печальной участью своих соотечественников, эта царевна сделала все возможное, чтобы смягчить безжалостный гнев Флора. Она неоднократно посылала к нему своих приближенных, но, видя, что ничего не добивается, а солдаты прямо у нее на глазах творят всяческие жестокости над несчастными иудеями, сама явилась к прокуратору как просительница. Однако ничто не могло побороть в Флоре жажду мести, подкрепленную стремлением обогатиться. Он отверг Беренику; она едва не подверглась оскорблениям в его присутствии и даже могла быть ранена солдатами. Считая себя счастливой, она укрылась в своем дворце, где заперлась с надежной охраной.
Это событие, которое можно считать началом войны, произошло в 66 году от Рождества Христова и, согласно Иосифу, датируется 16-м числом месяца Артемисия, что, по расчетам Скалигера и г-на де Тиллемона, примерно соответствует нашему маю.
Здесь мы видим три различных группы действующих лиц со стороны иудеев, и важно их различать, чтобы правильно понять положение дел и все последующие события:
Знать и первые люди нации, всегда стремившиеся к миру и желавшие его сохранить, ибо они видели гибельные последствия восстания;
Партия мятежников, которые, под предлогом безумной любви к свободе (а на деле – чтобы получить возможность безнаказанно творить преступления), разжигали огонь войны;
Основная масса народа, склонная по природе следовать за своими вождями, но иногда увлекаемая дерзостью мятежников, которые в конце концов сумели подчинить ее себе.
На следующий день после описанной военной расправы народ, охваченный скорбью, собрался в Верхнем городе и, требуя у Флора ответа за кровь пролитых накануне, предавался яростным воплям. Первосвященники и знать, встревоженные начавшимся волнением, поспешили туда и, разрывая одежды, умоляя и уговаривая, убедили толпу разойтись. Казалось, спокойствие вернулось в город.
Но это не входило в планы Флора, которому были выгодны смута и война. Он вызвал из Кесарии две когорты, которые уже приближались к городу, и с ужасающим вероломством решил отдать народ Иерусалима на их произвол. С одной стороны, он объявил первосвященникам, что те должны уговорить народ выйти навстречу этим когортам, и назвал бы это доказательством покорности нации. С другой – тайно приказал когортам не отвечать на приветствия иудеев. Рассчитывая (и не без оснований), что это проявление вражды и высокомерия разозлит тех, кто почувствует себя оскорбленным, и заставит их снова кричать против него, тем же приказом он велел когортам напасть на иудеев и обращаться с ними как с врагами при первом же возгласе негодования. Этот гнусный план удался.
Хотя священники с трудом убедили народ выйти из города, чтобы встретить приближающиеся когорты, некоторые мятежники, смешавшиеся с толпой, возмутились, когда им не ответили на приветствие, и, обвиняя Флора, подняли крики против его тирании. В тот же миг когорты бросились на безоружную и беззащитную толпу, которой оставалось только бежать. Давка и беспорядок были таковы, что больше людей погибло, задавленных у городских ворот, чем от рук солдат.
Когорты ворвались вслед за бегущим народом через квартал Бецета, расположенный к северу от Храма, и попытались прорваться к крепости Антония. Эта крепость, построенная царями Хасмонеями и значительно расширенная и укрепленная Иродом (который назвал ее в честь своего покровителя Антония), господствовала над Храмом, занимая угол между северной и западной его сторонами. Там стоял римский гарнизон, и неясно, почему Иосиф не упоминает об этих войсках в данном сражении. Как бы то ни было, усилия двух когорт оказались тщетны. Напрасно Флор, жаждавший завладеть сокровищами Храма, двинулся к ним на подмогу с отрядом личной охраны. Иудеи, заполнив улицы, преградили путь, а многие, взобравшись на крыши, осыпали римлян градом стрел и камней. Пришлось отступить, и иудеи сохранили контроль над Храмом.
Однако они опасались, что Флор снова нападет. Поскольку крепость Антония оставалась в его власти благодаря гарнизону, а сил штурмовать ее не хватало, мятежники разрушили галереи, соединявшие крепость с Храмом. Так она оказалась изолирована и стала гораздо менее опасной.
Флор тогда принял решение, которое может показаться странным. Его присутствие в Иерусалиме никогда не было более необходимым. Однако он покинул город, оставив там, по согласованию с народными вождями, лишь одну когорту для охраны, и удалился в Кесарию. Иосиф не приписывает ему иного мотива, кроме невозможности ограбить храмовую казну: так что, потеряв надежду на добычу, которая его привлекла, он более не имел причины оставаться в Иерусалиме. Возможно, он был трусом и прежде всего хотел обезопасить себя, оставив за собой право позвать Цестия для поддержки в войне, которую разожгла его же тирания.
Цестий одновременно получил письма от Флора, обвинявшие иудеев в мятеже, и письма от Береники и знатных жителей Иерусалима, горько жаловавшихся на Флора. Не зная, как относиться к столь противоречивым сообщениям, он решил отправить на место трибуна по имени Неаполитан, чтобы тот проверил факты и доложил ему.
В то же время Агриппа Второй, брат Береники и царь части Иудеи под римским протекторатом, прибыл из Александрии, куда ездил поздравить Тиберия Александра с назначением префектом Египта. Он встретился с Неаполитаном в Ямнии, а к ним присоединились первосвященники и члены иерусалимского совета. Агриппа любил свой народ. Но, хотя и сочувствовал страданиям иудеев, он знал их упрямый и непреклонный нрав и счел нужным, ради их же блага, усмирить их гордыню, возложив на них вину. Депутаты не поддались на это: они поняли мотивы царя и, оценив его дружеский упрек, уговорили его отправиться в Иерусалим вместе с Неаполитаном.
Жители города вышли им навстречу за шестьдесят стадий. Там вновь раздались жалобы и плач: все единодушно требовали избавить страну от бесчинств Флора. Царь и римский офицер, войдя в город, своими глазами увидели следы разрушений, учиненных Флором. Чтобы доказать Неаполитану, что они полностью покорны Риму и недовольны лишь Флором, заслужившим их ненависть, иудеи через посредничество Агриппы уговорили трибуна пройти по городу пешком с одним лишь рабом. Неаполитан остался так доволен спокойствием, порядком и покорностью, которые увидел повсюду, что, поднявшись в храм, собрал народ и похвалил его за верность Риму, обещая донести об этом сирийскому наместнику. Затем, воздав почести Богу, в чьем храме он находился, он удалился и отбыл.
Однако дело не было закончено. Иудеи более не желали признавать власть Флора. Они настаивали на отправке посольства к Нерону, чтобы известить его о произошедшем, и горячо убеждали Агриппу и первосвященников, указывая, что если Флору дать волю, он возложит на весь народ вину за беспорядки, в которых виновен лишь он сам, и представит его мятежным перед императором. Эти доводы были весомы. Но те, кто занимает высокое положение, всегда более робки, чем простой народ, ибо им есть что терять. Агриппа и знатные иудеи боялись скомпрометировать себя обвинениями против Флора. Царь, видя, что толпа готова скорее начать войну, чем покориться тому, кого считала тираном, попытался устрашить ее, напомнив о громадном неравенстве сил между иудеями и римлянами. Примерно к этому сводится пространная речь, которую Иосиф вкладывает в его уста перед собравшимся народом, завершающаяся ясным и точным заявлением, что он не разделит их опасности, если они решатся на верную гибель. Береника присутствовала при этой речи, стоя на возвышении, и слезами поддержала слова брата.
Народ ответил, что воюет не с Римом, а с Флором. «Вы воюете с Римом, – возразил Агриппа, – ибо не платите податей кесарю и разрушили галереи, соединявшие храм с крепостью Антония». Народ признал справедливость упрека: чтобы исправиться, немедленно начали восстанавливать разрушенные галереи, а магистраты и советники разошлись по селениям, чтобы собрать недостающие сорок талантов подати. Но упрямство иудеев в отношении Флора преодолеть не удалось. Когда Агриппа попытался убедить их повиноваться прокуратору до тех пор, пока император не пришлет замену, они пришли в ярость, потребовали, чтобы царь покинул город, а некоторые из мятежников даже забросали его камнями. Так что Агриппа, видя бесполезность усилий и справедливо возмущенный наглостью толпы, удалился в свои владения, расположенные главным образом у истоков и за Иорданом.
Уход Агриппы дал мятежникам полную свободу, и они, наконец сбросив маску, открыто выступили против Рима. Элеазар, сын первосвященника Анании, юноша отчаянной смелости, командовавший храмовой стражей, убедил священников не принимать жертвоприношений от язычников. Между тем существовал обычай ежедневно приносить жертву за римлян, установленный Августом, как упоминалось ранее. Священники, следуя совету Элеазара, отвергли жертвы, предназначенные для этого обряда, тем самым разорвав связь с Римом и нарушив долг подданных.
Великие [мужи] были встревожены этим покушением, предвидя его ужасные последствия. Они попытались словами образумить обезумевших мятежников и, собрав народ, обратились к нему:
– О чем вы думаете? – сказали они. – Ваши предки, далекие от отвержения жертвоприношений любого человека, каким бы он ни был (что было бы нечестием), украсили этот храм дарами чужеземцев и считали, что возвеличивают его славу, освящая в нем памятники, поднесенные царями и князьями всех народов. А вы, движимые столь же безрассудным, сколь и опасным рвением, отвергаете приношения тех, под властью которых живете! Вы лишаете храм того, что составляет немалую часть его известности, и хотите, чтобы иудеи стали единственным народом, запрещающим чужеземцам любые религиозные обряды! Если бы вы ввели этот новый закон против частных лиц, это было бы расколом, противным человечности. Но отрезать Цезаря и римлян от всякого участия в вашем богослужении – разве это не значит отречься от защиты их империи? Отказываясь приносить за них жертвы, берегитесь, как бы они не лишили вас возможности приносить жертвы за себя. Увы! Лучше подумайте о вашей слабости и их могуществе и прекратите оскорбление, пока те, кого вы оскорбляете, не узнают об этом.
Мятежники, жаждавшие войны, ничуть не тронулись этими увещеваниями; они господствовали среди народа, чье легковерие легко обманывалось ложным религиозным рвением. Тогда вельможи, первосвященники и старейшие сенаторы решили лишь отделить свое дело от дела этих безумцев и попытаться применить крайнее средство, призвав внешнюю помощь против своих сограждан. Они отправили посольства к Флору и Агриппе, прося прислать войска для усмирения бунтовщиков.
Смута среди иудеев была для Флора счастливым случаем: видя, что война разгорается по его желанию, он оставался спокоен и не дал послам никакого ответа. Агриппа же думал иначе. Он любил иудеев, но был предан римлянам: он хотел сохранить первым их храм и столицу, а вторым – прекрасную провинцию; кроме того, он не считал, что война в Иудее будет для него выгодна, и справедливо опасался, что зараза мятежа перекинется на подвластные ему земли. Поэтому он внял мольбам и отправил в Иерусалим три тысячи всадников.
Вельможи и наиболее здравомыслящая часть народа, усиленные этой помощью, захватили верхний город, так как Элеазар и его сторонники владели нижним городом и храмом. С этого момента Иерусалим превратился в поле битвы между его жителями, которые не переставали истреблять друг друга. После нескольких дней непрерывных боев мятежники одержали верх: изгнав противников из большей части верхнего города, они сожгли государственный архив и канцелярию, где хранились документы, обязывающие должников перед кредиторами, – и этим привлекли на свою сторону всю подлую чернь, которая оказалась освобожденной от долгов без их уплаты.
Побежденные отступили во дворец Ирода, возле которого стоял лагерь оставленных Флором римлян для охраны города. Там они получили небольшую передышку на два дня, пока мятежники осаждали и штурмовали крепость Антонию. Они сожгли ее и перебили всех находившихся там римских солдат гарнизона, так что Элеазару, чтобы стать полным хозяином города, оставалось лишь захватить последний оплот, который еще удерживали остатки разбитой им партии. Он начал осаду, и подошедшее подкрепление значительно помогло ему.
Крепость Масада [5], тщательно укрепленная Иродом и обильно снабженная всеми видами военного снаряжения и продовольствия, незадолго до этого была захвачена отрядом мятежников, следовавших учениям, проповеданным некогда Иудой Галилеянином. Они перерезали римский гарнизон, и крепость стала их убежищем и опорным пунктом. Менахем, сын того самого Иуды, прибыл туда с большим отрядом, велел открыть арсенал, где хранилось оружие на десять тысяч человек, вооружил своих разбойников и собранных в округе людей, после чего во главе этого войска вернулся в Иерусалим с пышностью и блеском царя и был признан вождем всей партии.
Он возглавил осаду, начатую Элеазаром. Не имея осадных машин для разрушения стен, он прорыл подкоп и обрушил башню с грохотом. Он уже считал себя победителем, но осажденные, заметившие работы врага, возвели внутри новую стену, за которой оказались в безопасности при падении башни. Это укрепление позволило им предложить капитуляцию. Менахем поступил избирательно: он даровал почетные условия войскам Агриппы и иерусалимским иудеям, но римлянам отказал в пощаде. Те не могли удержаться в столь плохой позиции в одиночку, и пока их союзники, воспользовавшись капитуляцией, покидали крепость, римляне отступили в три башни, построенные Иродом, – Гиппик, Фазаэль и Мариамна. Победители перебили отставших, разграбили обоз, подожгли дворец и лагерь. Это случилось в шестой день месяца Горпиэя, который частично соответствует нашему сентябрю.
Успехи мятежников в военных делах породили между ними раздор. Менахем был настолько надменен, что стал невыносим, а Элеазар с завистью смотрел на его роскошь, которая затмевала его самого. Последний убедил своих сторонников сбросить позорное ярмо: и когда Менахем входил в храм в окружении своей стражи, Элеазар, также сопровождаемый вооружёнными людьми, внезапно напал на него. Ему помогал народ, полагавший, что, уничтожив тирана, он уничтожит и тиранию. Отряд Менахема был подавлен численным превосходством. Многие пали на месте, некоторые бежали, в том числе Элеазар, сын Яира, который укрылся в Масаде и удерживал эту крепость до конца войны. Менахем, вынужденный скрываться, вскоре был обнаружен и предан мучительной смерти вместе со многими из своих главных сторонников.
Вскоре народ понял, что его надежды были обмануты. Те, кто убил Менахема, не желали прекращать войну, а лишь хотели единолично командовать. Поэтому, несмотря на мольбы большинства граждан не нападать на римлян, запершихся в трёх башнях, о которых я уже говорил, мятежники лишь с ещё большей яростью бросились на штурм. Вскоре осаждённые сочли бы себя счастливыми, если бы им сохранили жизнь и позволили покинуть Иерусалим. Меттий, командовавший этими войсками, предложил сдаться, и коварные враги с радостью согласились, хотя и не собирались выполнять своих обещаний. Действительно, когда римляне вышли из башен, положившись на клятву, и, согласно договору, сложили щиты и мечи, Элеазар и его люди набросились на них и перебили всех, кроме Меттия, который пообещал принять иудаизм и даже согласился на обрезание.
Такая ужасная вероломность сделала ненависть между сторонами непримиримой – чего, собственно, и добивались мятежники. Но мирное население и знатные люди города возненавидели это злодеяние, оскорблявшее и Бога, и людей, и которое, словно для придания ему ещё большей гнусности, было совершено в день субботний. Они считали месть неизбежной и скорбели о печальной необходимости разделить участь тех, чьи преступления вызывали у них ужас.
В тот же день и час иудеи Кесарии были истреблены язычниками, среди которых жили. Эта кровавая расправа стала следствием прежних распрей, о которых я уже говорил, и можно предположить, что Флор, находившийся там, одобрил и поощрил жестокость, столь соответствовавшую его ненависти к иудеям. Погибло двадцать тысяч; уцелевшие были схвачены и брошены в тюрьму по приказу прокуратора, и в Кесарии не осталось ни одного иудея.
Эта резня ожесточила весь народ, который отомстил сирийским городам и деревням. Повсюду иудеи, разделённые на небольшие отряды, несли огонь и меч. Сирийцы, как можно догадаться, не давали себя убивать без сопротивления. Таким образом, все города Сирии разделились на два лагеря, ведущих беспощадную войну. Жадность, как это обычно бывает в таких случаях, соединилась с жестокостью и ненавистью. Убийцы обогащались за счёт имущества убитых, и эта новая приманка умножила зверства: улицы и площади были усеяны трупами – мужчин, женщин и детей, – что было ужаснее, чем поле боя после кровопролитной битвы. Лишь четыре города во всей Сирии не участвовали в этой резне и остались спокойными: Антиохия, Сидон, Апамея и Гераса.
В то же время мятежники захватили Кипрос – крепость, построенную Иродом над Иерихоном, – и разрушили её укрепления; а жители Махеронта, важной крепости, которую Плиний [6] называет второй цитаделью Иудеи после Иерусалима, уговорили римский гарнизон покинуть город без боя, после чего стали его полными хозяевами.
Эти невыносимые бесчинства в конце концов навлекли на иудеев войну с римлянами. Цестий, видя, что весь народ берется за оружие, вынужден был выступить в поход. Он взял с собой лучшие легионы, к которым присоединились вспомогательные войска, предоставленные соседними царями – Антиохом Коммагенским, Соэмом Эмесским и Агриппой. Последний лично сопровождал его, и они вместе вступили в Иудею. Цестий без труда проложил путь к столице: он взял и разрушил Яффу, осмелившуюся оказать сопротивление, и расположился лагерем в пятидесяти стадиях от Иерусалима, пока иудеи праздновали Кущи.
Они смело атаковали его, и их натиск был так стремителен, что расстроил ряды римлян и поставил всю армию в опасное положение. Однако римляне оправились и отбросили иудеев к городу. Но в первой схватке они потеряли пятьсот пятнадцать человек, тогда как со стороны иудеев пало лишь двадцать два. В этом бою особенно отличился Симон, сын Гиоры, о котором нам ещё не раз придётся говорить.
Цестий оставался на той же позиции три дня, а иудеи держались перед ним, защищая подступы к своему городу. Они даже заняли высоты, господствовавшие над проходами, готовые обрушиться на римскую армию при первом ее движении. Агриппа понял их замысел и отправил к ним послов с мирными предложениями, надеясь либо вывести римлян из положения, которое казалось ему опасным, убедив иудеев сложить оружие, либо хотя бы посеять раздор между мятежниками и жителями Иерусалима, способный ослабить их. Послы Агриппы, выполнив поручение и объявив от имени Цестия амнистию за все прошлое, если те откроют ему ворота города, получили от мятежников в ответ лишь нападение: одного убили, другого ранили, а тех из народа, кто возмущался этим нарушением священных прав, разогнали камнями и палками.
Цестий, видевший раздор среди врагов, счел момент благоприятным для атаки. Он двинулся на них со всеми силами, обратил в бегство и преследовал до самого Иерусалима, где расположился в семи стадиях от города.
Там он снова оставался в бездействии три дня, вероятно, чтобы изучить местность и подготовиться к штурму. На четвертый день, тридцатого числа месяца Гиперберетея (первого месяца осени), он подступил к стенам. Народ был словно в плену у мятежников. Те, несмотря на свою дерзость, устрашились приближения римской армии и, оставив предместье, заперлись в храме. Цестий сжег квартал Безета, и если бы он развил успех и воспользовался паникой, охватившей врагов, то мог бы взять город и сразу закончить войну. Но он бездействовал, обманутый некоторыми офицерами своей армии, которые, если верить Иосифу, подкупленные деньгами Флора, не желали столь скорого окончания войны и хотели сделать иудейский народ еще более виновным из-за длительного сопротивления римскому оружию.
Видно, что этот полководец был недальновиден и малоталантлив. В городе возник заговор, чтобы открыть ему ворота. Он был предупрежден об этом, но вместо того чтобы воспользоваться прекрасной возможностью, своей медлительностью дал мятежникам время раскрыть заговор и казнить его участников.
После пяти дней безуспешных штурмов на шестой день он наконец прорвался к северным воротам храма и уже почти готов был поджечь их. Мятежники, потрясенные, собирались покинуть город, видя его на грани падения, а народ, напротив, начав дышать свободнее и больше не боясь своих жестоких угнетателей, звал римлян и готовился облегчить им вход. Но Цестий, с непостижимой слепотой, приказал трубить отступление и, объявив свое предприятие невозможным как раз в момент, когда оно было близко к завершению, снял осаду и вернулся в лагерь, который занимал несколькими днями ранее в семи стадиях от города.
Такое поведение, противоречащее всем правилам человеческой мудрости, казалось Иосифу неестественным. Он искал более глубокую причину: «Бог, оскорбленный преступлениями наших тиранов, возненавидел Свое святилище и не пожелал, чтобы слишком быстрая победа оставила его существовать».
Трусость Цестия вернула мятежникам смелость. Они преследовали его при отступлении и убили несколько солдат арьергарда. С этого момента римский полководец не избавился от страха, пока не достиг Антипатриды, города, довольно удаленного от Иерусалима. Постоянно теснимый врагами, чьи ряды росли благодаря успехам, он в панике бежал, вынужденный убивать своих мулов и вьючных животных, а затем бросить даже осадные машины, которые иудеи захватили и впоследствии использовали при обороне против Тита. В различных стычках во время этого отступления он потерял около шести тысяч человек, как пехотинцев, так и всадников, и одно из своих знамен.
Одним словом, победа, бывшая у него в руках, полностью досталась иудеям. Иосиф датирует возвращение победителей в Иерусалим восьмым числом месяца Дия (второго месяца осени).
Этот временный успех мог опьянить мятежников безумной гордостью. Но в Иерусалиме не было ни одного разумного человека, который не понимал бы, что гибель города лишь отсрочена, а гнев римлян, усиленный позором, станет еще страшнее и обрушится на иудеев с новой силой. Эти размышления заставили многих бежать из Иерусалима, как с тонущего корабля. Иосиф называет поименно трех знатных особ, отправившихся к Цестию.
У христиан же было предупреждение, куда более важное, чем все соображения человеческой предусмотрительности. Иисус Христос предрек им, что, когда они увидят идолов в святом месте, нельзя терять ни мгновения и нужно покинуть город, над которым вот-вот разразится Божественная кара. Когда идолы появились у стен Иерусалима среди знамен армии Цестия, христиане в городе поняли, что настал срок, указанный их Божественным Учителем. Точное откровение, данное самым святым среди них, устранило все сомнения, и они воспользовались свободой, появившейся после снятия осады, чтобы уйти в Пеллу, город Переи, к востоку от Иордана.
Цестий больше не предпринимал ничего против иудеев. Озабоченный собственной безопасностью и опасаясь, что поражение навлечет на него гнев императора, он охотно разрешил иудеям, находившимся при нем, отправиться к Нерону в Ахайю, чтобы изложить причины войны и свалить вину на Флора. Подставляя его под удар императорского гнева, Цестий надеялся сам избежать опалы, которой боялся.
Затишье, которое Цестий предоставил иудеям, они использовали для подготовки к войне. Совет нации, заседавший в Иерусалиме, назначил командовать в городе Иосифа, сына Гориона, и первосвященника Анана. Элеазар, сын Симона, вождь мятежников, домогался этого поста. Он отличился при преследовании Цестия и захватил богатую добычу. Однако его тиранические наклонности справедливо вызывали опасения, и подозрения лишили его должности. Тем не менее, с помощью хитрых интриг и умелого использования своих богатств, он приобрел в народе влияние, хотя официального титула ему и не дали.
Совет распределил других военачальников по различным областям: в Идумею, Иерихон, Перею. Историк Иосиф был назначен ответственным за Галилею. Он оставил нас в неведении относительно подробностей действий своих коллег, но весьма пространно описал собственные деяния – поведение, выдающее тщеславие, черты которого нередки в его сочинениях. Однако это не причина пренебрегать тем, что может быть интересно и полезно в его описании своего правления и подвигов. Я выделю обстоятельства, которые покажутся мне наиболее способными либо порадовать читателя, либо его просветить.
Его методы выдают человека, мыслящего превосходно в делах управления. Первой его целью было заслужить любовь тех, кто должен был ему повиноваться. Зная, что способ расположить к себе знатных людей края – это делиться с ними властью, а народ, в свою очередь, будет рад управлению со стороны magistrates, избранных из его соплеменников, он учредил совет из семидесяти старейшин для общего надзора над всей Галилеей и решения важных дел. Менее значительные вопросы решались на местах судом из семи судей, которых он назначил в каждом городе; себе же он оставил лишь важнейшие дела и те, что могли повлечь смертную казнь.
Таков был установленный им порядок внутреннего управления. Не менее искусно он принял меры для подготовки к войне, угрожавшей стране. Он укрепил множество мест, набрал всю молодежь Галилеи, составившую сто тысяч солдат; однако не использовал всю эту массу одновременно для военных действий: половина отправлялась в поход, другая оставалась в городах и селениях, обеспечивая пропитание сражающимся.
Убежденный, что одной храбрости недостаточно для создания хороших войск и что дисциплина должна направлять доблесть, Иосиф взял пример с римлян и решил обучить своих галилеян по их образцу. Два главных преимущества римских армий над вражескими заключались в быстроте повиновения и знании военных упражнений. Иосиф заметил, что большое число офицеров чрезвычайно способствует быстрому и легкому повиновению солдат. Поэтому он умножил подразделения своих войск и, следовательно, число командиров. Что касается упражнений, он не надеялся сравняться в этом с долгим опытом римлян, но не упустил ничего из того, что было в его силах, чтобы приучить своих солдат частыми повторениями распознавать сигналы, подаваемые трубой, выполнять все необходимые в бою эволюции – для нападения или защиты. Среди наставлений он примешивал сильные увещевания, постоянно напоминая им, с какими врагами им предстоит сражаться и каких усилий потребуется, чтобы победить победителей вселенной.
Он даже предпринял искоренение пороков, слишком обычных для войск и особенно свирепствовавших тогда среди иудеев. Он часто говорил им, что судит об их будущей службе в боях по тому, насколько они воздерживаются от преступлений, к которым привыкли: воровства, грабежа, разбоя; если они перестанут считать позволенным обманывать своих соотечественников и больше не будут видеть для себя выгоды в разорении тех, кого обязаны защищать своим оружием. «Никогда, – добавлял он, – войны не ведутся лучше, чем когда солдаты, в них участвующие, имеют чистую совесть. Напротив, те, кто несет в себе пороки, навлекают на себя врагов не только среди людей, но и самого Бога».
Иосиф подавал пример умеренности и воздержания, к которым призывал своих подчиненных. Будучи тогда тридцати лет, он не поддавался ни сладострастию, ни жадности к богатству. Он уважал целомудрие женщин, отвергал подношения, которые ему хотели сделать, не принимал даже десятины, причитавшейся ему как священнику. И хотя у него не раз была возможность отомстить врагам, вызванным завистью, он предпочитал смягчать их своей кротостью.
Самым опасным из этих врагов был Иоанн, уроженец Гисхалы, города в Галилее, и потому носящий в истории это прозвище. Этот человек, которого мы вскоре увидим одним из главных виновников бедствий Иерусалима, изображен Иосифом как самый коварный и вероломный из смертных, мастер лжи, умевший придавать своим клеветническим выдумкам видимость правдоподобия. Для него хитрость была добродетелью, и он применял ее даже к самым близким людям. Жестокий и кровожадный, он скрывал свою мрачную натуру под личиной притворной мягкости, пока надежда на выгоду не заставляла его сбросить маску. Сначала он был беден, и долгое время нужда ограничивала масштабы зла, которое он мог совершить. Но уже тогда в нем была безмерная ambition, и он устремлял свои взоры к самым высоким целям. Он начал с разбоя на больших дорогах, и в этом благородном занятии собрал шайку, постепенно выросшую до четырехсот человек – всех крепких, дерзких, давно привычных к убийствам и грабежам; ибо он тщательно отбирал таких и не принимал никого без испытания. Во главе этого отряда он рыскал по Галилее, добавляя ужасы опустошения к беспорядкам, уже вызванным приближением войны.
Когда Иосиф прибыл командовать в этой провинции, он совсем не знал дурного характера Иоанна из Гисхалы и считал его человеком, чья энергия и смелость могли в сложившихся обстоятельствах принести большую пользу. [Примечание: Иоанн из Гисхалы – один из лидеров еврейского восстания против Рима, известный своей жестокостью и коварством.] Тот ловко воспользовался благоприятным отношением к нему командующего. Ему нужны были деньги для осуществления честолюбивых замыслов, которые непрерывные успехи питали в его душе. Он добился от Иосифа поручения укрепить Гисхалу, свою родину, и взимал для этой цели тяжелые поборы, большая часть которых оставалась в его руках. Кроме того, он выхлопотал себе исключительное право на торговлю галилейским маслом для иудеев, рассеянных по Сирии, которые таким образом избавлялись от необходимости пользоваться маслом, приготовленным нечистыми руками идолопоклонников. [Примечание: По иудейскому закону, масло, приготовленное язычниками, считалось нечистым.] Галилея была полна оливковых деревьев, и в тот год урожай был особенно обилен. Таким образом, Иоанн нашел огромный сбыт для своего товара, получая семьсот процентов прибыли.
Скопив благодаря этим разным способам большие богатства, он вскоре использовал их против того, чьему покровительству был обязан. Он задумал погубить Иосифа в надежде занять его место и стать командующим Галилеи. Он приказал подчинявшимся ему разбойникам возобновить свои набеги и грабежи с еще большей яростью, чем прежде, рассчитывая на одно из двух: либо заманить Иосифа в засаду, если тот лично отправится пресекать беспорядки, либо, если он останется бездействовать, обвинить его в пренебрежении безопасностью страны. Он также распустил через своих агентов слух, что Иосиф поддерживает тайные связи с римлянами. В конце концов ему удалось возбудить против Иосифа мятежи, поднять целые города и несколько раз поставить его на край гибели. Иосифу потребовалось все его присутствие духа, все его искусство и вся любовь, которую его справедливое правление снискало ему у народа, чтобы избежать предательства Иоанна из Гисхалы и удержаться у власти. Подробности этих событий можно найти у него самого, но они, по-моему, не относятся к тому, что должно входить в общую историю, подобную этой.
В это время Цестий умер, возможно, от огорчения, вызванного его неудачным походом, и управление Сирией было поручено Муциану. [Примечание: Гай Цестий Галл – римский наместник Сирии, потерпевший поражение от евреев в 66 г. н. э.] Но Иудейская война требовала особого полководца, который мог бы посвятить себя исключительно этой цели. Веспасиан был назначен на этот пост, независимо от наместника Сирии. В другом месте я уже говорил о причинах, побудивших Нерона сделать этот выбор.
Сразу после своего назначения Веспасиан отправил своего сына Тита в Александрию, чтобы привести оттуда пятый и десятый легионы. Сам он, переправившись через Геллеспонт, сухим путем прибыл в Антиохию, а оттуда – в Птолемаиду, где назначил общий сбор своей армии. Он привел с собой пятнадцатый легион, к которому присоединились двадцать когорт, несколько кавалерийских отрядов и вспомогательные войска, предоставленные царями Агриппой, Антиохом Коммагенским, Соэмом Эмесским и арабом Малхом. Когда Тит прибыл с двумя легионами из Александрии, армия насчитывала шестьдесят тысяч человек.
Веспасиан установил в ней строгую дисциплину, и благодаря этой заботе, всегда бывшей первостепенной у великих полководцев, он начал завоевывать уважение как союзников, так и врагов.
Он выступил в поход в 818 году от основания Рима, в 67 году от Рождества Христова [Примечание: Согласно римскому летоисчислению.] и прежде всего решил покорить Галилею – провинцию, изобилующую укрепленными городами, прикрывавшими Иерусалим. Он уже овладел столицей этой области, Сефорисом, – важнейшим и прекрасно укрепленным пунктом. Жители этого города не примкнули к всеобщему восстанию против римлян и даже заключили соглашение с Цестием. Узнав о прибытии Веспасиана в Птолемаиду, они поспешили возобновить заверения в своей верности и, обещая сражаться на стороне римлян против своих соотечественников, попросили у него войска, чтобы действовать без страха. Веспасиан, понимавший всю выгоду этого предложения, с радостью принял его и послал им шесть тысяч пехотинцев и тысячу всадников под командованием трибуна Плацида. Этот офицер не ограничился защитой вверенного ему города от нападений мятежников. Он совершал вылазки в окрестности, опустошая всю равнинную местность, а Иосиф, который, как я уже говорил, командовал в Галилее от имени иудеев, нигде не осмеливался ему противостоять. Правда, он попытался напасть на Сефорис, но, потерпев неудачу, лишь еще больше разъярил римлян, которые в отместку за эту дерзость, воспринятую ими как оскорбление, наполнили всю страну убийствами и ужасом, так что никто не осмеливался показываться за стенами городов, укрепленных Иосифом.
Плацид, видя, что ужас распространился по сельской местности, надеялся, что он проник и в города, и подошел к Иотапате, сильнейшей крепости Галилеи. Однако он встретил стойкое сопротивление. Гарнизон сделал вылазку и дал ему понять, что его надежды слишком высоки. Тем не менее он отступил в полном порядке, потеряв всего семь человек убитыми и несколько ранеными.
Между тем Веспасиан выступил из Птолемаиды со всеми своими силами и, достигнув границ Галилеи, остановился там на некоторое время, чтобы проверить, не устрашит ли мятежников вид римской армии, готовой вступить в их страну, и не склонит ли их к раскаянию. Они испугались, но не настолько, чтобы принять разумное решение. Иосиф стоял лагерем близ Сефориса с отрядом, численность которого он не указывает. Ужас овладел его людьми: почти все разбежались, не только не вступив в бой, но даже не увидев врага. С этого момента Иосиф предчувствовал худший исход войны и, не имея возможности держаться в поле с оставшимися у него немногими воинами, удалился от опасности и отступил в Тивериаду.
Таким образом, Веспасиану пришлось вести войну только против городов Галилеи, и весь его поход прошел без единого сражения. Он с ходу взял Гадару и, хотя не встретил там сопротивления, предал жителей мечу, желая одним ударом посеять ужас в стране и показать пример суровости, который сломил бы мужество врагов. Истребив все население Гадары, он поджег город, сжег также окрестные деревни и двинулся к Иотапате. Поскольку дорога туда была усеяна скалами и холмами, труднопроходимой для пехоты и совершенно непроезжей для конницы, он сначала послал войска, чтобы расчистить ее. Они работали четыре дня и проложили армии широкую и удобную дорогу. На пятый день Иосиф бросился в крепость, решив защищать ее до последней крайности.
Дело было не в том, что он надеялся на благополучный исход войны. Я уже говорил, что он предвидел, чем она закончится, и был убежден, что для его народа нет иного спасения, кроме покорности подавляющей его силе. Кроме того, он знал, что лично найдет милость у римлян. Но, как он сам сказал, предпочел тысячу раз рискнуть жизнью, чем предать родину и бесчестным малодушием запятнать доверенное ему командование. Погруженный в эти мысли, он написал из Тивериады в верховный совет нации, заседавший в Иерусалиме, точно изложив положение дел, не преувеличивая и не умаляя фактов, чтобы избежать двойной опасности: с одной стороны, обвинений в трусости, с другой – внушения адресатам безрассудной уверенности, которая могла бы привести их к гибели. Похоже, Иосиф не получил ответа на это послание, когда вошел в Иотапату.
Веспасиан был восхищен, узнав, что командующий Галилеей, которого он считал самым искусным военачальником у противника, заперся в городе, которому предстояло оказаться в осаде. Как только ему донесли об этом, он отправил трибуна Плацида и другого офицера с тысячью всадников, чтобы окружить город и не дать Иосифу ускользнуть. На следующий день Веспасиан лично прибыл с войском, чтобы начать осаду.
Описание этой осады было тщательно составлено Иосифом, командовавшим в городе, и заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь целиком. Но поскольку оно очень пространно, я вынужден сократить его, ограничившись общей картиной событий, а не подробным и детальным рассказом.
Осада длилась сорок семь дней и за это время проходила в разных формах. Сначала римский полководец попытался взять город стремительными атаками, повторявшимися изо дня в день. Затем, столкнувшись с сопротивлением и надеясь сломить упорство осажденных нехваткой воды, он перешел к блокаде, не прекращая, однако, работ по приближению к стенам, чтобы в случае необходимости взять город штурмом. Наконец, устав от затянувшейся осады и раздраженный дерзостью врагов, лишь возраставшей из-за его бездействия, он возобновил атаки, пробил стены тараном, проделал брешь – и все же овладел городом лишь благодаря своего рода неожиданности. Нельзя не упомянуть, что в одном из эпизодов Веспасиан был ранен стрелой, выпущенной со стены, но стойко перенес боль и продолжал появляться перед солдатами, словно ничего не случилось, предотвратив смятение и уныние, которые могла вызвать его рана.
Иосиф исполнял все обязанности добросовестного начальника осажденной крепости. Он воодушевлял своих людей как личным примером, так и речами; использовал все доступные военные хитрости против различных видов атак; поддерживал связь с внешним миром; совершал частые и решительные вылазки; неоднократно сжигал осадные машины врага; обманул их хитростью относительно нехватки воды. Хотя у него была только цистернная вода, которую приходилось распределять по мерке, он приказал вымачивать в ней одежду, которую затем вывесили на внешней стороне стены, так что она вся намокла. Римляне, не веря, что он стал бы так расточительно расходовать воду, если бы действительно испытывал в ней недостаток, возобновили атаки – к великой радости осажденных, предпочитавших погибнуть в бою, чем медленно умирать от голода.
Однако на этом прекрасном и достойном поведении лежит пятно. Иосиф, осознав опасность, которой подвергнется, если город будет взят, и видя, что долго он не продержится, задумал бежать – и сделал бы это, если бы жители, узнав о его намерении, не отговорили его самыми настоятельными просьбами. «Вы – наша надежда, пока город держится, – говорили они, – и наше утешение, если он падет. Вам не подобает ни бежать от врагов, ни бросать друзей. Вы вселили в нас мужество, явившись сюда, – отняли бы его, уйдя». Такие мольбы, конечно, могли заставить его отказаться от решения, которое и не должно было бы приходить ему в голову. Однако он сопротивлялся и даже попытался обмануть жителей Иотапаты, убеждая их, что сможет помочь им больше, находясь за стенами. Но они не поддались на эти красивые слова, и Иосиф, частично по доброй воле, частично поневоле, остался с ними.
На сорок седьмой день осады перебежчик сообщил римлянам, что защитников осталось мало, они измотаны, а под утро, измученные усталостью, часовые обычно засыпают, так что в эти часы город легко захватить. Веспасиан воспользовался советом, и по его приказу Тит, его сын, во главе отряда войск, бесшумно подошел к стене к четвертой страже ночи. Он взобрался первым, за ним последовали многие офицеры и солдаты. Застав стражу спящей, они без сопротивления вошли в город и мгновенно овладели им. Затем они открыли ворота армии, которой оставалось только убивать и грабить. Римляне не потеряли бы ни одного человека при взятии Иотапаты, если бы центурион по имени Антоний не поверил опрометчиво словам одного иудея, просившего пощады, и тот, воспользовавшись его доверчивостью, не поразил его мечом. Победители перебили всех, кто мог носить оружие, пощадив лишь женщин и детей. Число пленных составило тысячу двести; количество погибших как во время осады, так и при разграблении города, Иосиф оценивает в сорок тысяч. После разграбления Веспасиан приказал поджечь город. Захват Иотапаты историк датирует 1-м числом месяца Панема, частично соответствующего нашему июлю.
Я до сих пор удивлен, во имя чести Иосифа, что он нигде не появлялся в страшный момент взятия города, которым управлял, и что его нашли лишь после решения дела, спрятавшимся в пещере, куда он отправился, чтобы обезопасить свою жизнь. Он проявил большую осторожность, чтобы скрыться от врагов в первой суматохе, и, обнаружив глубокий колодец, соединенный сбоку с просторной и широкой пещерой, спустился туда и оставался там в тишине с сорока людьми, которых там нашел, и с хорошими запасами всего необходимого для жизни. Поскольку он знал, что его разыскивают, и что римляне крайне желали заполучить его под свою власть, он выходил две ночи подряд, чтобы попытаться сбежать через какое-нибудь место и добраться до одного из городов Галилеи. Но охрана была настолько бдительной, что он не смог осуществить свой замысел и был вынужден вернуться в пещеру. На третий день женщина, укрывшаяся в том же убежище, была схвачена и выдала его: и тут же Веспасиан отправил двух трибунов, чтобы предложить ему сохранить жизнь, если он сдастся.
Иосиф не решался доверять данным ему обещаниям: и Веспасиану пришлось настоятельно убеждать его через третьего трибуна, своего знакомого и друга по имени Никанор, который представил ему, что если римский полководец желает его смерти, то он в его власти: но что он ценит его добродетель и не имеет иного намерения, кроме как спасти храброго человека, который не заслуживает гибели. Когда Иосиф все еще колебался, солдаты, сопровождавшие Никанора, потеряли терпение и стали угрожать завалить пещеру и развести у входа большой огонь. В этот момент Иосиф рассказывает, что вспомнил сны, через которые Бог открыл ему будущие бедствия иудеев и последовательность римских императоров: и чтобы придать вес своим словам, он смело объявляет себя не только знатоком древних пророчеств своего народа, но и толкователем снов и разгадчиком таинственных загадок, под которыми Богу иногда угодно скрывать истину, которую он возвещает. Итак, впав, как он утверждает, в сверхъестественное вдохновение, он тайно вознес к Богу такую молитву:
«Великий Боже, поскольку Ты решил наказать Свой народ, поскольку фортуна полностью перешла на сторону римлян, мне не остается иного служения, кроме как провозглашать Твои decrees о будущем, которые Ты мне открыл. Я подчиняюсь римлянам, соглашаюсь жить: и беру Тебя в свидетели, что я отделяюсь от своего народа не как предатель, но чтобы повиноваться Твоим повелениям».
После этой молитвы [в которой Иосифу, пожалуй, можно было бы обойтись без упоминания фортуны], он пообещал Никанору последовать за ним.
Но ярость тех, кто был с ним в пещере, едва не лишила его возможности выполнить свое обещание. Это были отчаявшиеся люди, для которых смерть казалась слаще, чем жизнь, дарованная римлянами. Когда они увидели, что Иосиф склоняется к сдаче, они окружили его.
«Воистину, – воскликнули они, – вот великий позор для законов наших отцов, для этих святых законов, установленных самим Богом, который дал иудеям души, возвышающиеся над страхом смерти. Ты любишь жизнь, Иосиф, и можешь решиться купить ее ценой своей свободы! До какой степени ты забываешь себя! Неужели ты не помнишь, скольких иудеев ты убеждал своими речами предпочесть смерть рабству? Ах! Напрасно тебе приписывали двойную хвалу – мужества и благоразумия. Достойно ли благоразумного человека – доверять врагам? Достойно ли мужественного – принимать от них жизнь, даже если бы ты был уверен в ее сохранении? Если фортуна римлян ослепила тебя, нам надлежит хранить славу нашей родины. Мы предложим тебе наши руки и мечи. Соглашайся или отказывайся – это неважно. У тебя есть выбор лишь между смертью как вождя иудеев или как предателя».
С этими словами они обнажили мечи и показали, что готовы пронзить его, если он сдастся римлянам.
Несмотря на столь настоятельную угрозу, Иосиф остался при своем решении; и, если верить ему, его мотивом было не сохранение жизни, но мысль, что он станет виновен в неверности Богу, если умрет, не исполнив пророческого служения, возложенного на него. Тогда он произнес долгую речь перед этими неистовыми людьми: и философскими доводами [как он сам их называет], попытался тронуть их «бронзовые сердца». Он доказал им, что самоубийство есть неблагодарность и нечестие перед Богом.
«Если человек, – сказал он, – прячет или уничтожает вверенное ему другим человеком имущество, он несправедлив: но может ли считаться невинным тот, кто изгоняет из своего тела душу, вложенную в него Богом?»
Он показал им блаженство небес как награду для тех, кто ждет Божьего повеления, чтобы вернуть Ему свою душу; и, напротив, ад – как кару для безумцев, чьи руки поднялись на преступное насилие над собой. Впрочем, блаженство, которое он обещает праведникам, смешано с пифагорейскими идеями, согласно учению фарисеев; и он предполагает, что души праведников, побыв некоторое время в высших небесах, возвращаются на землю, чтобы оживить чистые и непорочные тела. Он завершил все эти долгие рассуждения заявлением, что решил не становиться предателем самого себя, и что если уж погибать, то лучше от руки другого, чем от своей собственной.
Эта речь лишь разъярила людей, которых слепое безумие сделало глухими к разуму. Они приготовились убить Иосифа и, с мечами в руках, напали на него со всех сторон. Однако его усилия, властный взгляд и остаток уважения, который они не смогли отбросить перед своим вождем, удержали их удары.
Но опасность не миновала: и Иосиф, не надеясь более победить их упорную ярость, принял рискованное, но единственно возможное в тех обстоятельствах решение, вверяя успех Божьей защите.
«Раз уж мы решили умереть, – сказал он, – давайте хотя бы избежим гнусного убийства и не будем навязывать каждому печальную необходимость убивать себя. Бросим жребий. Первый, на кого он падет, будет убит следующим, и так до конца. Мы все умрем, но никто не запятнает руки своей собственной кровью».
Предложение было принято: и, «либо по случайности, – говорит историк, – либо по особому Промыслу», дело устроилось так, что Иосиф остался последним с одним человеком, которого убедил довериться обещаниям римлян. Таким образом, он сдался вместе с ним Никанору, который с отрядом солдат терпеливо ждал конца этого долгого приключения; и был приведен этим офицером к Веспасиану.
[Читателю, конечно, нет нужды напоминать, что весь этот рассказ звучит несколько романтично и, возможно, был приукрашен автором.] Он достойно завершается предсказанием Иосифа Веспасиану о его императорской власти. Я уже говорил об этом в другом месте. Добавлю здесь, что Иосиф хвастается еще одним подобным предсказанием, также сбывшимся. Он утверждает, что предрек жителям Иотапаты, что осада продлится сорок семь дней, после чего их город будет взят, а он сам станет пленником римлян. [Не останавливаясь на опровержении этой хвастливой выдумки, которая сама себя разрушает,] перейду к достоверному. Иосиф, под покровительством Тита – благородной души, ценившей достоинство даже во враге, – получил от Веспасиана всяческие милости, но все же оставался в оковах.
Во время осады Иотапаты Веспасиан взял другой город в Галилее и уничтожил большое скопление самаритян.
Яфа, город неподалеку от Иотапаты, воодушевленный сопротивлением своих соседей римскому оружию, проявлял дерзость, превосходящую его силы. Траян, командующий Десятым легионом, был отправлен туда с двумя тысячами пехотинцев и тысячью всадников. Сначала он без особого труда овладел первым укреплением, ибо Яфа имела два кольца стен. Те, кто отступил во второе, закрыли ворота, опасаясь, что враги проникнут внутрь вместе с их согражданами. В результате несчастные, оказавшиеся запертыми между двумя стенами, были перебиты – числом до двенадцати тысяч. Траян пожелал оставить сыну своего полководца честь взятия города и сообщил Веспасиану о положении дел. Тот дал Титу тысячу пехотинцев и пятьсот всадников, чтобы завершить операцию. Вторая стена Яфы была взята штурмом: победители предали мечу всех, кто был способен носить оружие, а женщин и детей взяли в плен.
Самаритяне собрались с оружием на горе Гаризим, и хотя они не совершали никаких враждебных действий, их скопление вызывало подозрения. Веспасиан направил против них Цериалиса, командира Пятого легиона, с тремя тысячами пехотинцев и шестьюстами всадников. Офицер, достигнув подножия горы, счел неразумным сразу атаковать противника, имевшего преимущество в позиции, и вместо этого окружил их и запер рвами. Это происходило в конце месяца Десия, завершающего весну, и сильная жара крайне изнуряла самаритян, расположившихся на вершине безводной горы, плохо снабженных и особенно страдавших от нехватки воды. Многие погибли от жажды, другие сдались римлянам. Цериалис, узнав от перебежчиков о подавленном состоянии врага, решил, что настало время подняться к ним. Он предложил им сохранить жизнь, если они сложат оружие, но, получив отказ, атаковал и перебил одиннадцать тысяч шестьсот человек.
Эти два события произошли незадолго до взятия Иотапаты. Когда Веспасиан наконец овладел этим городом, он счел нужным дать своим войскам некоторый отдых после столь трудной осады и разместил их на отдых – часть в Кесарии, часть в Скифополисе.
Однако он не оставался в полном бездействии: узнав, что шайка разбойников, восстановившая руины города Иоппии, разрушенного Цестием, бороздит море на легких судах и занимается пиратством вдоль всех побережий, он отправил отряд пехоты и кавалерии, чтобы уничтожить это гнездо пиратов. При приближении римлян разбойники бежали на свои корабли, но поднявшаяся как нельзя кстати буря помешала этим негодяям избежать заслуженной кары. Гавань Иоппии крайне неудобна, открыта северным ветрам и окружена рифами. Беглецы, гонимые ветром к берегу, которым владели римляне, либо разбивались о скалы, либо шли ко дну; а те немногие, кому удалось достичь суши, попадали в руки врагов, которые не давали им пощады. Таким образом погибло более четырех тысяч человек. Иоппия была срыта во второй раз, и Веспасиан оставил в цитадели гарнизон, чтобы держать в узде всю округу.
После этой экспедиции, более важной, чем трудной, Веспасиан, приглашенный царем Агриппой, прибыл в Кесарию Филиппову, близ истоков Иордана, и провел там двадцать дней в празднествах и увеселениях. Помимо общего интереса угодить ему, Агриппу двигал и личный мотив: Тивериада и Тарихея, два важнейших города его владений, не были ему вполне покорны, и он желал, чтобы Веспасиан привел их к повиновению. Поскольку речь шла об ослаблении сил мятежников, а интересы римлян совпадали с интересами Агриппы, полководец легко позволил себя убедить. Он вызвал войска, оставленные в Кесарии Палестинской, соединил их с теми, что стояли в Скифополисе, и двинулся сначала к Тивериаде.
Этот город, как и большинство других в Галилее и Иудее, был разделен на две партии. Мятежники жаждали войны, народ же и благоразумные люди понимали, что безопасность возможна лишь в покорности и мире. Приближение римской армии укрепило позиции последних, и хотя мятежники сначала оскорбляли разведывательный отряд, мирные жители, заручившись через Агриппу обещанием хорошего обращения, открыли ворота Веспасиану. Тот сдержал слово: избавил город от разграбления и оставил стены нетронутыми.
Тарихея оказалась не столь легкой добычей. Мятежники из Тивериады и окрестностей укрепились в этом хорошо защищенном месте, а на Геннисаретском озере, омывавшем город, у них было множество лодок, готовых послужить им убежищем в случае поражения на суше или даже для боя.
Дерзость этих авантюристов была чрезвычайной, и один из их отрядов напал на римлян, разбивавших лагерь в виду города. Поскольку их вовсе не ожидали, они сначала нарушили работу строителей и частично разрушили укрепления, но не выдержали вида легионов и, преследуемые с мечами в спину, спаслись в лодках, о которых я только что упомянул.
Другое, гораздо более многочисленное войско выстроилось в боевой порядок на равнине. Тит, приблизившись к ним с шестьюстами отборными всадниками, обнаружил их в столь боевой готовности и столь уверенными в своем численном превосходстве, что запросил подкрепления. Веспасиан приказал выделить четыреста всадников и две тысячи лучников, чтобы присоединиться к нему под командованием Траяна и другого офицера. Получив это подкрепление, Тит атаковал врагов, возглавив своих воинов, и благодаря преимуществу дисциплины и порядка без труда разбил нестройную толпу, обладавшую лишь необузданной и плохо управляемой отвагой. Тем не менее, он не смог помешать беглецам укрыться в городе, хотя и пытался отрезать им пути отступления. Однако их поражение подорвало их авторитет: народ, желавший мира, осмелился поднять голос против мятежников.
Таким образом, в городе начался раскол, вылившийся в угрозы и крики, которые были слышны даже за стенами. Тит решил, что настал благоприятный момент для штурма, и, сев на коня, подошел к городу со стороны озера. При виде римлян в Тарихее воцарился ужасающий хаос. Мятежники либо бежали, либо, если не могли этого сделать, готовились к обороне. Жители же оставались спокойными, полагая, что им нечего бояться римлян, против которых они никогда не собирались восставать. Их надежды не обманули: как только Тит овладел городом, он отделил невиновных от виновных. Последних перебили, а остальным даровали полную безопасность для их жизни и имущества.
Веспасиан, узнав о взятии Тарихеи, прибыл в город, восхищенный успехами и славой, которые стяжал его сын. Чтобы завершить победу, он решил очистить озеро от разбойников, которые в большом количестве укрылись в лодках и, сохраняя боевой дух, скорее готовились к атаке при удобном случае, чем к бегству на другой берег. Они действительно дождались, пока Веспасиан построит флотилию, и, когда она вступила с ними в бой, приняли вызов и сражались отчаянно. Ни один из них не спасся: все погибли либо от вражеских стрел, либо утонули, а их число вместе с убитыми в сухопутных сражениях составило шесть тысяч пятьсот человек.
Тарихея была центром, куда стекались все беспокойные и враждебные миру элементы из соседних областей, и там оставалось еще около сорока тысяч таких людей, надеявшихся на прощение, дарованное Титом тарихейцам. Веспасиан созвал военный совет, чтобы решить, как поступить с этой толпой, которую нельзя было оставить в городе, где она нарушила бы спокойствие, но и нельзя было отпустить, поскольку не приходилось сомневаться, что люди, привыкшие к мятежам, грабежам и войне, возобновят свои бесчинства, как только окажутся на свободе. С другой стороны, законы человечности и справедливости не позволяли обращаться с ними как с врагами, ведь они сдались, получив обещание пощады.
Это столь важное и даже священное соображение не остановило офицеров, входивших в совет. Полные ненависти и презрения к иудеям, они утверждали, что по отношению к ним не может быть ничего несправедливого или жестокого и что в данном случае честность должна без колебаний уступить пользе. Веспасиан согласился с этим мнением и даже добавил к бесчеловечности обман. Поскольку опасались, что жители Тарихеи вступятся за несчастных, которых хотели погубить, им приказали выйти через ворота, ведущие к Тивериаде. Там их собрали на стадионе [7], куда явился Веспасиан и начал с того, что приказал зарезать стариков и тех, от кого нельзя было ожидать никакой пользы, – всего тысячу двести человек. Он отобрал шесть тысяч самых крепких и отправил их к Нерону в Ахайю для работы на Истме. Остальных, числом более тридцати тысяч, продали в рабство.
Эта коварная и кровавая расправа плохо сочеталась с характером Веспасиана, который знал, что у войны, как и у мира, есть свои законы и что великие души стремятся проявлять в них столько же справедливости, сколько и мужества. Иосиф датирует это событие восьмым числом месяца Горпиэя, третьего месяца лета.
Падение Тарихеи посеяло ужас по всей Галилее: города и крепости поспешили сдаться римлянам. Однако им пришлось брать штурмом Гамалу [8], расположенную напротив Тарихеи на другом берегу озера. Гора Итавирий (та же, что и Фавор) также задержала их на некоторое время, и они овладели ею лишь после боя с отрядом мятежников, укрепившихся там. Гисхала сдалась после того, как Иоанн, сделавшийся ее тираном, покинул ее, чтобы укрыться в Иерусалиме, как я расскажу далее.
Этот город был последним в Галилее, оказавшим сопротивление римлянам. Первоначально он был всего лишь деревней, жители которой, занятые земледелием, вовсе не помышляли о войне. Иоанн, приведя туда шайку разбойников, укрепил это место, как мы уже говорили, с разрешения Иосифа, и удерживал его в состоянии мятежа до конца.
Это была безрассудная дерзость, ибо силы вовсе не соответствовали такой отваге, и Тит, подойдя с тысячью всадников, мог легко взять город сходу. Но, устав от кровопролития и сочувствуя невинным, которые пострадали бы вместе с виновными, этот благородный победитель приблизился к стенам и попытался исцелить слепое упрямство своими спасительными увещеваниями.
– На что вы надеетесь, – говорил он тем, кто стоял на стенах, – что осмеливаетесь в одиночку противостоять мощи римского оружия после падения всех прочих городов Галилеи? Разве примеры ваших соотечественников не дают вам достаточного урока: одни навлекли на себя ужасные бедствия упорным сопротивлением, другие, доверившиеся нашему милосердию, наслаждаются своим имуществом под нашей защитой? Я предлагаю вам те же условия, не желая мстить за вашу до сих пор непреклонную гордость. Надежда сохранить свободу заслуживает снисхождения, но не упорство в попытках достичь невозможного.
Эти речи были услышаны лишь ожесточёнными сердцами. Ибо Иоанн позаботился удалить от стен и ворот всех жителей, и только его приспешники занимали укрепления. Однако он чувствовал, сколь безумна и невыполнима была идея сопротивления, и решил обмануть Тита хитростью. Он ответил, что с благодарностью принимает его предложения и склонит к покорности самых мятежных – убеждением или силой. Но он попросил одного дня отсрочки, ибо суббота, которую они сейчас соблюдали, не позволяла иудеям ни заключать договоров, ни браться за оружие.
Замысел Иоанна состоял в том, чтобы использовать эту отсрочку для бегства. Но то, что помогло ему succeed, – говорит Иосиф, – было волей Божьей, пожелавшей спасти Иоанна для наказания и несчастья Иерусалима. Это и есть, добавляет историк, истинная причина, по которой Тит не только поверил словам этого обманщика, но и отошёл на некоторое расстояние от Гисхалы, приблизившись к Кидессе, деревне, подвластной тирянам, чьи жители были извечными врагами галилеян.
Таким образом, Иоанн получил полную свободу бежать ночью. Он увёл с собой не только вооружённых людей, но и целые семьи – женщин, детей. Такое общество не могло двигаться быстро. Поэтому, пройдя несколько стадий, Иоанн ушёл вперёд, несмотря на крики и слёзы слабых, которых он бросал.
С наступлением дня Тит явился к стенам для исполнения договора. Народ открыл ему ворота с тысячами радостных приветствий, благодаря за избавление от тирана, о бегстве которого ему сообщили. Тит был раздражён, что позволил себя обмануть, и отправил в погоню за беглецами часть сопровождавшей его конницы. Иоанн имел слишком большую фору, чтобы его можно было настигнуть, и достиг Иерусалима. Беспомощная толпа, не сумевшая последовать за ним, стала добычей римлян. Они убили шесть тысяч и привели обратно около трёх тысяч женщин и детей.
Тит приказал своим солдатам пробить брешь в стене, желая войти, как в завоёванный город. В остальном он проявил совершенную снисходительность и, хотя в городе оставалось немало сторонников мятежа, предпочёл простить всех жителей без разбора, не давая повода для доносов, в которых ненависть и предубеждение могли бы играть бо́льшую роль, чем разум и справедливость. Однако он позаботился оставить в Гисхале гарнизон, способный удерживать в страхе тех, кто мог бы возмутиться. Так была завершена за одна кампания conquest Галилеи; и Тит, не оставив там более врагов, вернулся к Веспасиану, расположившемуся на зимние квартиры с двумя легионами в Кесарии: десятый легион зимовал в Скифополе.
Лёгкость, с которой Галилея была покорена, должна была послужить новым предостережением для жителей Иерусалима и открыть им глаза на судьбу, ожидавшую их несчастный город. Но ярость и ослепление росли там по мере приближения опасности. Прибытие Иоанна из Гисхалы и его запыхавшейся банды заставило многих задуматься и пробудило в них справедливые опасения. Но этот дерзкий человек насмехался над их разумной робостью и, выставляя напоказ то, что было его позором, говорил:
– Я не бежал от римлян, но пришёл занять позицию, с которой смогу вести против них добрую войну. Глупо растрачивать наши силы на защиту Гисхалы и подобных деревень, когда мы должны беречь их для столицы нации.
Он говорил о римлянах с крайним презрением, превознося оставшиеся у иудеев ресурсы:
– Посмотрите, какие трудности и лишения претерпели римляне перед жалкими деревушками Галилеи. Сорок семь дней осады едва сделали их хозяевами Иотапаты. Что же будет, если они явятся под стены Иерусалима? Нет, даже если бы у них были крылья, они не смогли бы подняться на высоту наших стен!
Эти хвастливые речи распаляли мужество молодёжи и внушали им безумный пыл к войне. Старики и разумные люди видели всю их пустоту и ложь, но были вынуждены ограничиваться бесполезными жалобами.
Ибо Иерусалим, помимо мятежников, которых он носил в своём лоне, был наводнён толпами людей, стекавшихся со всех концов Палестины. По мере того как римляне продвигались вперёд и завоёвывали земли, любители смуты, которым удавалось бежать, не имели иного убежища, кроме столицы, чьи ворота всегда были открыты для всех иудеев и где тогда с готовностью принимали соотечественников, заявлявших о своём рвении к защите святого города.
Наименьшим из зол, принесённых этой чужеземной толпой, обременявшей Иерусалим, были лишние рты, пожиравшие припасы, предназначенные для воинов.
Это зло ощущалось не сразу. Но грабежи, разбои и убийства превратили лицо города в подобие леса, кишащего разбойниками. Негодяи, наводнившие его, простирали свою жестокость даже до знатнейших граждан Иерусалима. Они открыто арестовали нескольких видных особ, трое из которых были царского рода, и отправили их на заклание в темницу. Предлогом для столь гнусного насилия служило обвинение в измене и сношениях с римлянами. Они были угнетателями и тиранами Иерусалима, но выдавали себя за его мстителей.
Подобные бесчинства сеяли ужас среди народа, но в то же время вызывали справедливое негодование, которому не хватало лишь вождя, чтобы открыто проявиться. Таким вождем стал для народа Анан, бывший первосвященник, назначенный правителем Иерусалима в начале войны и прославляемый Иосифом Флавием за мудрость и мужество.
Зелоты – так называли себя эти гнусные люди, пытавшиеся прикрыть религиозным рвением свою дерзость в совершении самых ужасных преступлений – почувствовали опасность. Они поняли, что огромная толпа, объединенная под началом умелого и авторитетного вождя, станет для них угрозой. Поэтому они укрепились в храме, превратив его в цитадель своей тирании. Так, поправ все человеческие законы, они открыто объявили себя врагами самого Бога, оскверняя и топча ногами Его святилище.
К этому святотатству они добавили новое кощунство, выбрав по жребию первосвященником некоего Фанния, который, хотя и происходил из рода Аарона, был человеком грубым, выросшим в глухой деревне и едва понимавшим, что такое сан первосвященника. Это был театральный персонаж, их игрушка, неспособный ни на какую власть, вынужденный лишь давать свое имя, чтобы прикрывать их злодеяния.
Это глумление над религией довело народное негодование до предела. Священники и знатные граждане присоединились к народу и, смешавшись с толпой, призывали людей взяться за оружие против угнетателей свободы и осквернителей святынь. Речи эти слушали жадно, но трудность предприятия охлаждала жажду справедливого возмездия. Боялись, что не удастся выбить из такой крепости, как храм, многочисленную шайку закаленных в преступлениях разбойников, готовых на все, чья дерзость лишь возрастала от отчаяния, ибо пощады им не ждали.
Наконец, на общем собрании поднялся Анан и, обратив взор к храму, со слезами на глазах воскликнул:
– О, как сладко было бы мне умереть прежде, чем я увидел дом Божий, оскверненный столькими ужасами, и святое место, попранное ногами самых гнусных из смертных! Но если бы я еще надеялся найти в этом народе, который меня слушает, опору против таких бед! Однако я вижу, что он бесчувствен к своим несчастьям и покорен лишь страхом. Вас грабят – и вы терпите; вас бьют – и вы молчите; никто из вас не осмеливается даже открыто стенать при виде невинной крови, что льется рекой. Нет, я виню не тиранов – я виню вас, которые укрепили их своим бездействием. Сначала их было мало, но ваша беспечность дала им возможность умножиться. Они начали с грабежа ваших домов – никто не возмутился; став смелее, они напали на вас самих. Вы видели, как по улицам волокли, бросали в темницы, заковывали в цепи – я говорю не о людях знатных и достойных, но о простых гражданах, против которых не было ни обвинения, ни суда – и эти несчастные не нашли никого, кто вступился бы за них! Что должно было последовать? Смерть и казнь. Так и случилось: и как из стада выбирают самых тучных жертв, так и наши тираны принесли в жертву прежде всего лучших людей народа. Их дерзость, вскормленная успехом, ныне оскорбляет самого Бога. Вы видите, как они бесчестят Его храм и из этого места, самого укрепленного и высокого в городе, самого святого во вселенной, налагают на вас ярмо рабства. Каких же новых злодеяний вы ждете, чтобы выйти из оцепенения? Они превзошли меру преступлений; их злодеяния не могут стать больше; и если совершенных ими злодеяний недостаточно, чтобы пробудить вас, ничто уже не разбудит.
Что движет вами в войне против римлян? Не любовь ли к свободе? Это драгоценное чувство, так подобающее благородным душам. И что же! Вы отказываетесь повиноваться владыкам всего мира – и соглашаетесь стать рабами своих же соотечественников, терпя от них то, чего не стали бы бояться от чужеземцев!
Сравните поведение тех и других. Ваш храм украшен дарами римлян – а эти обдирают его, снимая памятники ваших древних побед. Римляне уважают ваши законы и не смеют переступить черту святилища – а эти превратили храм в свой оплот и вносят туда руки, еще дымящиеся кровью братьев. И вы бережетесь врагов внешних, тогда как настоящие враги живут среди вас и осаждают вашу святыню!
Итак, возьмитесь за оружие смело и не бойтесь ни их числа, куда меньшего, чем ваше, ни их дерзости, ослабленной совестью, запятнанной преступлениями, ни преимущества места, защита которого дана не нечестивым, но тем, кто мстит за осквернение святыни. Покажитесь – и они погибли. И даже если вам придется подвергнуться опасности, какая участь завиднее, чем пасть у священных врат, сражаясь за жен и детей, за Бога и Его храм? Я предлагаю себя вам в качестве вождя и воина. Я поведу вас советом, а в нужный момент – и делом.
Народ, воспламененный этой пламенной речью, объявил себя готовым сокрушить тиранию. Анан записал явившихся толпами добровольцев, вооружил их, разделил на отряды и готовился атаковать зелотов, но те опередили его, сделав вылазку против народа. Бой был жестоким: с одной стороны – численность, с другой – дерзость и опыт. В конце концов разбойники, подавленные превосходящими силами врага, которые росли с каждым мгновением, и видя, что близки к поражению, вынуждены были оставить внешний двор храма и отступили во внутренний, поспешно заперев за собой ворота.
Анан не стал развивать успех. Штурм был бы опасен, да и святость места удержала его. Он не решился ввести во внутреннюю часть храма воинов, запятнанных кровью. Ограничившись блокадой зелотов, он оставил шеститысячный отряд для охраны портиков внешнего двора.
Его уважение к храму побудило его снова попытаться примириться с зелотами [прим. 1]. Он хотел, если возможно, избавить себя от тяжкой необходимости осквернять святое место кровью своих соотечественников. Поэтому он предложил им мирные условия, но выбрал крайне неудачного посланника.
Иоанн из Гисхалы, связанный тайным сговором с зелотами, внешне оставался преданным народу и, следуя обычной тактике предателей, проявлял даже больше рвения и усердия, чем те, чья преданность была искренней. Он не отходил от Анана ни днём, ни ночью, смело проникал во все совещания, приправляя свои действия неумеренной лестью по отношению ко всем власть имущим. Таким образом, он узнавал обо всех планах и немедленно сообщал их осаждённым. Анан заметил, что враги проведывают все его замыслы. Убеждённый в предательстве, он заподозрил того, кто действительно был виновен, и чьё лицемерное рвение его изобличало.
Но уничтожить Иоанна из Гисхалы было нелегко – у него была сильная партия в городе. Анан заставил его принести клятву. Этот негодяй, для которого клятвопреступления ничего не значили, поклялся в нерушимой верности интересам народа. Анан оказался настолько простодушным, что поверил ему, и – совершив непростительную ошибку для человека, стоящего во главе важных дел, – доверился тому, кого столько обстоятельств делало закономерно подозрительным, и выбрал его, чтобы передать зелотам предложения мира и соглашения.
Иоанн, проникнув в храм, вместо мирных предложений произнёс речи, более всего способные разжечь пламя войны. Он заявил, что Анан, подкупив народ, отправил приглашение Веспасиану, чтобы тот захватил город; что он приказал своим войскам очиститься [ритуально], чтобы на следующий день они могли войти в храм – добровольно или силой; что если он предлагает зелотам договор, то лишь для того, чтобы усыпить их ложным чувством безопасности и застать врасплох. Он настаивал на том, что зелоты зашли слишком далеко, чтобы надеяться на искреннее примирение, и заключил, что им необходимо искать помощи извне, иначе их гибель неизбежна.
Зелоты последовали совету Иоанна и решили призвать на помощь идумеев – беспокойный соседний народ, для которого любой повод взяться за оружие был хорош, который шёл на войну, как на праздник, и который, приняв иудейскую веру, ни в чём не уступал природным иудеям в преданности храму и святому городу. Такие благоприятные склонности побудили зелотов отправить к идумеям двух своих представителей с письмом, в котором говорилось:
Анан совратил народ и хочет предать Иерусалим римлянам. Мы же, готовые защищать свободу до смерти, отделились от предателя, который держит нас в осаде в храме. Если идумеи не поспешат нам на помощь, защитники отечества падут под властью Анана и наших врагов, а город – под властью римлян.
Посланники, люди ловкие и горячие, получили приказ изложить положение дел подробнее и вложить в свои увещевания всю возможную страсть и энергию.
Их миссия увенчалась успехом без труда. Вожди идумеев, прочитав письмо и выслушав посланников, пришли в ярость. Они объявили сбор, призвав весь народ взяться за оружие, и до истечения назначенного срока вокруг них собралась армия в двадцать тысяч человек, с которой они двинулись к Иерусалиму.
Анан, не проявивший в этом деле должной бдительности, узнал о столь масштабных действиях идумеев лишь с прибытием подкрепления. Он приказал немедленно закрыть городские ворота и занять оборону на стенах. Однако против идумеев он не предпринял никаких враждебных действий и, желая склонить их к миру убеждением, поручил Иисусу, одному из первосвященников, подняться на башню, обращённую к их войску, и обратиться к ним с речью. Идумеи приготовились слушать оратора от народа Иерусалима, и он сказал им следующее:
Если бы вы походили на тех, кому пришли на помощь, моё удивление было бы меньше. Но разве это не самое необычайное событие в мире, когда целый народ, прекрасное и сильное войско, берёт под защиту горстку негодяев, достойных тысячи смертей? Вас ведёт ревность о святости храма – но те, чьё дело вы поддержали, оскверняют его жестокостью и развратом: они пьянствуют в святом месте и делят там окровавленную добычу, награбленную у убитых братьев.
Я слышал, они обвиняют нас в сговоре с римлянами и предательстве. Необходимо было столь веское основание, чтобы подвигнуть вас взяться за оружие против народа, соединённого с вами общим вероисповеданием. Но где доказательства преступления, в котором они нас обвиняют? Лишь их собственный интерес делает нас виновными. Пока им нечего было бояться, никто из нас не был предателем. Мы стали таковыми лишь теперь, когда они не могут избежать заслуженной кары за свои злодеяния. Ах, если уж подозрение в измене должно пасть на кого-то, то куда уместнее оно в отношении наших обвинителей – ведь их преступлениям не хватает только этого, чтобы достичь предела!
Какой же самый достойный способ применения вашего оружия? Использовать его в защиту метрополии вашей религии и покарать негодяев за ту хитрость, которую они осмелились против вас применить, умоляя вас о защите, тогда как они должны были бояться вас как мстителей. Если же вы уважаете обязательства, взятые перед ними, перед вами второй выбор: сложить оружие и войти в город как друзья и союзники, чтобы выступить арбитрами и судьями между зелотами и нами. И посмотрите, насколько выгодны условия, которые мы им предлагаем, – ведь они получат полную свободу ответить перед вами на обвинения, которые мы им предъявляем, – они, которые бесчеловечно перерезали вождей нации без всякого суда, не позволив им защитить свою невиновность. Если вы не хотите ни присоединиться к нам, ни стать судьями в этом споре, оставайтесь нейтральными, не усугубляя наших бедствий и не связываясь с угнетателями Иерусалима и осквернителями храма. Если ни один из этих трех вариантов вам не подходит, не удивляйтесь, что перед вами закроют ворота города, врагами которого вы себя объявляете.
Эта столь разумная речь не произвела никакого впечатления на ослепленных идумеев. Они сочли оскорблением отказ впустить их в город и тем более предложение сложить оружие, если они хотят войти. Один из их предводителей ответил Иисусу [первосвященнику] с такой надменностью и высокомерием, что всякая надежда на примирение исчезла. Первосвященник удалился, проникнутый скорбью при виде города, осажденного одновременно с двух сторон и угрожаемого изнутри и снаружи – зелотами с одной стороны и идумеями с другой.
Между тем армия, призванная на помощь, была недовольна бездействием тех, кто ее вызвал. Идумеи рассчитывали найти могущественную партию, которая поддержала бы их и открыла им ворота Иерусалима. Но, видя, что зелоты не осмеливаются выйти за пределы храма, многие пожалели о своем приходе, и только стыд удержал их от возвращения домой. Ночная буря еще больше усилила их отвращение. Дождь, град, молнии, гром, гул земли, дрожавшей под их ногами, – вся природа, казалось, ополчилась против них. И в то время как они, подвергаясь ярости стихии, страдали без укрытия, укутавшись в свои плащи и прикрыв головы щитами, страх божественного гнева терзал их души, и они убедили себя, что Бог осуждает их предприятие.
Однако именно это обстоятельство и обеспечило им успех. Евреи в городе также решили, что Бог поддерживает их дело, и, успокоенные этой лестной мыслью, несли караул с меньшей бдительностью. Их небрежность позволила нескольким зелотам тайно выйти ночью из храма в разгар бури и добраться до городских ворот, находившихся напротив идумейского войска. Они открыли ворота и впустили их в Иерусалим.
Первой заботой идумеев было броситься к храму и, соединившись с зелотами, атаковать осаждавших. Они легко справились с караулом, часть которого спала, а другая часть в ужасе разбежалась при виде множества новых врагов, внезапно соединившихся со старыми. Городские войска, сбежавшиеся на крики сражающихся, тоже не оказали сопротивления. Идумеям почти не пришлось сражаться; а так как они были от природы жестоки и к тому же разъярены отказом впустить их в город, вынудившим их терпеть ужасы бури за стенами, они никого не щадили и рубили всех, кто попадался под руку. Резня была тем ужаснее, что в замкнутом пространстве бегство стало невозможным. Вся первая ограда храма была залита кровью, и к утру насчитали более восьми тысяч убитых.
Овладев храмом, идумеи рассыпались по городу, грабя и убивая без разбора. Их ярость обрушилась прежде всего на двух первосвященников – Анана и Иисуса; и, не довольствуясь их убийством, они осыпали их тела после смерти оскорблениями и бросили без погребения.
Иосиф [Флавий] горько оплакивает смерть Анана, утверждая, что его выдающиеся качества и мудрое руководство, будь он жив, несомненно спасли бы Иерусалим. Анан, говорит он, любил мир; он понимал, что победить римлян невозможно, и своим убедительным красноречием мог бы склонить иудеев к покорности, тогда как его умелое сопротивление заставило бы римлян смягчить условия договора. Но, добавляет историк, Бог уже произнес приговор над городом, оскверненным преступлениями: Он хотел, чтобы святое место было очищено огнем, и для исполнения Своего праведного замысла над городом и храмом устранял с земли тех, кто был предан им с чистым и искренним рвением.
Так говорит Иосиф, который, однако, не знал истинной причины гнева Божия на иудеев. Анан был совсем не способен умилостивить Божественное правосудие. Сын первосвященника Анны [9], участвовавшего в осуждении Иисуса Христа, он оказался достойным подражателем своего отца, убив апостола святого Иакова Младшего, чья высокая святость внушала благоговение всему народу Иерусалима. Он был саддукеем, а потому не имел ни надежды, ни страха перед будущей жизнью; и Иосиф, который здесь превозносит его похвалами, в другом месте обвиняет его в дерзости и жестокости при совершении мести.
Зелоты и идумеяне учинили великое избиение народа. Но с особой бесчеловечностью они обошлись с молодой знатью, среди которой хотели бы найти себе сторонников. Они наполнили тюрьмы знатными юношами, а затем каждого в отдельности уговаривали присоединиться к ним. Иосиф утверждает, что все без колебания предпочли смерть союзу с врагами отечества. В ярости зелоты подвергали их жесточайшим пыткам, и только когда их тела уже не могли выносить бичевания и мучений, им, как милость, даровали смерть. Историк насчитывает до двенадцати тысяч тех, кого зелоты таким образом умертвили в течение нескольких дней.
Подобным злодеям совсем не подобало соблюдать видимость правосудия. Однако они возымели такую прихоть в отношении Захарии, сына Варуха, богатого человека, любителя свободы, врага нечестивцев, чье состояние и добродетель одновременно возбуждали алчность и ненависть зелотов. Они учредили суд из семидесяти судей, выбранных из знатных людей, и привели туда Захарию, обвиняя его в том, что он замышлял предать город римлянам. Они не представили ни доказательств, ни улик, но заявляли, что твердо уверены в этом, и требовали, чтобы им поверили на слово. Захария, видя, что ему нечего ждать справедливости и что его смерть предрешена, говорил со свободой, достойной великого сердца. Он с презрением отверг неопределенные обвинения, возводимые на него, и в немногих словах показал их смехотворную слабость. Затем он обратил свою речь против обвинителей, изобразив перед ними всю цепь их злодеяний, оплакивая народные бедствия и ужасный хаос, в который погрузилось все. Легко представить, какую ярость вызвала эта речь у зелотов. Тем не менее они довели комедию до конца и позволили судьям вынести приговор. Ни один из них не проголосовал за осуждение, и все предпочли погибнуть вместе с невиновным, чем стать виновными в его смерти. Зелоты с возмущением закричали, и двое самых дерзких тут же убили Захарию посреди храма, сказав ему с издевкой: «Вот и наш приговор; теперь ты точно оправдан». Убив его, они сбросили тело в пропасть, окаймлявшую гору, на которой стоял храм. Что касается судей, то те ограничились тем, что прогнали их ударами плоской стороны меча, радуясь, что свидетели их тиранического господства разойдутся по городу, сея повсюду ужас.
Г-н де Тиллемон, как и многие толкователи Писания, полагает, что событие, которое я только что рассказал, – это то самое, о котором говорил Иисус Христос, упоминая Захарию, сына Варахиина, убитого иудеями между храмом и жертвенником [10]. В таком случае слова Христа являются пророчеством, которое исполнилось в точности. Если принять эту точку зрения, то нельзя сомневаться, что Захария был христианином; и тот же г-н де Тиллемон замечает, что нет необходимости предполагать, будто в Иерусалиме не осталось ни одного христианина.
Идумеяне, которых слепая ярость толкнула на жестокости, но которые, в отличие от зелотов, не были закоренелыми и ожесточенными преступниками, ужаснулись злодеяниям тех, с кем они объединились. Некий человек, не названный у Иосифа, укрепил в них эти чувства и представил их вождям, что они могут смыть пятно, которое навлекли на себя, вступив в союз с негодяями, только немедленным отступлением и явным разрывом. Это было слишком мало для искупления жестокостей и несправедливостей, в которых они повинны. Идумеянам следовало встать на защиту народа, чье угнетение они усугубили, и избавить его от тиранов. Но люди склонны творить зло от всего сердца, а когда дело касается добра, они почти всегда делают его несовершенно. Идумеяне ограничились тем, что освободили около двух тысяч узников, содержавшихся в тюрьмах, и удалились в свою землю.
Зелоты с радостью смотрели на их уход, видя в них уже не союзников, чья помощь могла бы им пригодиться, а надзирателей, чье присутствие сдерживало их дерзость. Они стали еще наглее, а их бесчинства – еще необузданнее; и они довершили истребление знатных людей, которые им мешали. Они убили Гордиона, человека знатного происхождения, высокого положения и ревностного защитника свободы своего отечества; Нигера, храброго военачальника, отличившегося в нескольких битвах против римлян и не получившего даже милости погребения от своих убийц. Среди народа они тщательно разыскивали всех, кого считали нужным опасаться, и малейшего повода было достаточно для их гибельных подозрений. Тот, кто не говорил с ними, казался им надменным; тот, кто говорил свободно, – врагом. Если же кто-то льстил им, это был льстец, скрывающий злые умыслы. И они не делали различия между большими и малыми проступками: смерть была общей карой за все. Одним словом, единственной защитой от их ярости было темное происхождение и бедность.
Такая жестокая тирания вынуждала множество иудеев покидать город и искать спасения среди врагов. Но бегство было опасным. Солдаты, расставленные зелотами, блокировали все дороги и проходы, и всякий, кому не посчастливилось быть схваченным, платил головой, если не откупался щедрыми деньгами. Тот, у кого не было средств, считался предателем, и только смерть могла искупить его «неверность». Таким образом, уравновешивая один страх другим, большинство предпочитало оставаться в городе и умереть в лоне своей родины.
Веспасиан всю зиму оставался спокойным наблюдателем всех этих волнений, столь сильно потрясавших иудеев. Он занял лишь города Ямнию и Азот, но не предпринимал никаких действий, непосредственно угрожавших Иерусалиму, хотя все главные военачальники его армии убеждали его воспользоваться раздорами среди врагов и осадить их столицу.
– Оставьте их, – сказал он тем, кто делал ему такие предложения, – пусть они истребляют друг друга. Бог лучше управляет нашими делами, готовя нам легкую победу без нашего вмешательства. Наше появление в подобных обстоятельствах объединит против нас все партии, которые сейчас, в ярости взаимного уничтожения, ослабляют силы нации. Мы можем надеяться победить, не обнажая меча; и завоевание, достигнутое благоразумием и искусным управлением, всегда казалось мне предпочтительнее того, честь которого принадлежит лишь оружию.
Он неуклонно придерживался этого плана, и, несмотря на уговоры иудеев, бежавших из Иерусалима, которые умоляли его прийти спасти остатки несчастного народа, отомстить за погибших за верность римлянам и избавить от опасности тех, кто даже среди величайших рисков сохранял те же убеждения, он выступил в поход в начале 68 года от Рождества Христова [11] (последнего года правления Нерона) – но не для того, чтобы идти на столицу, а чтобы покорить Перею, ссылаясь на то, что сначала следует усмирить города и области, всё ещё сопротивляющиеся, и устранить все препятствия, которые могли бы помешать или отсрочить успех осады Иерусалима.
Он перешёл Иордан и двинулся к Гадаре, столице Переи, где у него были свои люди. В этом городе было множество богатых жителей, а также людей из окрестных земель, которым было что терять, и потому они боялись войны и желали мира; соответственно, они отправили к Веспасиану послов, обещая открыть ему ворота. Однако не все в Гадаре думали так же, и мятежники, находившиеся в этом городе (как и во всех других городах Иудеи), не сумев ни помешать переговорам (о которых они не знали), ни, узнав о них, сделать их бесполезными (поскольку римляне уже приближались), решили по крайней мере отомстить тому, кто их затеял. Они схватили Долеса, который по происхождению и заслугам занимал первое место среди всех жителей, убили его, надругались над его телом и бежали из города. Гадарцы, став единственными хозяевами своей судьбы после бегства мятежников, встретили Веспасиана с ликованием и сами разрушили свои стены, не дожидаясь приказа, чтобы доказать свою верность, не оставляя себе даже возможности отступить от долга в будущем. Чтобы защитить их от нападений бунтовщиков, Веспасиан оставил в городе римский гарнизон.
После подчинения Гадары остальная часть Переи не заслуживала внимания Веспасиана. Он вернулся в Кесарию, чтобы оттуда наблюдать за общим ходом войны, а на месте оставил трибуна Плацида с тремя тысячами пехотинцев и шестьюстами всадников, чтобы преследовать разбойников и завершить покорение ещё непокорённых земель.
Этот офицер доблестно выполнил возложенную на него задачу. Он преследовал беглецов из Гадары и взял штурмом селение Бетеннабрис, которое те избрали своим убежищем. Некоторым удалось бежать, и они разнесли тревогу по округе. Толпы перепуганных сельских жителей сбились в беспорядочные группы, решив перейти Иордан и найти убежище в Иерихоне. Но река, разлившаяся от дождей, была непроходима вброд, и Плацид, настигнув их, прижал к берегу эту неорганизованную, неуправляемую и лишённую предводителя толпу. Она была очень многочисленна, но три тысячи шестьсот человек полностью разгромили её. Пятнадцать тысяч иудеев пали на месте; ещё больше было сброшено или сами бросились в Иордан, и Мёртвое море покрылось трупами, плававшими на его водах, более плотных, чем обычная вода.
Плацид завершил завоевание Переи, взяв под контроль все значимые города и крепости, и вся страна, кроме крепости Махерон, признала власть римлян.
Веспасиан, находясь в Кесарии, узнал о восстании Виндекса против Нерона. Это известие стало для него поводом ускорить окончание войны с иудеями. Пока Запад начинал волноваться из-за беспорядков, последствия которых могли быть долгими и губительными, он счел важным умиротворить Восток и, если возможно, предотвратить совпадение иностранной войны с гражданской. Поэтому, использовав зиму для размещения надежных гарнизонов в завоеванных городах, он в начале весны выступил из Кесарии со всеми войсками, имея в виду осаду Иерусалима, но решив сначала лишить этот упорно мятежный город всех возможных источников помощи, надежда на которые могла поддерживать его гордыню.
Он проложил путь от Кесарии к Иерусалиму, захватив Антипатриду, Лидду и область, зависящую от Фамны, и прибыл в Эммаус – место, знаменитое в Евангелии, расположенное в шестидесяти стадиях (около двух с половиной лье) от столицы. Там он разбил лагерь и разместил пятый легион, чтобы начать блокировать Иерусалим с севера. Затем он двинулся на юг, в Идумею, жители которой так ярко проявили свое слепое и неистовое рвение к метрополии своей религии. Он овладел всей этой страной, разрушая крепости идумеев и укрепляя выгодные позиции, на которых оставлял надежные войска, чтобы держать окрестности в повиновении. Вернувшись в Эммаус, он направился в Самарию, прошел ее, чтобы закрепить за собой, и прибыл в Иерихон, где к нему присоединился отряд, покоривший Перею. Город Иерихон не оказал сопротивления: большинство жителей бежало при приближении римской армии, а оставшиеся были перебиты. Веспасиан разместил там гарнизон, как и в Адиде, находившейся неподалеку. Таким образом, Иерусалим оказался окружен со всех сторон римскими войсками.
Оставалось лишь正式но осадить его, и Веспасиан готовился к этому, когда получил известие о смерти Нерона. Он приостановил активные действия и, прежде чем начать предприятие, которое могло затянуться, решил посмотреть, как сложатся дела в империи. Однако, чтобы не оставаться в бездействии и не упускать из виду свою цель, он продолжил очищать страну, захватывая несколько укреплений вокруг Иерусалима, которые еще держались. Так прошла остальная часть кампании, к концу которой вся Иудея, кроме Иерусалима и трех крепостей, занятых разбойниками – Иродион [12], Махеронт и Масада, – оказалась покорена.
В следующем году произошло событие, отвлекшее все внимание Веспасиана. Переговоры о его возведении на престол и заботы о войне, которая доставила ему власть, вынудили его ослабить давление на иудеев. Он даже покинул Иудею и отправился, как я уже говорил, в Александрию. Но все оставалось в прежнем состоянии: если иудеи и получили передышку, нет свидетельств о том, что они вернули что-либо из утраченного.
Единственное событие, о котором мне следует здесь упомянуть, – освобождение Иосифа. Когда Веспасиан был провозглашен императором своими легионами, а также войсками Сирии и Египта, он с удовольствием вспомнил мнимые предзнаменования и пророчества, которые убедили его в том, что ему была предсказана слава, превосходящая его ожидания и даже желания; в частности, он вспомнил, что Иосиф предсказал ему императорскую власть еще при жизни Нерона. Ему стало стыдно держать в оковах того, кого он считал вестником божественной воли относительно себя. Он призвал Иосифа и в присутствии Муциана и высших офицеров своей армии приказал снять с него цепи. Тит, всегда исполненный доброты, напомнил отцу, что справедливо не только освободить Иосифа от наказания, но и снять с него позор, разбив его оковы, а не просто развязав их, чтобы он вернулся в прежнее состояние, как будто никогда их не носил. Веспасиан согласился с просьбой сына, и по его приказу цепи пленника были разрублены топором. С этого момента Иосиф пользовался большим уважением в римской армии, и мы еще увидим, как Тит не раз использовал его, чтобы мудрыми советами бороться с непреклонной жестокостью его соотечественников.
Гражданская война между Веспасианом и Вителлием, завершившаяся в пользу первого за одну кампанию, позволила новому императору, отправляясь из Александрии в Рим, отослать Тита обратно в Иудею. Он справедливо полагал, что необходимо положить конец войне, важной самой по себе и могущей стать еще более значительной, если дать иерусалимским иудеям время вовлечь в свой конфликт, как они уже пытались, своих соплеменников за Евфратом. Кроме того, при новом правлении, когда беспорядки и неудачи всегда возможны, Веспасиану было полезно иметь сына во главе мощной армии. Таким образом, Тит получил приказ осадить и взять Иерусалим – последнюю, и, несомненно, самую трудную операцию.
Примечания:
[1] Это перечисление не то, о котором говорится в Евангелии от Луки 2; оно произошло на 10—11 лет позже.
[2] Двадцать четыре тысячи фунтов.
[3] Две с половиной лиги.
[4] 51 тысяча фунтов.
[5] Это важное место находилось к югу от Асфальтового озера.
[6] PLINIUS, V, 16.
[7] Место для бега и борьбы атлетов.
[8] Этот город не принадлежал к Галилее, так как находился за Иорданом и Геннисаретским озером. Но он был связан интересами с восставшими галилеянами, и Иосиф, правитель Галилеи, причисляет Гамалу к городам своего округа.
[9] Аннас также называется Ананом у Иосифа. Но маловероятно, что он дожил до того времени, о котором идет речь, и еще менее вероятно, что восьмидесятилетний старик был бы достаточно энергичен, чтобы исполнять роль правителя города. Эти причины привели М. де Тиллемона к мысли, что понтифик Ананас, убитый идумеями, был сыном первосвященника Аннаса, названного в Евангелии, и того самого, о котором упоминает Иосиф в л. XX своих «Древностей», c. 8.
[10] MATTHEW, XXIII, 35.
[11] Год Рима 819.
[12] Ирод построил и укрепил два замка, которым дал это название, один в шестидесяти вёрстах от Иерусалима, другой, о котором здесь идёт речь, за Иорданом, у арабов.
§ II. Описание города Иерусалима
Природа и искусство совместно сделали Иерусалим одной из сильнейших крепостей во всем мире. Он располагался на двух холмах, не считая того, на котором был построен храм. Эти два холма, один из которых – знаменитый Сион, а другой назывался Акрой, стояли друг напротив друга: Сион на юге, Акра на севере, разделенные долиной, где здания с обеих сторон почти соприкасались. Первый холм был значительно выше второго и образовывал Верхний город, тогда как второй назывался Нижним городом. Снаружи оба холма были окружены глубокими оврагами, делающими доступ к ним невозможным. Это была так называемая долина сыновей Енномовых, которая, простираясь с запада на восток к югу от горы Сион, соединялась с долиной Кедрон к востоку от храма, у подножия Масличной горы.
Акра своей восточной стороной была обращена прямо к третьему холму – храмовой горе Мориа. Изначально она превосходила его высотой. Поэтому при Антиохе Епифане она служила крепостью сирийцам, которые оттуда господствовали над храмом и совершали всевозможные насилия и жестокости над иудеями, собиравшимися там по религиозным причинам. Цари Хасмонеи, не удовлетворившись разрушением крепости, построенной сирийцами, даже сровняли вершину горы и засыпали долину у её восточного подножия, так что храм стал выше Акры, а сообщение между ними – более удобным.
Четвертый холм к северу от храма был присоединен к городу в более поздние времена, так как Иерусалим уже не мог вместить огромное количество жителей. Пришлось расширяться, и многие иудеи построили дома в Безете – так назывался новый квартал, отделенный от крепости Антония широким рвом. Весь периметр города, по оценке Иосифа Флавия, составлял тридцать три стадия, или немногим более четырех тысяч шагов [1].
Таково было естественное положение местности, само по себе весьма выгодное. Люди же добавили к этому тройную линию высоких и толстых стен. Первая и самая древняя ограждала Сион двумя своего рода рукавами: один, отделяя Верхний город от Нижнего, доходил до юго-западного угла храма, а другой, огибая гору с запада, юга и востока, после различных изгибов, вызванных неровностью рельефа, заканчивался у восточного фасада храма. Две другие стены, начинаясь в разных точках стены, разделявшей Сион и Акру, тянулись на север, откуда поворачивали к храму, причем одна доходила до крепости Антония, а другая, делая гораздо более длинный обход, – до того же восточного фасада храма, к которому примыкала первая.
Эти стены были увенчаны башнями, которые по красоте и кладке камня не уступали самым искусно построенным храмам. На квадратном основании шириной и высотой в двадцать локтей возвышались великолепные помещения с верхними комнатами, цистернами для сбора дождевой воды (чрезвычайно ценной в этой засушливой стране) и широкими лестницами. Третья стена имела девяносто таких башен, средняя – четырнадцать, а самая древняя – шестьдесят. Расстояние между башнями составляло двести локтей.
Среди этих башен четыре выделялись своей необыкновенной красотой и высотой. Первая – башня Псефина [2], построенная на углу третьей стены, обращенном к северу и западу, то есть в том месте, где стена, меняя направление на север, делала изгиб, поворачиваясь к городу и храму. Она была восьмиугольной и имела семьдесят локтей в высоту; на восходе солнца с неё была видна Аравия, а с другой стороны – вся ширина Святой Земли вплоть до моря.
Три другие башни были возведены на древней стене Иродом, который, помимо своей любви к великолепию и рвения к украшению города, имел особый мотив усердствовать в этих постройках, так как посвящал их памяти трех самых дорогих ему людей: своего близкого друга Гиппика, брата Фасаила и несчастной супруги Мариамны, которой его безумная любовь стоила жизни. Эти три башни носили столь дорогие Ироду имена: Гиппик, Фасаил, Мариамна. Первая стояла на северном углу Сиона со стороны запада, у начала стены, отделявшей Верхний город от Нижнего. Две другие, по-видимому, располагались на той же стене, ближе к востоку, между Сионом и Акрой. Их высота была разной: первая – восемьдесят локтей, вторая – девяносто, третья – пятьдесят пять; эта разница, несомненно, объяснялась неровностями рельефа. Однако их вершины были на одном уровне, и издали они казались одинаковыми по высоте как между собой, так и с прочими башнями той же стены.
Нет ни одного мало-мальски образованного человека, который не знал бы, что Иерусалимский храм нельзя представлять себе подобным нашим церквям, даже самым обширным. Это был не столько отдельно стоящий храм, сколько огромный и грандиозный архитектурный комплекс, разделенный на несколько дворов и окруженный величественными галереями, служившими ему укреплениями; так что он скорее напоминал крепость, чем места, посвященные у нас отправлению религиозных обрядов. В центре находился собственно храм, со всех сторон обособленный и внутри разделенный завесой на две части, отделявшей Святое от Святого Святых. Отсюда до внешних галерей все пространство было занято, как я уже сказал, различными зданиями, предназначенными для богослужений и для служителей, а также несколькими дворами, из которых самый обширный – тот, куда входили сразу после галерей, – окружал внутренние постройки и назывался Двором или Притвором Язычников, потому что туда допускались наравне с иудеями и язычники.
Весь комплекс образовывал квадрат, периметр которого, по Иосифу [3], составлял шесть стадий, то есть четверть [4] лье. Четыре стороны этого квадрата довольно точно соответствовали четырем сторонам света.
Вершина горы Мориа, на которой стоял храм, изначально не имела достаточно ровной поверхности, чтобы вместить столь грандиозное сооружение. Пришлось поднять уровень почвы, слишком круто спускавшейся, террасами высотой в триста локтей.
Я уже отмечал, что из-за понижения холма Акры храм оказался выше этой части города: с востока его огибала долина Кедрона; с юга, ближе к западу, он соединялся с Сионом мостом, переброшенным через глубокое ущелье. Лишь с севера холм Бецета несколько господствовал над ним. По отношению ко всему остальному городу он выполнял роль цитадели.
Но башня Антония, построенная на северо-западном углу храма, полностью превосходила его высотой. От этой башни вели две лестницы: одна – к северной галерее, другая – к западной. Римляне держали там гарнизон, и через башню Антонию, господствуя над храмом, они через храм господствовали над городом. Поэтому первой заботой мятежников, как мы видели, было изгнать их из этой крепости, которая парализовала бы все их действия.
Город Иерусалим, сам по себе сильно укрепленный, был невероятно многолюден, особенно во время праздника Пасхи, когда в него стекалось бесчисленное множество поклонников со всех концов света. Я упоминал, ссылаясь на Иосифа, что Цестий во время одного из таких празднеств оказался окружен тремя миллионами иудеев. Эта поражающая цифра приведена не случайно. Цестий, желая доказать Нерону, что тот напрасно презирает иудейский народ, попросил первосвященников исчислить население Иерусалима. Чтобы удовлетворить его просьбу, священники сосчитали пасхальных жертв и нашли их число равным двумстам пятидесяти шести тысячам пятистам. При этом каждого пасхального агнца вкушали не менее десяти человек, а иногда за одним столом собиралось до двадцати. Но даже если принять наименьшее возможное число, двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот жертв означают два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч участников трапезы. Добавим тех, кто из-за ритуальной нечистоты не мог участвовать в Пасхе, и иностранцев, привлеченных простым любопытством, – и станет ясно, что цифра в три миллиона не преувеличена.
Но это бесчисленное население скорее могло истощить город, чем защитить его. Затрудняло завоевание Иерусалима лишь то, что к моменту, когда Тит подошел к его стенам, город был полон отчаянных людей, давно привыкших к оружию и ужасам войны, не боявшихся ни опасности, ни смерти и ослепленных верой в святость города и храма, которая внушала им нечто вроде энтузиазма и полной уверенности в своей непобедимости – важные преимущества для долгой и упорной обороны. Однако им недоставало одного существенного условия – единства под началом мудрого предводителя, который сумел бы разумно управлять их силами. Они разделились на три враждующие группировки, которые, хотя и действовали сообща против римлян и против мирных граждан, взаимно ослабляли себя внутренними распрями и в ожесточенных стычках внутри стен не раз давали общему врагу благоприятные возможности. Вождями этих трех группировок были Элеазар, сын Симона, Иоанн из Гисхалы и Симон, сын Гиоры.
Из этих трех тиранов (а мы увидим, что они вполне заслуживали этого имени) Элеазар был старшим. Его партия существовала в городе еще во время осады, предпринятой Цестием, и он отличился при преследовании этого полководца. Под его началом зелоты захватили храм и выдержали осаду, устроенную против них первосвященником Ананом. С тех пор они всегда следовали его советам, и он пользовался в этой партии авторитетом вождя – до тех пор, пока к ней не присоединился Иоанн из Гисхалы.
Этот человек, соединявший безудержную дерзость с коварством и обманом, едва вступив в партию зелотов (в пользу которой, как я уже рассказывал, он предал интересы народа и знати), тут же принялся добиваться единоличной власти над нею. Его отвага привлекала к нему поклонников, его ласки приобретали ему сторонников, которым он старался внушить презрение и неповиновение любому приказу, исходившему не от него. Поскольку приверженцы Иоанна были самыми решительными и безрассудными, их заговор вскоре сделался грозным, и страх перед ними увеличивал число их сообщников. Так Иоанн создал партию внутри партии и, окончательно затмив Элеазара, лишил его влияния среди зелотов, сосредоточив всю власть в своих руках. Получив под свое начало силы этой могущественной группировки, он стал хозяином города и творил в нем любые бесчинства. Самое жестокое насилие, самый разнузданный грабеж, самая гнусная распущенность – вот что он считал плодами и привилегиями своей власти. Он и его преступные приспешники, погрязшие в позорной изнеженности, проявляли человеческие качества лишь в жестокости к своим согражданам, и несчастные жители Иерусалима страдали от своих домашних тиранов больше, чем могли бы опасаться от римлян.
Иоанн ликовал и торжествовал. Но он нашел нового врага в лице Симона, сына Гиоры, который, подобно ему, начав с самых ничтожных средств, возвысился благодаря дерзости и преступлениям. Симон, изгнанный из Акрабатены [5] первосвященником Ананом, которому его беспокойный и предприимчивый дух сделал его подозрительным, сначала не имел иного выхода, как укрыться у последователей Иуды Галилеянина, занимавших крепость Масаду и оттуда совершавших набеги, занимаясь жестоким разбоем по всей округе. Однако и там его приняли с недоверием, ибо негодяи боятся друг друга. Они поселили его в нижней части крепости со своими людьми, оставив за собой верхнюю часть, откуда могли контролировать его. Вскоре он доказал своими деяниями, что был столь же решителен на зло, как и они, и они приняли его в свои грабительские шайки. Но у Симона были более честолюбивые замыслы: он стремился к тирании и планировал использовать оружие своих хозяев для достижения этой цели. Поэтому он попытался вовлечь их в какое-нибудь значительное предприятие, вместо того чтобы довольствоваться мелкими грабежами окрестностей. Но тщетно. Разбойники Масады считали эту крепость своим логовом, из которого не желали удаляться.
Не сумев склонить их к своей цели, Симон покинул их, узнав о смерти Анана; и так как он был молод, смел, способен благодаря своей отваге бросать вызов любой опасности и преодолевать любые тяготы благодаря крепости тела, то, предложив себя в качестве вождя множеству разбойников, рыскавших по всей Иудее, пообещав свободу рабам и награды свободным, он так увеличил свою банду, что в короткое время создал армию и оказался во главе двадцати тысяч человек.
Такие значительные силы вызвали зависть у зелотов, которые справедливо полагали, что Симон намеревается двинуться на Иерусалим и отнять у них власть над столицей. Они выступили против него, но в сражении потерпели поражение. Тем не менее Симон не считал себя достаточно сильным, чтобы атаковать Иерусалим, и бросился на Идумею, которую полностью опустошил, разгромив – отчасти силой, отчасти благодаря предательству одного из идумейских вождей – армию в двадцать пять тысяч человек, выставленную против него. Он учинил в стране ужасные разрушения: жег, грабил, вырубал посевы и деревья, так что любая местность, через которую он проходил, превращалась в пустыню, не оставляя и следа того, что там когда-то жили и возделывали землю. После этого варварского похода он приблизился к Иерусалиму и блокировал город, выжидая возможность проникнуть внутрь.
Иоанн предоставил ему эту возможность своими бесчинствами, которые, достигнув крайностей, описанных мною ранее, не только возмутили народ, но и оттолкнули даже тех его сторонников, в ком еще не угасли чувства стыда и человечности. Его партия состояла из собственно зелотов, первых и главных виновников бедствий города; галилеян, его земляков, последовавших за ним из Гисхалы; и некоторого числа идумеев, изгнанных Симоном из своей страны и нашедших убежище в Иерусалиме. Последние внезапно отделились, перебили зелотов, рассеянных по разным кварталам города, разграбили дворец, где Иоанн хранил награбленные сокровища, и вынудили его заперться в храме с оставшимися верными ему людьми.
Оттуда он продолжал внушать страх: народ, знать и идумеи опасались не открытого нападения, а отчаянного шага, который мог бы побудить эту шайку безумцев устроить ночью поджог города. Они стали совещаться, и, как говорит Иосиф, Бог направил их мысли к дурному решению. Они придумали средство хуже самой болезни: чтобы уничтожить Иоанна, они решили впустить Симона, и их защитой от одного тирана стало призвание второго. Матфий, первосвященник, был отправлен к Симону с просьбой войти в город; к его мольбам присоединились многие беглецы, вынужденные покинуть Иерусалим из-за насилий зелотов. Симон с надменным видом выслушал эти смиренные просьбы и милостиво согласился на то, что полностью соответствовало его желаниям. Он вступил в город, обещая избавить его от тирании зелотов, но втайне решив занять их место; и народ с тысячами радостных приветствий встретил как спасителя того, кто намеревался обращаться как с врагами и с теми, кто его призвал, и с теми, против кого просили его помощи.
Это происходило в начале весны [6] 69 года от Рождества Христова, в то время, когда смуты в Римской империи давали иудеям своего рода передышку, которой они злоупотребляли, терзая друг друга.
Симон, овладев городом, предпринял несколько атак на храм и, пользуясь поддержкой народа, имел численное превосходство. Но выгодное положение было на стороне Иоанна, который сумел так хорошо им воспользоваться, что устоял против всех усилий врага. Он даже добавил к укреплениям храма четыре новые башни, вооружив их различными метательными орудиями, лучниками и пращниками, так что люди Симона не могли приблизиться, не будучи осыпаны градом стрел и камней. Их пыл в атаках ослабел, и они потеряли надежду выбить Иоанна из этой выгодной позиции, где он так яростно оборонялся.
Тем не менее они держали его в напряжении; и пока Иоанн был занят подготовкой к обороне против них, он дал возможность Элеазару, которого затмил, вновь выдвинуться. Элеазар, столь же честолюбивый, как Иоанн, но менее талантливый и находчивый, с негодованием сносил необходимость подчиняться выскочке, отнявшему у него первенство. Однако тщательно скрывая эти чувства, он выказывал лишь негодование против жестокого и отвратительного тирана. Такими речами он склонил на свою сторону нескольких главарей шаек и вместе с ними захватил внутреннюю часть храма, расположенную выше остальных.
С этого момента положение Иоанна стало самым необычным. Находясь между двумя врагами, один из которых был над ним, в то время как он сам господствовал над другим, он имел столько же преимущества над Симоном, сколько Элеазар – над ним самим. Тем не менее, Иоанн удерживался против обоих, отражая Симона благодаря превосходству своей позиции и отгоняя Элеазара снарядами, выпущенными его машинами. Это были непрерывные схватки, без решительной победы, которая сломила бы любую из сторон.
Что должно казаться удивительным, так это то, что все эти бесчинства, театром которых был храм, вовсе не мешали течению общественного богослужения. Какими бы яростными ни были зелоты, они позволяли входить тем, кто приходил принести жертвы, лишь тщательно обыскивая их. Но священные обряды жертвоприношений точно так же не останавливали военных действий. Катапульты и другие машины, которыми Иоанн укрепил свои башни, беспрестанно стреляли, и часто их снаряды пронзали жертвователей и тех, за кого приносилась жертва, у самого подножия алтаря. «Благочестивые люди, – говорит Иосиф с горькой скорбью, – пришедшие с края земли, чтобы удовлетворить своё благочестие, посетив знаменитый и почитаемый во всём мире храм, находили смерть у подножия алтаря, и святое место было залито человеческой кровью, смешанной с кровью жертв».
Благодаря продолжению жертвоприношений, возлияний и всего культа Элеазар и его отряд пользовались изобилием, ибо, не имея никакого уважения ни к законам, ни к святыням, они обращали в свою пользу и приношения, и начатки. Иоанн и Симон жили грабежом, забирая все съестные припасы, которые находили в домах и складах. Их заботы не простирались дальше дневного пропитания. Грубо жестокие и неспособные ни к какой предусмотрительности, они во время схваток друг с другом часто сжигали огромные запасы самых необходимых припасов, словно намеренно работая на римлян и ускоряя голодом сроки осады.
Храм, ставший добычей этих жестоких тиранов, мог лишь стонать и в отчаянии взывать к римлянам, чтобы враги извне избавили его от ужасов, творимых внутри. Все головы были поникшими, общественные советы прекратились, и каждый, печально занятый собой, либо ожидал неминуемой смерти, либо даже ускорял её мерами, которые принимал для бегства. Ибо всякий, кто подозревался в намерении искать спасения в одном из мест, занятых римлянами, или просто в симпатии к миру, был убиваем без милосердия. Тираны, разделённые непримиримой враждой между собой, единодушно соглашались в убийстве тех, кто своим мирным настроем заслуживал жизни.
Таково было положение дел в Иерусалиме, когда явился мститель, предназначенный Богом для наказания преступлений этого несчастного города. Тит появился у стен Иерусалима в 70 году от Рождества Христова, накануне праздника Пасхи, который неизменно привлекал туда бесчисленное множество иудеев и стал западнёй, в которую Божественное правосудие вовлекло большую часть народа.
Армия Тита состояла из четырёх легионов: трёх, которые вели войну в Иудее под командованием Веспасиана, и четвёртого, прибывшего из Сирии, который, разбитый несколькими годами ранее иудеями вместе с Цестом, вёл эту экспедицию с пылом, разожжённым желанием смыть позор. К этим римским силам присоединились в гораздо большем числе союзные и вспомогательные войска, предоставленные народами и царями соседних земель. Тацит подробно перечисляет двадцать союзных когорт, восемь кавалерийских полков, подкрепления, приведённые царями Агриппой и Соемом, лично сопровождавшими Тита, тех, кого послал Антиох Коммагенский, а также отряды арабов – народа, всегда враждебного иудеям и жаждущего грабежа. Множество молодой римской знати также прибыло из Италии, чтобы отличиться перед глазами сына императора. Все спешили заслужить расположение молодого принца, чья ещё новая фортуна не успела обзавестись сторонниками и открывала самые лестные надежды тем, кто первыми заслужат его благосклонность. Более того, служба под началом Тита была столь же приятной, сколь и полезной: его добродушные манеры, приветливость, естественная вежливость, лишённая всякой напыщенности, покоряли сердца. Он подавал пример усердия в военных упражнениях, которые исполнял с большой ловкостью. Он разделял с солдатами труды и походы, не забывая, однако, о достоинстве своего сана.
Тиберий Александр, человек умный и опытный, бывший префект Египта и, как я не раз отмечал, иудей по происхождению, имел, если верить словам Иосифа, верховное командование над всей армией. Отлично зная врагов, бывших его соотечественниками, он был признан более способным, чем другие, содействовать победе своими советами. По аналогичной причине Иосиф, последовавший за Веспасианом в Александрию, был отправлен обратно с Титом в Иудею, так как считался орудием, полезным для возвращения мятежников – как своим примером, так и речами.
Когда Тит приблизился к Иерусалиму на тридцать стадий [около 5,5 км], он взял с собой шестьсот отборных всадников и выдвинулся вперёд, чтобы лично осмотреть укрепления города и расположение жителей. Он знал, что среди них царит раздор, что народ жаждет мира, но удерживается в своего рода плену мятежниками. Поэтому он не терял надежды, что его появление вызовет в городе волнения, которые позволят ему одержать победу, не обнажая меча. Эта мысль, заставившая его взять на себя обязанность, более подобающую младшему офицеру, чем полководцу, была полностью опровергнута событиями. Иудеи, увидев его в пределах досягаемости у башни Псефины, выступили против него, рассеяли его отряд и поставили его в такое опасное положение, что он выбрался из него лишь благодаря чудесам храбрости и, как отмечает Иосиф, особому покровительству Божию. Он вернулся к своей армии, а иудеи, торжествуя первый успех, ещё более укрепились в своём безумном высокомерии.
На следующий день Тит приблизился к городу с армией на расстояние семи стадий [около 1,3 км] с севера и остановился у места, называемого Скопус (что можно перевести как «Наблюдательный пост»), откуда открывался вид на город и храм. Там он разместил два своих легиона; пятый был поставлен в трёх стадиях позади, а десятый получил приказ разбить лагерь на Елеонской горе к востоку от города, отделённой от него долиной Кедрона.
Приближение опасности заставило мятежников наконец задуматься о ярости, которая толкала их к взаимной гибели. Они сами упрекнули себя за раздор, которым так хорошо служили своим врагам, и, решив объединиться, совместно совершили вылазку против десятого легиона, который в тот момент работал над укреплениями. Они стремительно пересекли долину, и их атака удалась тем лучше, что была неожиданной. Римляне меньше всего ожидали этого, полагая, что иудеи либо потрясены и охвачены страхом, либо, по крайней мере, раздоры мешают им договориться о совместных действиях. В легионе начался беспорядок, так как большая часть солдат оставила оружие, чтобы взять инструменты для работ. Он рисковал быть разбитым и полностью уничтоженным, если бы Тит, быстро предупрежденный, не пришел на помощь с отборным отрядом. Он вернул бегущих, атаковал иудеев с фланга и, убив нескольких и ранив еще большее число, отбросил их обратно в долину, откуда они вернулись на высоту со стороны города и выстроились там, противостоя римлянам, занявшим противоположную высоту. Тит счел дело законченным и отправил легион завершать начатые работы по укреплению лагеря, прикрывая его, однако, своим отрядом.
Движение, которое пришлось совершить для выполнения этого приказа, иудеи приняли за бегство. Они тут же бросились в атаку, обрушившись с яростью, которую Иосиф сравнивает с яростью самых свирепых зверей. Отряд Тита не смог выдержать их натиск: он рассеялся в бегстве, и князь [Тит] остался почти без сопровождения в самом пекле опасности. Его друзья советовали ему позаботиться о своей безопасности, но его мужество не позволило ему даже слушать такие речи. Он не только стоял твердо, но и атаковал врагов с такой отвагой, что внушил им страх: большинство из них, думая лишь о том, как избежать его, бросились в стороны, преследуя бегущих. Тем временем легион, увидев приближающихся победоносных врагов, вновь пришел в смятение, и только стыд за оставление своего предводителя в великой опасности удержал его от полного развала. Постепенно римляне оправились от страха и, объединив силы, вернули себе преимущество, которое дисциплинированные войска должны иметь над неистовыми. Они отбросили иудеев в город и спокойно вернулись укреплять лагерь. В тот день Тит удостоился чести дважды спасти десятый легион.
Согласие и единство были слишком чужды склонностям мятежников, чтобы продлиться долго. Пока римляне, занятые подготовкой к осаде, оставляли город в относительном спокойствии снаружи, внутри вновь разгорелось восстание. Люди Элеазара открыли ворота храма по случаю празднования Пасхи, которая выпала на то же время, и Иоанн [из Гисхалы] под видом толпы ввел в храм некоторых своих людей, тайно вооруженных под одеждами. Они проскользнули незамеченными, и, как только вошли, сбросили верхние одежды, обнажив оружие. Началась ужасная неразбериха. Народ решил, что на него нападут, и что ярость убийц не будет делать различий; единственным спасением было сгрудиться вокруг алтаря и святилища. Зелоты, понимая, что именно они – цель нападения, спрятались в подземельях. Сторонники Иоанна не встретили сопротивления, и после первого момента суматохи и беспорядка, жертвами которого стали те, кто меньше всего был причастен к распре, они завладели храмом. Иоанн, довольный своей победой, позволил народу свободно уйти и предложил зелотам присоединиться к нему, признав его своим вождем. Они согласились, и Элеазар продолжил командовать этим отрядом, но уже под началом Иоанна. Таким образом, после объединения этих двух фракций в Иерусалиме осталось только две силы: Иоанн, укрепившийся в храме, который отныне принадлежал ему безраздельно, и Симон, господствовавший в городе.
В разногласиях, разделявших их, они превратили в поле битвы район Акры, видный с западной стороны храма, сжигая все здания на этом участке. У Иоанна было шесть тысяч своих людей и две тысячи четыреста зелотов, недавно усиливших его партию. Симон превосходил его численностью: его отряд насчитывал пятнадцать тысяч человек, из которых десять тысяч были иудеями, а пять тысяч – идумеями.