Все дороги ведут в Асседо
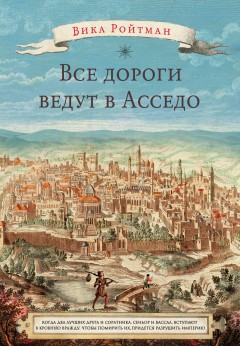
Часть 1
Глава I. Дюк
М. Щербаков
- Влажный рассвет тебя разбудит,
- портье ключами щелкнет,
- а дальше – как придется.
- Жизнь одна, второй не будет.
- Но пока валторна смолкнет,
- колокольчик распоется.
Северный ветер яростно выл за окнами старого замка, бился в стекла, ввинчивался в печные трубы. Вопли роженицы сливались с воем за стенами.
Повитуха поменяла шестое полотенце, но кровь залила и его. Служанка все пыталась укрыть госпожу мехами, но та сдирала шубы, а потом ногтями царапала собственную кожу, будто вознамерилась содрать и ее.
– Не доживет до утра, – прошептала повитуха.
Служанка сплюнула три раза через левое плечо.
– Еще немного осталось, милая. Терпи и трудись, Господь милосерден.
Роженица скорчилась на кровати, потом оперлась о руку служанки, встала и принялась, шатаясь, бродить по комнате, похожая на призрак утопленницы.
– Лежи! Куда идешь?!
Повитуха попыталась вернуть ее на положенное место, но та зарычала, вцепилась руками в дубовую спинку кресла и отказалась повиноваться. Раскачивалась, будто молилась языческим божествам.
Не роды то были, а поле битвы.
Упала на пол, забилась, застонала, завопила, отдала всю себя, и произвела на свет орущего младенца размером с куль пшеницы. Живее некуда.
– Мсье ле дюк…
Вырвался предсмерный шепот и скончалась хозяйка северного замка.
Младенец орал три дня и три ночи, а может, и больше. Две кормилицы его баюкали. Третью прислали из соседнего имения.
Вся челядь собралась у покоев хозяйки. Тело вынесли, но земле не предали – ждали хозяина. Так и пролежала в большом зале, умащенная благовониями, при свечах, семь суток, а может, и больше, пока хозяин не воротился.
Уже душок пошел. Очаг не разжигали и окна растворили. Свечи гасли под сквозняком. Ветер трепал волосы хозяйки и белые одежды – как живая была. Только руки на груди не шевелились. Слуги обходили зал стороной и плевались через плечо три раза, ругались – кому свечи опять зажигать.
В полнолунье воротился хозяин. Пьяный вдрызг, одуревший после последней победы под знаменами сюзерена, друга и соратника. Отхлебнул киршвассера из фляги, бросил поводья, соскочил с коня и побежал в зал.
Упал на колени, затряс тело, зарылся лицом во вздутый живот, взвыл, закричал, проклял небо, землю, Рок и плод чрева ее, убийцу окаянного.
Поднял на руки труп, вскочил на подоконник и выбросился вместе с покойной женой из окна левого флигеля прямо в ров.
Молод был хозяин – горячая голова – не знал любви ни до, ни после своей супруги.
Не довелось хозяину умереть. Крики его два десятка дней кряду, а может, и больше, раздавались под сводами замка. Обезумела челядь. Орал младенец. Выл северный ветер, хлестал градом в стены старого замка. Соседи содрогались.
Сердобольная баронесса фон Гезундхайт послала гонца к дюку.
Примчался дюк. Отшвырнул поводья, соскочил с седла, подтянул перчатки, поправил баску пурпуэна, запахнулся поплотнее в подбитый чернобуркой плащ и бросился в опочивальню вассала.
Смердели покои вассала хуже, чем усеянное трупами поле недавней битвы под желтыми стенами Нойе-Асседо.
– Господи Боже! – вскричал дюк, едва переступив порог. – Что вы над собою учинили, дьявол и сто преисподних?
Хозяин лежал неподвижно на постели, укрытый мехами. Тот, который сотню дней и ночей кряду огнем и мечом испепелял восставших, повернул голову к сюзерену. Замер безжизненный взгляд.
Дюк, хоть и слыл отважным, сделал шаг назад, сплюнул три раза через левое плечо.
– Маркграф ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер, с вами говорит ваш сеньор!
Стукнул кулаком по прикроватному столику. Десятки склянок и ампул подскочили, дребезжа и протестуя, но застывший взгляд маркграфа был навеки лишен протеста.
– Ваша милость, – обескровленными губами произнес вассал и закрыл глаза.
– Фриденсрайх, – смягчился дюк, – мой добрый друг, мой преданный соратник, баронесса писала мне. Она говорит, ты поражен тяжелым недугом. Я вижу, вижу, как ты болен! Никто не поймет тебя лучше меня: прекрасная Гильдеборга отдала Богу душу в расцвете лет. Но опомнись, она подарила тебе сына, а он не крещен вот уже две луны! Ради всего святого, дай ему христианское имя!
Отец провел ладонью по искаженному мукой лицу.
– У меня нет сына.
– Что ты несешь, Фрид?! Неужели не хватило тебе безумств и заблуждений?
– Убийца. Будь он проклят. Он и все его отпрыски отныне и на десять колен впредь.
Дюк хотел сплюнуть еще три раза, но призвал на помощь всю доступную ему выдержку. Опустился на колени и взял холодную руку вассала в свою.
– Ребенок, Фрид, всего лишь ребенок. Твой наследник. Твоя кровь, твоя плоть.
Фриденсрайх сплюнул всего лишь один раз, не в силах направить плевок за левое плечо, и застонал сквозь стиснутые зубы.
Дюк сжал руку страдальца покрепче.
– Мой дорогой, что же с ним будет?
– Не желаю знать, сир. Я служил вам верой и правдой. Больше я ничего не желаю.
Поглядел дюк в лицо друга и соратника с горечью, с мольбой и с неизбывным ужасом.
– Фрид, мой Фрид, помилуй бог, что же ты наделал? Как же ты мог! Неужели лишь только разруху желаешь ты нести в этот мир и множить несчастья?
– Кроме смерти, я больше ничего не желаю, – прохрипел вассал. – Окажите мне последнюю милость, сир, и вонзите кинжал мне в сердце, ибо мне не у кого больше просить.
– Нет у тебя сердца, Фрид, и не было никогда.
Собрав оставшиеся силы, приподнялся вассал на подушках:
– Вы отказали мне в последней милости, монсеньор. Уходите и забудьте дорогу в Таузендвассер.
Отвернулся к стене.
Дюк опустил голову. Выпустил руку несчастного.
– Да простит тебя Господь.
Поцеловал вассала и вышел вон.
Спустился в людские.
– Где кормилица?! – загремел страшным голосом.
Три женщины в полотняных платках выросли перед ним, будто из-под земли. Одна худющая, что твоя кляча, другая дородная, как осенний чернозем, а третья – белолицая и сероглазая – живот большой и круглый, а запястья тонкие.
Подошел к ней дюк, обеими руками обхватил тяжелые груди, твердые, как камни, взвесил на ладонях, как на весах, смял, потянул к себе. Молоко просочилось сквозь грубую камизу, пятнами проступило на грязной ткани. Языком слизал дюк сладкий нектар, разодрал одежду, приник губами к черному соску, всосал молоко, облизнулся. Прижался пахом к давшему жизнь животу, потерся, поелозил, поласкался в теплом мякише. Замурлыкал довольно. Круглые глаза глядели на него несмышлено.
– Прочь!
Две остальные кормилицы бросились в разные стороны. Уложил третью на каменный пол, отстегнул пояс, сорвал гульфик, стянул с себя шоссы и брэ, задрал третьей юбки, впился пальцами в спелый живот и вошел во врата жизни.
Закричал дюк от блаженства. Вскрикнула женщина от удивления. Забились оба друг в друге. Струями брызнуло молоко, окропило лицо дюка. Кормилица с облегчением завопила и заерзала под дюком, пытаясь ухватить собою, словно хотела его в себе зачать. Ненасытна оказалась, как голодная пасть. Вцепилась в ладони в перчатках и положила себе на груди.
– Подоите меня, ваша милость! – взмолилась. – Младенец давно от меня не ел.
Перчаток дюк так и не снял.
– Ах ты, дьяволица!
Надавил пальцами на вздыбленные сосцы, отпустил, потом приник губами, и захлестнуло его молоком.
– Вот и хорошо, – поднялся дюк на ноги и утер лицо перчаткой. – Вот и прелестно. Тащи сюда младенца.
Оправила юбки кормилица, стыдливо прикрыла грудь руками и ринулась исполнять указание. Дюк принялся одеваться. Когда запахнул плащ, орущий сверток был перед ним. Пощупал младенцу лоб, нос и щеки, развернул пеленки, оглядел дрожащее тельце. Кивнул одобрительно.
– Поедешь со мной, – обрадовал кормилицу и пошел наверх.
Велел заложить карету, вскочил на коня, хлестнул поводьями и ускакал в Нойе-Асседо. Карета последовала за дюком.
В ту же ночь кормилица Вислава понесла.
А в двадцатый день первой луны нового года окрестил в своей часовне дюк Кейзегал VIII из рода Уршеоло, владыка Асседо и окрестностей, последнего наследника древнего рода ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер Карлом Иштваном Фриденсрайхом Вильгельмом Софоклом Йерве, себя назвав его крестным отцом и попечителем.
Принял орущего младенца из рук священника, ущипнул за щеку, взял за ноги, перевернул вниз головой и на всякий случай окунул всего в купель.
Передал кормилице Виславе и умчался на запад, воевать с кунигаем Гаштольдом.
Глава II. Молот
Кузнец Варфоломей бил кувалдой по раскаленному металлу. Заносил неохватную ручищу за голову и обрушивал молот.
Двое завороженно наблюдали.
– Тебе никогда не поднять такую штуковину, – заявил Гильдегард и гордо выпрямился.
Плечист он был и крепок, как молодой дубок, твердо стоял на земле. Кожа – кровь с молоком, глаза – васильки, губы – маки, волос – пшено. Весь в мать, кормилицу Виславу. Сходства с нею Гильдегард стыдился, как и младшего возраста своего, а превосходство утверждал силой, отвагой и происхождением.
Один из многочисленных ублюдков дюка Кейзегала, был он официально признанным наследником владыки Асседо. Видать, потому, что все остальные отпрыски были девками или умерли.
Старший, Ольгерд, пал в бою в пилевских равнинах. Следующий, Юлиан, зимой заблудился в снегах и скончался от гангрены, а маленького Александра на весенней ярмарке украли цыгане. Кривой Ян был не в счет, поскольку никто его за человека не считал, разве что курицы.
Но может быть, и потому был Гильдегард официально признан дюком, что мать его была люба отцу больше остальных служанок, молочниц и пастушек, и даже больше старшей дочери баронессы фон Гезундхайт, почтенной вдовицы и матери семейства; намного больше экстравагантной выскочки Джоконды де Шатоди, утверждавшей, что прибыла она в Асседо из самого Парижа; и уж всяко больше уродливой наследницы баснословно богатого купца Шульца.
Отец никогда не обделял кормилицу Виславу своим вниманием и брал не реже двух раз в неделю. А когда та разрешалась от бремени очередной девкой или мертворожденным, ничуть не расстраивался, а вовсе наоборот. После родов отец любил мать Гильдегардa пуще обычного. Однажды провел с нею дюк пять суток кряду, не выходя из своих покоев. Дело было летом, окна настежь распахнуты, крики раздавались на весь двор, а домашние плевались три раза через левое плечо, но ни слова не решались сказать. Сколько помнил ее Гильдегард, мать всегда ходила беременной.
Злые языки поговаривали, будто дюк больше всего на свете боится смерти, поэтому и плодит жизнь, где только может. Но Гильдегард никогда не видел отца боящимся чего бы то ни было и предпочитал думать, что не страх смерти то был, а просто большая любовь ко всему живому.
Дюк Кейзегал так никогда и не женился. Кому только нe пытались его сосватать! Было время – послы, гонцы, сваты, подарки, портреты, депеши, заверяющие в размерах приданого, слетались еженедельно в Желтую Цитадель Нойе-Асседо. Вся знать округи на ушах стояла. Звали на балы и на охоты в отдаленных имениях, уговаривали остаться на ночлег, поили вусмерть киршвассером и полугаром, подсыпали в бокалы, чаши и кубки снотворное, и подсовывали в кровать девственниц. А когда наутро дюк продирал глаза и обнаруживал в опочивальне всю родню обесчещенной девицы, вместо венца брался за оружие и дрался с главой семьи. Всех в живых оставил, хотя некоторыx покалечил.
Многие дамы пытались обольстить дюка – все впустую. Дюк, разумеется, обольщался, но прежде, чем обольститься, прямо говорил, что к алтарю не поведет. И все равно опаздывал – обольстительницы уже сами успевали превратиться в обольщенных, и все их баррикады падали вместе с корсетами, стоило дюку запустить большие ладони в перчатках в лиф посягнувшей на его холостячество. А после лишались чувств от оскорбления, а дюк шел в стойло и брал на закуску Виславу.
В чем была тайна дюковского успеха у дам, женщин и баб, никто в точности не знал. За спиной говорили, будто у дюка в перчатках живет сам Йедомcа – демон-искуситель. Говорили, что во время любви его пальцы превращались в десять акирфанских кобр и испускали орфадизиак в плоть жертвы. Еще поговаривали, что дюк владеет магическим заклинанием, способным превратить даму в женщину, а женщину – в бабу. Но на самом деле никакого секрета у дюка не было, кроме одного – любил он женскую грудь так, как ее любит младенец. И, вполне возможно, что дюк бы и женился, найдись среди знатных дам Асседо хоть одна женщина, которая, подобно кормилице Виславе, была готова любить его, как младенца.
Мать дюка скончалась от лихорадки, когда тому было три месяца, но до того, как испустила дух, сама поила его своим молоком, кормилице не отдала. Дюк знал об этом, хоть и не помнил. А может быть, помнил, но не знал.
Не видел дюк прока в женитьбе. Hаследников ему и так хватало.
Гильдегард ничем не напоминал отца, кроме любви ко всему живому, которую познал с юных лет в объятиях дочери конюха. Три осени утекло с тех пор, и количество узелков на бахроме вытканного ею кушака, который юноша хранил в своем комоде, превысило двенадцать.
Сын дюка Кейзегала гордился своими победами и знал, что рожден победителем. Отец никогда не внушал ему этой мысли, но когда Гильдегарду исполнилось десять осеней, подарил ему дюк старинный меч, принадлежавший прапрапрапрадеду Кейзегалy IV. Этим мечом был низвергнут сам Курфюрст-Лжец, о котором Гильдегард решительно ничего не знал, кроме того, что грозен тот был и страшен, как полуночный утес. Как тут было не поверить в свою исключительность?
Но исключительность не может существовать сама по себе. Для того, чтобы ее познать, необходим достойный соперник и кандидат на это право. Этим человеком и являлся для Гильдегарда Йерве.
Откуда взялся Йерве в Желтой Цитадели Нойе-Асседо, в твердыне дюков Уршеоло, знали все, кроме самого Йерве. Сам Гильдегард долгое время пребывал в неведении, но в прошлую осень ему разболтала об этом внучка баронессы фон Гезундхайт. Гильдегарду пришлось принести страшную клятву молчания: до открытия тайны внучка потребовала сплюнуть три раза через левое плечо кровью, прежде прокусив ему губу зубами. И Гильдегард молчал с тех пор, потому что кровавую клятву нарушают только в исключительных обстоятельствах, которые до сих пор не представились.
Вот что поведала Гильдегарду внучка баронессы фон Гезундхайт.
После того, как окрестил дюк Кейзегал последнего наследника древнего рода ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер Карлом Иштваном Фриденсрайхом Вильгельмом Софоклом Йерве, и прежде, чем ускакал на запад, воевать с кунигаем Гаштольдом, собрал сеньор Асседо всю челядь, забрался на высоченный памятник основателю рода Уршеоло, возвышавшийся аккурат посередине двора, оседлал башку мраморного коня предка и объявил торжественно, размахивая при этом саблей:
«Если хоть один человек в Асседо, окрестностях, а также и на острове Грюневальде, что на Черном море, дети его, внуки, кузены, племянники, правнуки, жена или дочери произнесут когда-нибудь вслух или мысленно имя маркграфа Фриденсрайха фон Таузендвассера, отрекшегося от собственного сына и наследника, не сносить ему чресел!».
Замерли все, не решаясь сплюнуть через левое плечо ни одного-единственного раза, не говоря уже о трех.
«Позвольте, ваша милость», – осмелился подать голос старый управляющий, – «ежели такие дела, следует уведомить о вашей воле всех соседей и вассалов».
Ударил дюк Кейзегал гардой сабли по лбу мраморного животного – искры посыпались – и так сказал:
«Пиши соседям, старый болван. Вот что пиши: «Уважаемые соседи и любезные мои вассалы, арендаторы, рентеры и верноподданные, ваш сюзерен и покровитель обращается к вам не с просьбой, но с приказом. Восклицательный знак. Сын маркграфа Фриденсрайха ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассера, друга моего и верного соратника, отныне мой подопечный и крестный сын, что не скроется от вас, я абсолютно уверен, поскольку вдовствующая баронесса фон Гезундхайт разносит по округе вести быстрее скороходов, голубей и императорской почты вместе взятых. Но когда отец отрекается от сына, не во благо отпрыска такое знание. Каждый малец рожден, восклицательный знак, милостью божьей, с правом на жизнь, двоеточие, незапятнанную отцовским грехом и отвержением. Пусть же, запятая, Йерве растет в блаженном неведении, в коем мы не вправе ему отказывать, покуда не настанет благоприятное время для познания прогнивших корней своих. Ежели кто-нибудь из вас, вопросительный знак, дорогие мои верноподданные, соратники и соседи, отважится нарушить мой указ, пусть знает, что гнев мой обрушится на его голову, и весь стольный град Нойе-Асседо и окрестные земли ополчатся супротив предателя и вредителя, два восклицательных знака, и сравняют с землей его замок, имение, поместье, дом, хату или хижину, и всех наследников его, и родичей, и подданных предадут этой же самой земле сиюминутно. Милости от меня не ждите. Восклицательный знак. Засим остаюсь с безмерным почтением к вам, мои дорогие и любимые вассалы и соседи, дюк Кейзегал VIII из рода Уршеоло. Восклицательный знак. Точка». И поставь печать».
Старый управляющий низко поклонился, все в точности запомнив, но все же, на правах советника, не удержался от еще одного вопроса:
«Что же станется с несчастным маркграфом, ваша милость? Все соседи, соратники, посессоры и тенанты отвернутся от него при таких делах».
Тяжело вздохнул дюк и соскочил с монументальной лошадиной головы прямиком на усыпанные опилками плиты двора.
«Бог ему судья. Ежели будет жив, отчисли ему ренту за его былые заслуги перед отчизной и забудь о нем совсем, как вынужден забыть и я».
Оседлал коня и ускакал воевать с кунигаем Гаштольдом.
Так что Йерве пребывал в неведении касательно своего происхождения, но блаженным его неведение назвать было никак нельзя.
Сколько он себя помнил, крестный отец проявлял к нему благосклонность, доброжелательность и взрослое уважение. Самолично учил тому, чем сам владел в совершенстве: верховой езде, метанию копья, стрельбе из лука, арбалета, пищалей и пистолетов, бою на мечах, фехтованию на шпагах и саблях, ястребиной и соколиной охоте, свежеванию оленей и медведей. Дюк умел взбираться по утесам и отвесным скалам, распутывать следы на снегу, плавать против течения, погружаться в воды затхлого пруда с целью ловли лягушек, находить брод в топях и болотах, плясать кадриль, менуэты и падеспань, и обольщать женщин. А значит, все это умел и сам Йерве.
Но все эти физические навыки и способности не приносили радости юному приемышу, который проявлял склонность к игре на лютне, гуслях, балалайке и клавикордах; книгочейству, звездочетству, античным языкам и игре в персидские фигуры.
Йерве предпочитал проводить долгие часы в библиотеке Желтой Цитадели, рассматривать звезды через окуляры, выписанные у монахов Свято-Троицкого монастыря, выслушивать жалобы арендаторов и тенантов, а потом осмысливать их глубоко, в поисках взвешенного решения, и ткать гобелены.
Последнее увлечение драгоценного воспитанника особенно расстраивало дюка, но он закрывал глаза и на эту блажь, списывая ее на те трагические обстоятельства, коими сопровождались первые крики Йерве в мире живых.
Дюк многое прощал сыну обезумевшего маркграфа Фриденсрайха фон Таузендвассера, своего давнего друга и соратника, горячо любимого Фрида, которого пришлось ему заживо похоронить в расцвете лет.
С Фриденсрайхом дюка Кейзегала связывали самые светлые воспоминания юности и молодости, самые отчаянные победы, самые немыслимые приключения, самые веселые анекдоты; присяга на верность, служба в отборной императорской роте, сама императорская чета, плен у англосаксов, дуэль с тринадцатью константинопольцами, турнир в Аскалоне, два копья, биржа, инквизиция, перчатки и одна сарагосская ночь, о которой дюк, можно сказать, совсем забыл.
С тяжелым сердцем рвал дюк прочные узы, за многие жизни ушедших предков протянувшиеся от стольного града Нойе-Асседо к богатому водоемами северу, от прибрежной твердыни к Таузендвассеру; узы, утолщенные их собственными жизнями, но простить Фриду сумасбродство и безответственность не мог. У дюка было пять незаконных сыновей, но ни от одного из них он не посмел отказаться, даже от кривого Яна. Двое погибших лежали в фамильном склепе, а не где-нибудь на погосте. Он так и не потерял надежды отыскать третьего, украденного цыганами.
Утешение своему горю дюк находил в сыне Фриденсрайха, который с каждым днем все больше походил на отца.
Высок был Йерве и изящен, смугл, черноволос, с нездешним горящим взглядом, похожий на натянутую до предела тетиву лука, вздрагивающую от малейшего прикосновения. Все подмечал, все знал, на все с вниманием реагировал. Благодарным слушателем и интересным собеседником рос Йерве, богатой почвой, готовой прорастить любое зерно, в нее попавшее.
Каждый день молил дюк Бога о том, чтобы не узнал Йерве о своем истинном происхождении. Надеялся дюк, что в скором времени отправит крестника на обучение ратному делу к одному из своих родичей в Тшеп, а то и в далекую Валахию, к полководцу Шварну, и избежит вопросов.
Но вопросов было не избежать, и Йерве задавал их с тех пор, как научился говорить.
– Кто моя мать? – спрашивал Йерве.
– Святая Сильва и кормилица Вислава, – отвечал дюк.
– А отец?
– Я твой отец.
– Но Гильдегард говорит, что вы мне не отец, сир.
– Много понимает этот паршивец. Скажи ему, что я его оставлю без чресел.
Но Йерве снова задавал вопросы.
– Кто моя мать?
– Твоя мать умерла.
– Как и когда?
– Господь прибрал ее душу тогда, когда ему было угодно.
– А кто мой отец?
– Сгинул твой отец. Без вести пропал.
Спустя некоторое время Йерве опять спрашивал.
– Кто моя мать?
– Зачем тебе мать, Йерве? Разве мало матерей тебя вскормили? Разве мало молока ты напился? Разве хоть одна дама, женщина или баба, ступившая на плиты этого двора, не целовала тебя?
– Кто мой отец, сир?
– Я твой отец, мальчик.
– Вы лжете, сир, и хоть не найти на свете отца лучше вас, я тем не менее желаю знать, чья кровь течет в моих жилах.
– Кровь! – стучал дюк кулаками, затянутыми в перчатки, по столу. – Отборная кровь в тебе течет! Краснее некуда! Кровь королей и принцев, сложивших головы под знаменами императоров, басилевсов и кесарей!
Йерве уходил, а затем опять возвращался.
– Кто моя мать, ваша милость?
– Твоя мать умерла, подарив тебе жизнь, как моя мать, давшая жизнь мне и сошедшая в могилу до того, как я успел запомнить ее лицо. Никто не поймет тебя лучше меня, сынок, но у нас с тобой нет матерей.
– Кто мой отец, сир?
– Не нужно тебе это знание, мальчик, я дам тебе свое имя, если ты захочешь.
– Мне не нужно ваше имя, сир, оставьте его Гильдегарду. Я хочу знать собственное.
– Тебя зовут Карлом Иштваном…
– Кто таков Фриденсрайх, чье имя увековечено в моем?
– Ты бы лучше спросил, кто таков Софокл! – гремел дюк грозно, но Йерве не боялся дюка.
– Я знаю, кто таков Софокл, сир, но я не ведаю, кто таков Фриденсрайх.
– Дурацкое имя. Оно случайно попало в твое. Так звали моего троюродного деда, обезглавившего Курфюрста-Лжеца.
– Я думал, что Курфюрста-Лжеца обезглавил ваш прапрапрадед, Кейзегал V, в битве у Сеносреха два столетия назад.
– Верно, верно говоришь, молодец, Йерве. Ты проявляешь недюжинные способности к истории и генеалогии. Если бы ты только перестал ткать гобелены…
– Я подброшу этот молот в воздух, – заявил Йерве своему молочному брату Гильдегарду.
– Болтун. Даже я не в силах его поднять.
– Пари?
– Пари.
– Что поставишь, Гильдегард, сын Кейзегала?
Дерзкой улыбкой улыбнулся Йерве, речной галькой заблестели белые зубы. Гильдегард тоже оскалился.
– Я отдам тебе девчонку, дочку плотника.
– Не нужна мне твоя девчонка.
– Я отдам тебе лошадь Василису, которую отец подарил мне на пятнадцатую осень.
– У меня есть своя лошадь, принадлежащая мне с шестнадцатой зимы.
Гильдегард помрачнел.
– Чего тебе от меня надобно?
– Отдай мне меч, поразивший Курфюрста-Лжеца, когда я подниму этот молот в воздух.
Хихикнул Гильдегард от неожиданности.
– Ты глупец, Йерве, если думаешь, что отдам тебе фамильный меч задарма. Что ты поставишь против меча?
– Чего тебе от меня надобно?
Гильдегард задумался.
– У тебя нет ничего, чего не было бы и у меня, но если ты не поднимешь этот молот, тo перед всем двором опустишься на колени и объявишь, что я всегда превосходил тебя в рукопашном бою, в метании ядра и в соколиной охоте, а потом три месяца будешь моим рабом.
– Рабом? Что ты имеешь в виду?
Гильдегард и сам не знал, что имел в виду.
– Я имею в виду, что ты будешь исполнять все мои указания, седлать моего коня, чистить мои сапоги, носить за мной оружие…
– Я понял. Ты хочешь, чтобы я стал твоим пажом.
– Пажом, рабом, какая разница? К тому же, ты будешь писать письма Джоконде де Шатоди от моего имени. Стихи у тебя хорошо получаются.
– Но Джоконда старше тебя в два раза! К тому же она никого, кроме дюка, знать не желает.
– Взрослые дамы опытны и бесстыжи, и могут научить меня тому, чему не научит никакая внучка баронессы. Всем известно, что в Париже Джоконда обучалась специальному искусству любви по богословским книгам с востока. Отец не будет против.
– Я принимаю твои условия, – снова улыбнулся Йерве.
Притащил со двора огромную каменюку, пошел в плотницкую и приволок оттуда большую широкую доску, видимо, служившую когда-то дверью. Положил доску на каменюку так, что доска встала косяком. Затем поплевал три раза на ладони, подошел к кузнецу Варфоломею и протянул руки.
Кузнец утер пот со лба и оперся на рукоять кувалды.
– Сбрендил, мальчик?
– Дай молот, Варфоломей. Я приказываю.
Приказы воспитанника дюка имели под собою веское основание, и даже Варфоломей не смел им перечить. Неодобрительно вложил кузнец рукоять в руки Йерве.
Затащил Йерве молот на лежачий край доски, поближе к каменюке. Залез на остывшую наковальню и спрыгнул на тот край, что торчал в воздухе. Раздался скрип, но доска выдержала, а молот подскочил в воздух и бухнулся на землю. Кузнец отпрянул.
Гильдегард открыл было рот, но Йерве его опередил:
– Неси меч, ты проиграл.
Bозмутился Гильдегард.
– Постой, постой, мы так не договаривались.
– Я сказал тебе, что подброшу молот в воздух, а ты обещал мне меч.
– Но я не имел в виду…
– Что же ты имел в виду?
– Я имел в виду, что ты собственными руками…
– Ты ничего такого не говорил.
– Проваливайте отседова, Демихры окаянные, – прикрикнул на них Варфоломей. – Только и знают, что мешать люду честному работать.
Двое вышли во двор, продолжая спорить.
– Ты лжец, Йерве, и обманщик.
– Я не солгал тебе, Гильдегард. Не моя вина, что ты не умеешь выражать свои мысли словами.
– Ты скотина! – воскликнул Гильдегард. – И кретин! Умею ли я выражать свои мысли словами?
– Чего гневаешься? Ты проиграл пари. Смирись и неси мой меч.
– Я не отдам родовой меч дюков Уршеоло лжецу и дармоеду.
Туча пробежала по лицу Йерве – удар пришелся ниже пояса.
До этого самого момента ни Йерве, ни Гильдегард никогда не попрекали друг друга щекотливой темой. Оба понимали, что положение обоих при дюке сомнительно, поэтому избегали напоминать друг другу о шаткой родословной каждого, тем самым сохраняя равновесие и видимость равноправия. Но сейчас равновесие впервые было нарушено.
– Даже те слова, которыми мысли выражаешь, ты не держишь, Гильдегард. Как и положено вице-дюку-ублюдку, – от возмущения Йерве сорвался на шепот.
– Подлец, – перешел на шепот и Гильдегард. – Быть может, я и незаконнорожденный, но мой родной отец признал меня, тогда как твой от тебя отказался, как от дворняжьего щенка, и выбросил за ворота!
Дыхание Йерве прервалось. В глазах потемнело. Ноги подкосились. Никогда прежде не оказывался он так близко к правде, и никогда правда не бывала страшнее. Схватил Гильдегардa за отворот камизы и пригвоздил к стене плотницкой. Гильдегард не сопротивлялся, сам охваченный суеверным страхом, потому что нарушил кровавую клятву.
– Что известно тебе о моем отце? – проговорил Йерве ему прямо в ухо, обжигая дыханием Рока. – Говори, иначе я лишу тебя чресел!
– Ничего, – пробормотал Гильдегард. – Клянусь… я ничего… я просто так сказал…
Но было поздно. Йерве умел распознавать ложь.
– Говори, говори!
– Нет, я не могу… Отец убьет меня.
– Говори, или я сам тебя убью!
– Я отдам тебе фамильный меч, только ни о чем меня не спрашивай!
Опустил Гильдегард голову, проклиная свой болтливый язык. Ни капли гнева в нем не осталось – только страх перед отцом, раскаяние и жалость. К собственному брату, пусть и не кровному, так хоть к молочному. Да и сам Йерве больше не гневался. Выпустил Гильдегарда и осел на обломок древесины – как обмяк.
– Если ты любишь меня, брат, скажи мне: кто мой отец?
Молчал Гильдегард, кусая губы и представляя собственные чресла, висящими на осине.
– Разве может юноша стать мужчиной, не зная, кто отец его и мать? – в отчаянии поднял глаза к небу Йерве. – Нет на свете лучшего отца, чем дюк, но я предпочел бы быть сыном кормилицы Виславы и кузнеца Варфоломея, чем никем. Тебе повезло, Гильдегард, ты сын отца своего, а я – никто.
Гильдегард сел на землю рядом с братом. Что там чресла, если лучший друг считает себя никем.
– Ты не никто, Йерве. И повезло тебе намного больше, чем мне. Ведь ты законный сын Фриденсрайха ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассера, отважного маркграфа, воина и рыцаря, огнем и мечом поражавшего восставших, верного друга и соратника нашего отца. Ты сын прекрасной Гильдеборги из Аскалона, последней наследницы трансильванского рода, вся семья которой пала от Черной Смерти, и только она выжила. Чтобы подарить жизнь тебе. А потом сама скончалась.
Гильдегард даже забыл сплюнуть три раза через левое плечо. Уставился Йерве на молочного брата с недоумением:
– Маркграф из Таузендвассера, того самого северного замка, который тысячу дней кряду выдерживал набеги скифов пять столетий назад? Но почему никто никогда…
– Ты плод большой и несчастной любви, Йерве. Твой отец, Фрид-Красавец, слишком сильно любил твою мать, Гильдеборгу Прекрасную. Когда она умерла при родах, он не перенес утраты и сиганул вниз из окна левого флигеля, а замок высок и ров его глубок.
– Так что же… он мертв?
– Он выжил, – вздохнул Гильдегард. – Он все еще жив. Это мне известно, поскольку старый управляющий не далее как в прошлое полнолуние относил ему ренту, отпущенную отцом.
– О, Господи! – вскочил Йерве с земли, заметался между пристроек. – Где он сейчас? Почему я никогда его не видел? Почему дюк от меня скрывал? Почему вы все молчали?!
– Да потому что владыка Асседо велел молчать! И правильно сделал! – Гильдегард вдруг все понял. – Горе тому отцу, который не дорожит собственной жизнью, когда у него есть сын. Сеньор Асседо мудр и справедлив…
– Какая глупость! Какая подлость!
Не находя себе места, Йерве носился по двору, словно пытаясь выпрыгнуть из собственного тела. Гильдегард ступал за ним.
– Как можно было? Шестнадцать зим я прожил, не зная, что в сотне лиг отсюда мой отец… моя плоть и кровь…
– Но он не желает тебя знать!
Йерве остановился у монумента основателя рода дюков Уршеоло и прижался лбом к пьедесталу.
– Откуда это тебе известно?
Задумался Гильдегард. В самом деле, откуда? Внучка баронессы фон Гезундхайт утверждала, что за последние шестнадцать зим никто и не думал приближаться к Таузендвассеру. Все обходили проклятый замок стороной, и даже голуби пролетали мимо, описывая крюк, чтобы миновать вершины трех башен. Говорили, что много лет назад некий заблудившийся странник случайно набрел на мрачную развалюху, просил приюта. Ходил слух, что путника впустили, а обратно он не вышел – сгинул заживо за стенами. Старый управляющий раз в год приволакивал к Таузендвассеру мешок с деньгами – ренту для маркграфа, кричал в небо, оповещая о подношении, и мчался прочь, плюя тридцать и три раза через левое плечо. Но что в том северном замке происходило на самом деле, никто толком не знал. Да и не спрашивали – боялись грозного дюка Кейзегала, велевшего под страхом лишения чресел вычеркнуть из памяти Асседо хозяина Таузендвассера, Фрида-Красавца.
– Мне это не известно, – признался Гильдегард и содрогнулся.
– Tакого быть не может, – бормотал Йерве. – Бредни какие-то. Не может быть, ни в коем случае! Чтобы дюк?.. Его лучший друг! Почему? Зачем такая жестокость?
Йерве потерянно взглянул на брата. Вместо того, чтобы приобрести отца, сегодня он потерял сразу двух.
– Кто же я теперь? – едва слышно спросил.
Промолвил Гильдегард с уверенностью:
– Ты, брат мой, всегда был и будешь Йерве из Асседо.
– Нет, – тихо сказал Йерве, а в нездешних глазах его застыли слезы, – Асседо закончилось. Асседо – это состояние детства. И больше ничего.
Глава III. Приор
Всегда думалось дюку, что когда настанет неизбежный момент истины, он сам все расскажет сыну. Усадит у очага. Нальет в рог киршвассер, погладит по волосам, возьмет за руку, объяснит, и умный мальчик все поймет. Лишних слов не понадобится.
Йерве нашел дюка на конюшне, распластавшимся над Виславой. Схватил крестного за плечи и резко отодрал от кормилицы.
За годы походной жизни приученный к внезапным нападениям, вскочил дюк на ноги, прикрыл чресла камизой, схватился за саблю, висевшую на крючке, но тут увидел лицо воспитанника – мрачнее полуночного утеса.
– Я требую… я требую… – задыхался юноша. – Я требую сатисфакции!
– Ты oпять начитался латыни?
Латынь немного успокоила дюка, и он собрался было облачаться в пурпуэн, но Йерве плюнул ему под ноги три раза.
– Что с тобой стряслось, мальчик? – проигнорировал встревоженный дюк смертельное оскорбление.
– Вы… вы…
– Йерве, ты болен?
– Вы лишили меня отца, корней и наследия! Вы бросили друга и соратника гнить живьем, заставив всех от него отвернуться! Вы лгали мне всю жизнь! Вы… бесчестный человек, подлец! Вы – изверг!
Кровь прилила к чеканным профилям дюка, затем отлила, затем снова захлестнула высокие скулы. Земля зашаталась под незыблемыми ногами, ибо настал роковой час. А дюк не приготовился. Вислава вскрикнула.
– Господи боже, сын мой! – дюк воткнул саблю во влажную землю и опустился перед мальчиком на колени, неожиданно для самого себя. – Прости меня, грешника, во имя всех пророков, когда-либо ступавших по Земле!
– Вам нет прощения, сударь.
Йерве выхватил саблю из почвы, переломил о колено и бросил обломки к ногам дюка. Вислава снова вскрикнула и даже закрыла лицо руками.
Как был Йерве в расстегнутом жуппоне поверх шерстяной котты, в непритязательных домашних пуленах со ржавыми шпорами и в зеленых шоссах, так и вскочил на первого попавшегося коня, стегнул его во всю мочь нагайкой, вырвался за ворота и ускакал на север, забыв оседлать.
Проскакав десять лиг, понял Йерве, что конь был никем иным, как лошадью Василисой, принадлежавшей Гильдегарду. Раскаяние охватило юношу, но возвращаться было поздно.
Сорок лиг проскакал Йерве как в тумане. Ночь сменила день. Василиса утомилась и перешла на рысь, а затем и вовсе на шаг. Йерве хотелось пить, мочиться, есть и спать. Василисе хотелось того же. Совсем скоро под светом луны перед Йерве выросли стены Свято-Троицкого монастыря.
Постучался Йерве в ворота. Открыл брат-привратник.
– Ночлега прошу, – пробормотал обессиленный Йерве.
– Кто вы, юноша?
– Йерве из Асседо, – привычно представился Йерве, и тут же опомнился.
Но было поздно.
– Почему ты, Йерве из Асседо, шляешься по ночам? Знает ли твой батюшка, что тебя носит незнамо где в этот час быка?
Йерве собрался было вскакивать обратно на Василису, но брат-привратник схватил его за шкирку и потащил за собой. Силен был брат-привратник, долго тащил, пока не приволок к покоям приора. Постучался.
Открыл заспанный приор Евстархий. На лоб сполз ночной колпак. Борода помята, тонзура не брита. Зряч и зорок был приор Евстархий, несмотря на преклонный возраст. Cразу узнал воспитанника грозного владыки Асседо и окрестностей, а также и острова Грюневальда, что на Черном море.
– Батюшки, Йерве! – всплеснул приор руками. – Что же это, как же так?
– Образумьте его, отец мой, – потребовал брат-привратник, передавая Йерве приору. – Скачет на лошади без седла посреди ночи, как какой-нибудь монгол. Совсем молодежь распоясалась.
– Однако, это так, – покачал головой приор Евстархий. – Заходи, Йерве, поболтаем.
Ничего Йерве не оставалось делать, кроме как зайти. Усадил его приор на стул, налил киршвассера в рог, сунул в рот ломоть остывшего пирога с олениной и сказал: «Жуй».
Ничего Йерве не оставалось делать, кроме как жевать. Приор смотрел на него неодобрительно и требовательно. Когда проглотил Йерве последний кусок, приор сказал: «Пей». Хлебнул Йерве из рога, голова закружилась.
– Теперь иди мочись, – приор указал на ширму, за которой обнаружился ночной горшок.
Помочился Йерве, снова покорно сел на стул.
– И что за бредни пришли в твою светлую голову? – вопросил приор, поглаживая кустистую бороду. – Почему дома не сидится?
– Нет у меня больше дома, отец мой, – промолвил Йерве и заплакал.
Приор Евстархий смотрел и молчал. Потом сказал:
– Плачь, мой мальчик, плачь.
Йерве поплакал еще. Потом немного успокоился и утер лицо рукавом жуппона.
– Стало быть, pacкрылась страшная тайна, – усмехнулся приор. – Что ж, лучше поздно. Всегда говорил я дюку, что глупо он поступает, но разве кто меня услышит? Нет, дюк непреклонен. Однажды приняв решение, не изменит ему никогда, даже если и сам в нем раскаивается. Не человек – бронза. Хороший у тебя отец, но упрям, как сто чертей, да простит меня Святая Троица. Иди спать, сын мой, утро вечера мудренее.
И приор Евстархий показал на дверь в смежную келью.
– Я доскачу до Таузендвассера сегодня же! – вскричал отдохнувший Йерве. – Не препятствуйте мне, отец мой, ибо вы стоите на пути самого Рока!
Расхохотался приор Евстархий – рог в его руке задрожал, расплескалось вино по белой бороде.
– Дурак ты, мальчик, если думаешь, что року есть до тебя дело, если думаешь, что отцу твоему, Фриденсрайху, проклявшему собственного сына, есть до тебя дело. Дюк Кейзегал твой отец, и только ему есть дело до тебя.
– Сеньор Асседо – предатель и лжец! Он мне не отец!
Выплеснул Йерве содержимое рога в очаг. Зашипело пламя, встревожилось, выпростало красные языки.
– Мальчик, – сказал приор Евстархий, – ничего ты не понимаешь. Ну да и что с тебя возьмешь. Разрази меня гром, если хоть один малец в шестнадцать своих зим хоть что-нибудь понимал. Ну так слушай меня сюда. Я крестил твоего отца. Я учил Фриденсрайха латыни и эллинскому. Я венчал его с Гильдеборгой Прекрасной. Я десятки раз благословлял его оружие. Ничего его никогда не волновало, кроме собственной персоны. Твой отец, Фрид-Красавец, жив. Шестнадцать зим жив, с тех пор, как ты впервые закричал. Он мог найти тебя, если бы тоска по родной кровинушке шевельнулась в его ледяной душе. Никто бы ему не помешал, ни соседи, ни дюк Кейзегал. Думаешь, не мечтал дюк о том, что его добрый друг и верный соратник опомнится однажды? Отрезвеет? Раскроет свое заржавевшее сердце? Мечтал, еще как мечтал! Но заперся Фрид в своем замке, обозленный на Pок, и никто его с тех пор не видел. Не нужен ты ему, сынок.
– Откуда вы знаете? – воскликнул Йерве, похожий на отца своего как две капли киршвассера.
– Факты говорят сами за себя, – веско заметил приор. – Только по поступкам может человек судить человека. Искал он тебя или нет?
– Не искал.
– Ну и квод эрат демонстрандум.
– Не демонстрандум! – вскричал Йерве. – Что за люди населяют Асседо, если судят человека по одному-единственному поступку, совершенному в порыве отчаяния?
– Шестнадцать зим прошло, мальчик, – снова напомнил приор. – Не один поступок, а шестнадцать зим ежедневного выбора.
– Ничего вы не понимаете, отец мой, и не желаете понять. Он страдает. Он болен. Может быть, он не в силах… Может быть, он потерял рассудок, может быть, слуги держат его взаперти, может быть, он…
– Ну, ну, что еще ты себе навоображал?
– Он боится дюка!
Приор Евстархий снова прыснул.
– Фрид боится Кейзегала? Не смеши меня, мальчик. Я расскажу тебе о делах давно минувших дней. Вечно спорили маркграф и дюк, кто из них храбрее, удачливее и выносливее. Сказал Кейзегал, что убьет медведя голыми руками. Нашел в снегах медведя и задушил. Но Фрид завел в ловушку недавно родившую медведицу, у которой похитил медвежат, и задушил ее. Сказал Кейзегал, что спрыгнет с самого высокого утеса на берегах Аквоназула. Залез на утес и спрыгнул в Черное море. А Фрид, взобравшись на утес, спрыгнул не в воду, а на землю. Жив остался, потому что провалился в болото. Господь его хранил. А Кейзегал вытащил. Сказал Кейзегал, что сразит константинопольцев. Убил шестерых, а Фрид – семерых. Сказал Кейзегал, что победит на турнире в Аскалоне, но не победил. Победа была за Фридом, и прекрасная Гильдеборга отдала ему свое сердце и руку. И тогда сказал Кейзегал, что засунет руки в огонь и будет держать их там, пока Фрид не закричит. Засунул руки в пламя. Но Фрид не закричал. Выдернул руки Кейзегал, когда кожа совсем сгорела. Долго я его потом лечил. Долго потом Кейзегал заново обучался фехтованию. Да так и не обрел прежних навыков. В бою с тех пор предпочитает меч. Это он так саблей размахивает, для виду и устрашения. Не Фрид боится Кейзегала, а Кейзегал боится Фрида.
Сказал приор и обмер. Нездешние глаза Йерве походили на две геенны, готовые сжечь приора Евстархия вместе с колпаком и рогом.
– Нет… нет… не может быть!
– Чем дальше в степь, тем толще сарацины, – ухнул приор. – Самое страшное, мальчик, не родителей потерять, а жизнь узнать. Такой, какая она есть. И нет у нее ответов, сколько ни спрашивай.
– Но как…
Не успел Йерве задать следующий вопрос, как затрещала дверь, обрушилась с грохотом, и в проем влетел владыка Асседо.
– Вот ты где, негодник! – вскричал дюк и ринулся к Йерве.
Сжал в объятиях, зацеловал глаза, ударил по лицу, швырнул оземь.
– Святая Троица! – заголосил приор. – Ты сломал мою дверь, Кейзегал Безрассудный! Я думал, ты навсегда излечился от этого прозвища!
– Плевать мне на дверь! – прогремел дюк и сплюнул. – Не может человек излечиться от самого себя, сколько ни бейся, дьявол вас всех побери! Вставай, щенок! Хочешь узнать своего отца? Поехали к твоему отцу! Я сам его тебе представлю, и пусть после этого меня поглотит преисподняя.
Глава IV. Фриденсрайх фон Таузендвассер
Несмотря на причитания приора Евстархия, поволок дюк Йерве обратно к монастырским воротам, зашвырнул на Василису, уже заботливо оседланную, ударил лошадь каблуком под зад, дa так, что несчастная взвилась на дыбы и стрелой вылетела в лес. Сам вскочил на своего излюбленного вороного боевого не знающего устали коня Ида, обскакал Василису и трехтактным аллюром помчался в Таузендвассер.
Ветер свистел в ушах, срывал с Йерве жуппон. Хлестали по лицу ветви осин, сосен, рябин и лип, земля комьями бросалась в глаза, звезды пистолетными выстрелами вспыхивали на черном небосводе, сливались в одно перекошенное созвездие под именем Рок.
– Сир, постойте! – кричал Йерве. – Погодите! Отец!
Но крики тонули в ветре, а дюк еще яростнее пришпоривал Ида.
Неизвестно, сколько часов продолжалась бешеная скачка, но ночь все не кончалась, казалось, рассвет не наступит никогда.
Вероятно, Йерве мог бы повернуть назад, воротиться домой, и отец бы одумался и последовал за ним, но то, что влекло Йерве и самого дюка в северный замок, более не подлежало отмене.
Лес сменился равниной, и тысяча брызг вдруг взметнулись в лицо Йерве. Огромная волна поднялась из ниоткуда и окатила его холодной водой с головы до ног.
– Ты в реке! – заорал дюк, не поворачиваясь. – Следуй за мной, гаденыш!
Йерве поспешно вылавировал Василису из бурных вод и больше не выпускал дюка из виду.
По бескрайней равнине протекала тысяча рек, прудов, ручьев и ручейков. Куда ни глянь, – кругом озера, водоемы, торфяные болота, хляби и топи, но дюк уверенно направлял Ида по известным лишь ему одному тропам и тропинкам, огибая водяные омуты. Василиса послушно следовала за Идом.
Рассвет так и не наступил, а перед всадниками выросли три коронованные башни Таузендвассера. При свете полной луны, высоченные и мрачные, вздымались они над глубоким рвом, как заледеневшие морские валы. Две передние башни стояли ровно, а третья, что поодаль, треснула и покосилась, от чего походила на сломанную шею жирафа. Этих тварей Йерве видел на картинках в бестиариях, которые откопал в библиотеке с помощью старого управляющего. Корона на сломанной шее напоминала гнилые зубы старика.
– Опускайте мост, маркграф Фриденсрайх ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер! Ваш сюзерен желает говорить с вами! – задрав голову, прогремел дюк Кейзегал в кромешную пустоту.
Закаркало потревоженное воронье, захлопало крыльями, клочьями черноты закружилось над накренившейся башней. Грянул гром и сухо сверкнула молния, ударив в шею жирафа.
Неразумно было полагать, что кто-нибудь услышит дюка в этом безлюдии, но с протяжным надрывом заскрипели ржавые цепи, и громада моста будто сама собою перекинулась через ров и легла под ноги всадникам.
Копыта Ида гулко загрохотали по мореному дубу, и копыта Василисы тоже.
Не стал дюк дожидаться, пока отопрут, рубанул двуручным мечом по железным цепям, опоясывающим трехстворчатые ворота. Еще удар – и поддались старые звенья, рассыпались, как жемчужное ожерелье. Двинул дюк каблуком по створу – застонала и распахнулась дверь.
Бросил поводья дюк, соскочил с коня, поправил перчатки и побежал по аллее в левый флигель. Туда, где находился большой зал. Йерве пошел за ним.
Когда-то роскошный сад превратился в кладбище сухих стволов и когтистых ветвей. Чаша мраморного фонтана пошла трещинами. Нимфа, в былые времена державшая на плечах сосуд, проливающий в водоем хрустальную воду из подземного источника, лишилась рук и пустыми глазами глядела в никуда. Разбитый горшок лежал у ее постамента. Pухлядь валялась у поредевших ступеней лестницы, чьи перила были изъедены червями. Две бронзовые гидры о девяти головах, некогда украшавшие парадный вход, покрылись зелеными разводами. Мутные лужи расплывались под когтистыми лапами.
В три скачка одолел дюк ступени, кинулся по мрачным переходам, пустым анфиладам, галереям и коридорам, десятками кишок извивающимися по необъятному нутру старинного замка Таузендвассера, который был запланирован, спроектирован и построен усилиями византийского зодчего Козимира Многорукого. Йерве пришлось ускорить шаг, чтобы не потеряться и не сгинуть навеки в этом лабиринте Рватонима.
Но у дверей большого зала отец резко притормозил, и Йерве налетел на него, уткнувшись носом ему в спину.
Однако дюк, казалось, ничего не заметил. Положил ладони на облупившуюся позолоту, провел пальцами по исчезнувшей росписи, как по женской груди. Опустил гордую голову. Закрыл глаза. Вздохнул глубоко. Поднял гордую голову, и Йерве так и не понял, блестели ли в золотых глазах отца, унаследованных от трансильванских князей, жемайтовских кунигаев, угорских магнатов, галицийских панов, истрийских мореплавателей, римских легионеров, скифских воевод, польских шляхтичей и одного франкского дофина, смертельная ярость, смертельный страх или слезы.
Надавил дюк Кейзегал на створки дверей – те и распахнулись бесшумно, любезно приглашая войти.
– Я ждал вас, мой сюзерен, повелитель Асседо и окрестностей, а также острова Грюневальда, что на Черном море, дюк Кейзегал VIII из рода Уршеоло, сир, ваша милость.
Сказал человек и улыбнулся, блеснув речной галькой зубов.
Чего угодно ожидал дюк Кейзегал из рода Уршеоло, но только не этого.
Чего ожидал Йерве, не может сказать никто, даже сам Йерве. Впрочем, можно предположить, что Йерве ожидал увидеть подобие человека, старую и никчемную развалину, похожую на этот мрачный удел, в котором не узнает ни черт своего лица, ни голоса крови, но не хотел себе в этом признаваться.
При свечах в тяжелых канделябрах, ввинченных в высоченные своды, в высоком кресле на четырех колесах восседал маркграф Фриденсрайх фон Таузендвассер, прямой, как кипарис, или как будто проглотил кочергу.
Длинные черные волосы, слегка тронутые у висков лунным следом, мягкими локонами ниспадали на белый накрахмаленный кружевной воротник. На черном камзоле серебрился речной жемчуг. Тяжелая серебряная цепь, увешанная головами гидр, свисала на грудь. Нездешние глаза смотрели ясно и трезво, одновременно вовне и внутрь. Изящные и сильные руки клавикордиста и фехтовальщика покоились на коленях. На левом мизинце поблескивал перламутровый перстень. Смугловатая кожа, обтягивающая безупречно прилаженные друг к другу кости лица, хранила наследие безжалостных мавров, высоколобых берберов, диких мамлюков, толстых турок, непреклонных бyлгар, жестокосердных готов, еще более жестокосердных остготов и визиготов, а так же черногорцев, кроатов, тифлиссцев, закарпатцев, одного викинга и всей разудалой Золотой Орды. Маленькая ухоженная эспаньолка на этом великолепном лице еще больше подчеркивала его и так убедительную красоту.
– Фрид-Красавец… – беззвучно шевелил губами дюк.
Так может говорить только человек, встретивший собственную память, отлитую в серебре.
– Кейзегал Безрассудный, – снова улыбнулся Фриденсрайх фон Таузендвассер, – долго же я тебя ждал.
Замер Йерве, не в силах пошевелиться. Будто в собственное будущее отражение в прозрачных водах подземного источника глядел он. Но отец, родной отец, не глядел на сына – взор его всеведущий и проникающий в изнанку души был устремлен на дюка Кейзегала.
Сдвинул Фриденсрайх фон Таузендвассер какой-то рычаг на поручне кресла. Завертелись колеса. Вплотную подкатил маркграф к дюку. Посмотрел снизу вверх, а как будто сверху вниз.
– Я не знал… Я не думал… – бормотал дюк, белее полотна, бледнее зимнего неба, а ладони его в перчатках судорожно сжимались и разжимались.
Никогда в жизни не видел Йерве владыку Асседо в таком смятении. Ледяной страх сковал юношу. Окаменел Йерве под взглядом, наставленным не на него. Захотелось ему исчезнуть, испариться, пропасть без вести.
– Что же вы думали, ваша милость?
Опять улыбнулся маркграф. Опять вздрогнул Йерве от звука певучего, многострунного голоса с легким налетом германского акцента, особенно слышном в букве «ш». Дюк сделал на шаг назад.
– Что думали вы, сеньор Асседо, мой добрый друг, мой соратник, мой сюзерен, покровитель и защитник, когда бросили меня гнить заживо, не оказав последней милости и не вонзив клинок в мое сердце?
– Я…
– Ты, – пропел Фриденсрайх. – Ты.
– Господи боже мой, господи боже, – не находя голоса, шептал дюк, отступая.
– Что думал ты, Кейзегал Безрассудный, когда приказал всем своим вассалам, соседям, посессорам, подданным, тенантам и арендаторам отвернуться от меня и забыть мое имя, требуя никогда больше не произносить его ни вслух, ни мысленно?
– Фрид, мой Фрид…
Замутился взгляд дюка, и Йерве безотчетно сжал его локоть, то ли сострадание проявляя, то ли пытаясь ухватиться за последнюю оставшуюся в мире твердыню. Но и твердыни не осталось – рука дюка дрожала.
– Фрид… Фрид… Фрид… – будто припев из старинной баллады, из колыбельной песни, протянул маркграф, опустив полупрозрачные веки.
Черные брови, как два чаячих крыла свелись над идеально правильным носом с трепещущими ноздрями.
– Kак же давно меня так не называли. В твоих устах ласкает слух мое забытое имя.
Ничего не сказал дюк. Почувствовал Йерве, как судорога свела локоть отца – крестного отца.
– Нечего тебе сказать, мой дорогой. Ведь ты и сам не знаешь, что взбрело в твою безрассудную голову. Шестнадцать зим назад мы оба не умели думать, чего уж говорить. Оба безумцами были. Но ты, как я посмотрю, до сих пор бронза бронзой, ни шагу от себя не отступил.
Дюк молчал. Лицо избороздили морщины, которых Йерве никогда прежде не замечал. Разве это бронза? Расплавилась бронза.
– Долго размышлял я, зачем ты так поступил. В моем распоряжении была целая бесконечность. Сперва я решил, что ты сжалился над младенцем, отобрав у обезумевшего отца, самоубийцы и калеки. Потом я предположил, что ты пожалел меня, полагая, что долго мне не протянуть, и захотел позволить мне умереть в спокойствии, избавив от назойливых благожелателей. Далее я представлял, что ты мстишь мне за аскалонские события и сам горюешь, хоть ни одной живой душе не расскажешь, да и самому себе вряд ли признаешься. Затем я пребывал в уверенности, что ты упиваешься моими криками, злорадствуешь, зная, что это расплата за…
Тут Йерве почувствовал, что локоть дюка снова затвердел.
– Почему ты выбросился из окна? – обрел, наконец, голос дюк. – Почему призвал ты Смерть? У тебя никогда не было сердца.
Грозовая туча пробежала по лицу Фриденсрайха. Викинг, турки и болгары куда-то спрятались, и только Золотая Орда со свистом проносилась над спаленными землями.
– Как думаешь ты, почему?
Дюк снова дрогнул.
– Роковая ошибка, – сам не зная почему, проговорил Йерве, чувствуя, что его засасывает в нездесь. – Но Рок берег его от Смерти, сделав бессмертным, а Смерть берегла от Рока, сделав удачливым.
Сеньор и вассал уставились на молодого человека, будто впервые заметив.
– Какой умный мальчик, – промолвил Фриденсрайх, накручивая локон на указательный палец, – какая блестящая интуиция. Ты на правильном пути, юноша. В дурацком поединке, который только высшие силы были способны изобрести, не могло быть победителя. Я был такой же игрушкой в их руках, как и ты, Кейзегал.
– Господи боже, – снова сорвался на шепот дюк, – неужели ты так и не избавился от этих бредней? Никакого рока не существует, лишь только глупость человеческая. Почему за шестнадцать зим ты так этого и не понял?
– Почему ты, друг мой, покинул меня в тот единственный момент, когда был мне нужнее всего?
Дюк молчал.
– Ты не знаешь. Но я ведь говорил тебе, что шестнадцать зим кряду над этим размышлял. Не раз казалось мне, что ты мне мстишь. Я присвоил тебе намерение унизить меня, смешав с землей, но ты благороден, ты и так возвышен над всеми, и не присуще солнцу затмевать других, чтобы гореть ярче. Долгое время упивался я мыслью, что ты боишься меня, что ты рад избавиться от непредсказуемого водоворота в реке, приносящего одни несчастья. Что ж, ты поступил мудро. Эта мысль грела меня в моем одиночестве. Но чем больше времени проходило, чем старше я становился, чем дальше от меня уходили мелочные заботы и личные распри, тем яснее было прозрение. Ты, Кейзегал, не меня боялся, не мстил, не унижал, не сына моего берег, не мне оказывал милость и не ему. Ты просто малодушно испугался слабости моей человеческой.
Покачнулся дюк, привалился к плечу Йерве и схватился за сердце.
– Как боишься и до сих пор, – ласково улыбнулся Фриденсрайх и откинул черное покрывало, лежавшее на его коленях.
Йерве взглянул на ноги маркграфа, обутые в железные подпорки, как в кандалы.
– Ведь ты, Кейзегал, больше всего на свете боишься Смерти. Но не той гибели ты страшишься, которая приходит на поле боя; не той, что огнем и мечом уносит в свистопляске битвы, не той, что поджидает у подножия утеса и в лапах медведицы; а той, что медленно подкрадывается исподтишка, рисует морщины на твоем лице, ослабляет руки твои, ноги и чресла, укладывает в постель и сковывает кости холодом и немощью. Той Смерти ты боишься, которая напоминает тебе о том, что ты всего лишь человек! – вдруг воскликнул Фриденсрайх.
Сверкнул лунный камень в нездешних глазах и затрепетало пламя в светильниках.
– Не бойся, Кейзегал, – протянул Фриденсрайх руку и сжал помертвевшие пальцы дюка. – Ты человек и я человек. В слабости своей я совершил отчаянный поступок, за который всю жизнь расплачиваюсь и дальше буду. Удача отвернулась от меня в тот раз, ибо переполнил я чашу терпения. В замковом рве не оказалось ни болота, ни достойного сугроба, и некому было меня вытащить. Я не хотел умирать, мой друг, поверь. Я просто был пьян вусмерть. К тому же, мне всегда нравились красивые жесты.
– И до сих пор нравятся, – пробормотал Йерве в ужасе, но Фриденсрайх пропустил реплику мимо ушей.
– Ты, Кейзегал, – продолжил он, – зашел в мои покои шестнадцать зим назад и не узнал меня. Ты отвернулся от меня, потому что не меня ты увидел, Фрида-Красавца, а то узрел, во что превращаются юные боги, когда обретают человечность. То, во что сам в скором времени превратишься. Так ли это?
Фриденсрайх смотрел на дюка, ожидая ответа. Йерве был уверен, что еще минута, и крестного отца хватит удар. Ему очень хотелось домой, в Нойе-Асседо, увезти отца поскорее отсюда, во что бы то ни стало, из этого проклятого места, которое будто паутиной его опутало, злыми чарами.
– Довольно, сударь! – воскликнул Йерве. – Этого довольно! Неужели вы не видите, что победа за вами?!
Возглас сына вывел, наконец, дюка из ступора. Он выпрямился во весь свой могучий рост, и в золотых глазах зажглись знакомые и родные солнца Уршеоло.
– Зря ты потратил шестнадцать зим на раздумья, Фрид-Красавец! – загремел дюк привычным своим голосом. – Твой первый вывод был верным. Я хотел уберечь твоего сына от проклявшего его на десять колен вперед отца! Вот он, Карл Иштван Фриденсрайх Вильгельм Софокл… Сын твой, Йерве из Асседо, стоит перед тобою. Так почему ты до сих пор говоришь со мной, а не с ним?
– Не зря я потратил шестнадцать зим.
Сказал Фриденсрайх, и улыбка исчезла. Только два нездешних светила озаряли великолепное, как молитва девы, лицо страшного человека. Йерве редко смотрелся в зеркала. Ежели он выглядел подобным образом, лучше было ему никогда болeе не видеть собственного отражения.
Извлек Фриденсрайх фон Таузендвассер из-за спинки кресла две клюки с двумя поперечными перекладинами, навалился на них, встал во весь рост и посмотрел на дюка сверху вниз.
– Я знал, что ты вернешься. Однажды прискачешь к воротам северного замка, потребуешь опустить мост и разобьешь цепи. Я ждал тебя шестнадцать зим! Я выжил. Я жив. Каждый день я побеждаю Смерть. Я ждал тебя и я дождался. Гляди же на меня! Я стою сейчас перед тобою: чтобы ты узнал, что такое настоящий подвиг. Я выжил, чтобы иметь честь еще раз воевать с вами, монсеньор. Больше мне ничего не нужно.
Пошатнулся на слабых ногах, готов был упасть, но дюк подхватил его вовремя, сжал в объятиях, зацеловал глаза.
– Прекрати, Фрид, ради бога, перестань. К чему эти красивые жесты? Прости меня, мой дорогой друг, я был болваном. Шестнадцать зим кряду. Да и раньше, чего уж там. Но и ты разумом не отличился. Зачем ты ждал? Ты мог позвать меня, и я примчался бы к тебе в любую минуту. Но ты упрям, как тысяча утесов. Ты победил. Ты всегда был сильнее, отважнее и выносливее меня, хоть Господь не наградил тебя такой физической силой, которой одарил меня. Ты никогда не боялся Смерти. Значит, ты тем более победил. Сам, без помощи твоего Рока. Этого довольно. Я восхищен тобою. Давай забудем обо всем, сотрем из памяти дела давно минувших дней и помиримся. Как мне искупить свой грех перед тобой? Я заберу тебя в Нойе-Асседо. Я отдам тебе все, что имею, включая собственного сына, который всегда мечтал быть твоим, и ничего мне не помогало. Теперь он твой. Взрослый мужчина, достойный тебя. Начнем сначала, Фрид, мой Фрид. Как много времени мы потеряли!
– Оставь меня, – оборвавшаяся струна задребезжала в голосе Фриденсрайха, пытавшегося отстраниться от дюка, что удавалось ему с трудом, поскольку руки его были заняты клюками. – Мне не нужны твои снисхождение и милость. Отпусти меня.
Дюк прислушался, выпустил маркграфа из своих объятий и попытался усадить обратно в кресло, но Фриденсрайх каким-то нечеловеческим усилием превозмог себя и дюка вместе взятых, и, волоча себя на руках, проковылял к огромному столу, возвышающемуся посреди зала. На этом столе когда-то семь дней и семь ночей пролежала мертвая Гильдеборга Прекрасная.
Уперся Фриденсрайх спиной в столешницу, бросил клюки, поднял лежавший на столе пистолет. Замерцали блики огня на серебряном стволе. Направил дуло на дюка.
Кинулся к нему дюк, но Фриденсрайх остановил его властным жестом.
– Мы никогда не стрелялись с тобой и лишь единожды подняли оружие друг против друга. Давай же исправим раз и навсегда ту дурацкую оплошность.
– Ты хочешь исправить ошибку, прикончив меня? – вскричал дюк, разводя руки в стороны и открывая грудь. – Убей же, я заслужил!
– Я не желаю убивать тебя, сумасшедший! Я хотел бы драться с тобой на мечах, шпагах, саблях, ятаганах, палашах или, на худой конец, рапирах, но я не могу. Я хотел бы мчаться на коне супротив тебя с копьем наперевес, пока ты не вышибешь меня из седла, но я и так не удержусь в седле. Я хотел бы биться с тобой врукопашную, но я не устою на ногах и двух минут. Значит, мне придется стреляться с тобой, честь по чести. Не тебя я хочу убить! Окажите мне последнюю милость, сир, и отойдите от меня на двадцать шагов, ибо я не в силах.
– Фрид! – схватился дюк за голову. – Что ты несешь? Я принимаю свое поражение. Я склоняю голову перед тобой. Чего еще тебе от меня надобно?
– Отойдите, ваша милость, на двадцать шагов назад, – зазвенел голос льдом и металлом. – Держите оружие!
И вассал бросил сеньору в точности такой же пистолет, как тот, который держал сам. Дюк безотчетно поймал его и брезгливо поморщился, будто словил гадюку.
– Я и сам не в восторге, – заверил его Фриденсрайх, – но что мне остается делать, если я всего лишь слабый человек?
Дюк оглядел пистолет и с удивлением понял, что он заряжен. Не сдержал дюк улыбки.
– Ты хорошо подготовился, Фрид-Красавец.
– Шестнадцать зим, Кейзегал Безрассудный, – промолвил Фриденсрайx, – мой добрый друг и верный соратник, сир. Осталось лишь выстрелить.
И сплюнул под ноги дюку три раза и еще три. Смертельное оскорбление.
– Болваны, – плевался дюк сквозь зубы, удаляясь на двадцать шагов назад. – Ничего не меняется.
Заложил Фриденсрайх правую руку за спину, а левой прицелился.
– Ан гард, сударь! – провозгласил с усилившимся германским акцентом.
– Я не подниму оружия против тебя, – отозвался дюк из дальнего конца большого зала.
Зияющая дыра смерти наставилась на владыку Асседо.
Йерве бросился наперерез и встал аккурат посередине зала, загораживая собой цель.
– Прекратите немедленно! – закричал Йерве. – Безумцы! Дети неразумные!
– Красивый жест, – улыбнулся Фриденсрайх и взвел курок.
– Уйди, Йерве, сгинь с глаз моих! – взревел дюк.
– Я не уйду, пока он не опустит пистолет!
– Сын, достойный своего отца, – расхохотался Фрид-Красавец хохотом, похожим на звук, который издает хрусталь, когда разбивается о чайник.
Никто не возразил.
– Отойди, мальчик, – тихо произнес Фриденсрайх, и будто капли летнего дождя упали на ветви рябины. – Подними свое оружие, Кейзегал, и стреляй первым.
Голос этого человека обладал столькими же гранями, как и его лицо.
– Подними пистолет, или я выстрелю в этого юношу.
Замер дюк Кейзегал. Врос в каменный пол.
– Ты не посмеешь стрелять в собственного сына.
– Это твой сын, а не мой.
– Вы не посмеете стрелять в наследника своего сюзерена, маркграф фон Таузендвассер!
– Вы полагаете, монсеньор? Неужели вы совсем не знаете меня и не помните, на что я спoсобен? – подернулись нездешние глаза туманной дымкой, и взгляд больше не смотрел наружу, а только внутрь. – Считаю до трех. Раз…
Гробовая тишина повисла в зале. Йерве переводил взгляд с одного отца на другого и не знал, что думать, и не знал, что чувствовать, и не знал, кто он таков, куда идет и откуда.
– Два…
Вспомнилось ему лицо Гильдегарда – глаза-васильки, волос-пшено. И кормилица Вислава. Дом родной. Старый управляющий. Гобелены и библиотека. Жирафы. Кузнец Варфоломей. Асседо. Детство.
– Фрид, – взмолился дюк, – опомнись, мой Фрид. Чего ты хочешь от меня? Хочешь, взойду на костер? Хочешь, отрублю себе руки и чресла? Я не могу возвратить время вспять. Не в моих силах вернуть тебе здоровье и шестнадцать утраченных зим. Я не могу отменить свершившееся. Я всего лишь человек, и, как каждый человек, я глуп и немощен. Какие только сумасбродства не творим мы по молодости? Я грешен пред тобою. Но Йерве твой сын, твоя плоть и кровь. В чем его вина? У нас все позади, а его жизнь только началась. Посмотри, как он похож на тебя!
Перевел Фриденсрайх замутившийся взор на Йерве. Посмотрел. Увидел. Задрожала рука, а голос потерял выразительность.
– Как долго я ждал тебя, Кейзегал Безрассудный. Ты уберег моего сына, отобрав у безумца-отца, его проклявшего. Ну да, ты все правильно сделал. Как всегда. Мне никогда не победить тебя, мой сюзерен, потому что благороднее тебя не было никого не свете. Я не заслужил сына. Не по праву достался ты мне, мальчик Йерве, а обманом. Не найти тебе лучшего отца, чем дюк. Зря вы сегодня сюда пришли, раз ты, Кейзегал, опять отказываешь мне в последней милости. Что ж, я совершу еще одну самостоятельную попытку. Только бесполезно, все бесполезно. Три.
Приставил Фриденсрайх ствол к собственному виску. Взялся за спусковой крючок.
Со скоростью ветра преодолел дюк Кейзегал двадцать шагов, перехватил ствол, повалил Фриденсрайха на пол.
– Ты говорил, что поумнел! – кричал сюзерен, силясь выдернуть оружие из рук вассала. – Ты утверждал, что шестнадцать зим потратил на раздумья! Где же твой хваленый разум?
Но Фриденсрайх не собирался сдаваться, а руки его были еще сильнее, чем шестнадцать зим назад.
Зацепился дюк пальцем за спусковой крючок, надавил на палец Фриденсрайха. Спустился курок. Раздался залп. Пуля ушла в потолок.
Выдохнул дюк с облегчением. Выпустил друга и соратника, осенил себя крестным знамением, сплюнул. Улыбнулся радостно. Тяжело дыша, почти счастливые, растянулись двое из Асседо на каменном полу, раскинув руки в стороны.
– Фрид, семнадцать осеней назад ты победил на аскалонском турнире не по прихоти рока, а потому что я…
Не успел дюк договорить, как заклацали ржавые звенья огромной старой люстры, пронзенные шальной пулей аккурат посередине высокого потолка, рассыпались в прах. И сама люстра с грохотом и треском обрушилась аккурат на голову Йерве.
Глава V. Дело Люстры
Долго потом выяснялось, чей палец спустил курок, да так и не выяснилось.
С тех самых пор фраза «обрушить люстру» в Асседо и окрестностях превратилась в крылатую и нарицательную; и ежели две прачки, стирая белье, оставили пятно на брэ, две молочницы забыли подоить корову, которая потом всю ночь мычала, мешая конюхам спать, или если два мельника, перебрав брусничной настойки, не повернули вовремя крылья мельницы под поменявший направление ветер, то потом так им и пеняли недовольные: «Обрушили люстру, растяпы!».
Люстра эта стала причиной многих перемен в жизни населения стольного града Нойе-Асседо, всего большого Асседо и, конечно же, окрестностей.
Перемирие между дюком Кейзегалом и Фриденсрайхом фон Таузендвассером не оставило равнодушным ни одну молочницу и ни единого мельника. Высоколобые летописцы увековечивали сие событие в манускриптах, талантливейшие рисовальщики украшали экзультеты изображениями двух исполинов, схватившихся врукопашную; талантливейшие барды, менестрели, труверы, трубадуры и миннезингеры слагали баллады, оды, рондо, эпосы и романески на животрепещущую тему. И только ленивый не упомянул люстру.
Стало быть, обросла люстра легендами, как самовар накипью.
Так и окрестили жители Асседо, не сговариваясь, запоздалое примирение между двумя закадычными друзьями, доблестными воинами, двумя отцами – «Делом Люстры».
И не удивительно, что столетие спустя, а может, и раньше, солнце на гербе рода Уршеоло коронуется люстрой, как коронуется люстрой родовая гидра Таузендвассеров.
Люстрами будут украшаться подвески на плечах дам, узоры их платьев и диадемы на головах. Броши и серьги с люстрами войдут в асседошную моду, и Орден Почетной Люстры закрасуется на широких грудях особенно отличившихся на ратном поприще солдат, воинов, гвардейцев, драгун, меченосцев, гусаров, рыцарей, рейтаров и шевалье.
И только непосредственные участники Дела Люстры до конца своих жизней так и не смогут прийти к окончательному выводу: являлось ли падение люстры хорошим событием или плохим.
Когда Йерве очнулся, то сразу понял, что лежит на незнакомой постели – простыни пахли жасмином и лавандой, а перина была тверже, чем та, на которой он привык спать и валяться с книгами из библиотеки, грызя яблоки.
Снаружи доносилось ржание лошадей, цокот копыт, стук колес, раздавались приказы. Юноша ощупал себя, пошевелил руками, ногами, шеей и челюстями, и понял, что цел, жив и, кажется, невредим. Боли он почти не ощущал, только легкое головокружение и шишку на затылке. Но больше он ничего не понял.
То есть, понял Йерве, что попал на тот свет.
Странное то было ощущение, и неописуемое, и непередаваемое.
И сразу выяснилось, что на том свете все вещи и предметы были неопознанными и неузнаваемыми, и не было у этих вещей и предметов ни названий, ни имен. Йерве видел цветные пятна, и точно знал, где начинается одна клякса и заканчивается другая, но что это были за каверзные твари, он понятия не имел.
Содрогнулся Йерве, пытаясь избавиться от наваждения. Поднес к лицу свою собственную руку, о которой в точности знал, что она за вещь и как называется, посмотрел на ладонь – и не узнал. Рука была похожа на бессмысленное пятно.
Неужели за шестнадцать зим жизни он уже успел заслужить ад?!
Подскочил Йерве на кровати и заорал в ужасе, пытаясь отделаться от собственной руки.
В тот же момент выросли перед ним еще два огромных пятна. Пятна направлялись к нему и что-то говорили, из чего Йерве заключил, что были то демоны – один высокий, другой пониже.
– Изыдите, окаянные! – вскричал Йерве. – Почему меня не судили на Cтрашном Cуде? Почему не выслушали мои показания, прежде чем отправить в Tартарары? Я требую справедливости Господней!
Пятна зашевелились быстрее, замельтешили перед взором.
– Йерве! – загремелo одно пятно голосом дюка. – Мальчик мой, какое счастье, ты очнулся!
– Прочь, Люцифер, Мефистофель, Ваал, Велишали, змий подколодный! – заорал Йерве еще громче, стремительно сплевывая через оба плеча и лихорадочно осеняя себя крестными знамениями. – Ты похитил голос моего отца! Верни меня и его обратно на землю!
– Тысяча гидр, – пропел многострунно второй демон со странной тоской, – бедный мальчик обезумел.
– Молчи, Фрид, – прикрикнул на него первый. – Главное, он жив.
– Я не жив! – забился Йерве в панике. – Где я? Кто вы, мерзкие черти?
Пятно придвинулось совсем близко, увеличилось, застлало все поле зрения. Йерве попытался отползти от чудища и забиться в угол кровати, но тут его плечо ощутило знакомое тяжелое прикосновение. Но оно еще больше напугало грешника в аду, потому что рука, знакомая плечу, и бессмысленное пятно, которым являлась эта рука глазу, не сливались в одну суть и в цельное понятие, заставляя сознание разрываться от противоречия.
– Йерве, это я, твой отец, дюк Кейзегал, – промолвил встревоженный голос. – Ты не узнаешь меня, сын мой?
– Закрой глаза, мальчик, – сказал певучий демон. – Не смотри.
И еще одна рука, тонкая и холодная, легла на его лоб и прикрыла веки.
Блаженная тьма поглотила Йерве, и во тьме он нашарил подушку, простыню, покрывало, стену, столбики балдахина, собственную камизу, жуппон, большую ладонь в бархатной перчатке на своем знакомом плече. Сердце замедлило бой.
– Сир? – с некоторым еще недоверием спросил Йерве. – Отец?
– Я здесь, – сказал дюк.
– Я тоже, – узнал Йерве голос Фриденсрайха.
– Я не на том свете? – спросил Йерве.
– Ты на этом свете, – вздохнул Фриденсрайх. – Но этот намного неприятнее того.
– Прекрати! – вскричал сюзерен. – Что с ним?
– Я не знаю, – прожурчал вассал. – Должно быть, люстра повредила его глаза.
– Но я все вижу! – воскликнул Йерве. – Не глаза мои испортились, а мир повредился! Кто-то исказил все вокруг! Искривил и испортил! Кто это сделал?
– Я, – в один голос сказали дюк и маркграф, и опустили головы.
– Вы? – не понял Йерве.
– Мы обрушили на тебя люстру, – объяснил Фриденсрайх. – Нам нет прощения.
– Но я жив! Разве может люстра лишить Вселенную смысла? – в отчаянии вскричал Йерве.
– Иногда одной люстры достаточно, чтобы разрушить целый мир, – сквозь зубы процедил хозяин Таузендвассера.
– Или создать новый! – ударил кулаком по прикроватной тумбочке владыка Асседо. – Довольно философии! Мне хватило по горло этого проклятого замка, в котором все висит на соплях, включая самого хозяина! Если бы ты, Фрид, ухаживал за своим замком так, как ухаживаешь за собой… Мы возвращаемся в Нойе-Асседо. Там разберемся. Вызовем лучших лекарей, врачевателей, астрологов, магистров, гадалок и ученых, и найдем Йерве лекарство.
Вскочил, подтянул перчатки, поправил перевязь, набросил плащ и выпрыгнул из окна, приземлившись прямиком в седло Ида.
– Собирайтесь немедленно! – раздался приказ уже со двора. – Ни минуты здесь больше никто не останется! Все по коням!
Открыл один глаз Йерве, и замер. Мозг снова затопили кляксы. Сердце снова бешено заколотилось.
– Юноша, – сказал Фриденсрайх, – вставай и ступай за голосом.
Закрутил свои колеса и запел. В самом деле запел, не метафорически. Никогда не слышал Йерве столь прекрасного тембра, а песня была знакомой. Ему пела ее в детстве кормилица Вислава. То была старинная визиготская песня про сад, в котором жили три голубки и ворон, который накаркал беду. А потом все погибли, потому что их расстрелял птицелов. Но до того, как Фриденсрайх допел до явления птицелова, Йерве, будто околдованный, поднялся с кровати и побрел следом за поющим пятном по бесконечному желудку северного замка, который и до искажения всех на свете вещей казался плодом чьего-то болезненного воображения.
Должно быть, они оказались у ступеней главного входа, потому что запахло землей, глиной, свежестью и дождем. Легкий ветерок ласкал лицо. Йерве опять закрыл глаза.
– Вы тоже отправитесь в Нойе-Асседо, сударь, к нам в Желтую цитадель? – взяв себя в руки, спросил он у поющего пятна, не зная толком, какой ответ хотелось бы ему услышать.
Пятно прервало песню на самом трогательном месте, в котором птицелов прощался со своей любимой, отправляясь на поиски каркающего ворона, и натягивал шоссы.
– Зачем я тебе, Йерве из Асседо? – спросил Фриденсрайх, с тоской глядя на снующих по двору слуг, повозку и нетерпеливо гарцующего коня дюка. – Я приношу одни несчастья.
Йерве пожал плечами.
– Вы подарили мне жизнь, господин Фриденсрайх фон Таузендвассер.
– Любовь к красивым жестам даже на пороге ада, мальчик, никому еще не делала добра. Этот урок ты уже должен был выучить на собственной шкуре.
– Вы мой отец.
Фриденсрайх горько усмехнулся.
– Я давно лишил себя этого права.
– Я возвращаю вам его.
Но прежде, чем Фриденсрайх успел подать следующую красивую реплику, дюк с досадой соскочил с коня, побежал по ступеням, схватил в охапку и запихнул в повозку его, а потом и Йерве.
Хлестнул Ида нагайкой и поскакал домой.
Глава VI. Отец и сын
Большая крытая повозка, запряженная двумя ломовыми лошадьми рыжей масти, катилась назад по той же дороге, по которой прискакали всадники в Таузендвассер. На запятках сидели два старых лакея маркграфа и не более свежая кухарка – последние из оставшихся в северном замке слуг, сохранивших преданность опальному хозяину. Кучер Оскар был четвертым. Дюк скакал впереди, сдерживая рвущегося в галоп Ида.
Йерве то закрывал, то открывал глаза, вздрагивая каждый раз и пытаясь приноровиться к неприятным ощущениям ничегонепонимания, что совершенно ему не удавалось. Фриденсрайх с интересом на него глядел, расспрашивал, просил описать, что именно видит юноша и на что это похоже.
– Ни на что, – с грустью сказал Йерве. – Нет таких слов в человеческом языке, которые могли бы описать.
– Поищи слова, мальчик, – попросил Фриденсрайх. – Когда найдешь, тебе станет проще. В конце концов, все, что предстает взору, является не более, чем словами. Нет слова – и нет вещи. Что отделяет руку от шеи, если не слово «плечо»? Что отделяет меч от ладони, если не слово «рукоять»? Что отделяет человека от лошади, если не слово…
– Василиса! – Вдруг вспомнил Йерве.
– Подруга сердца твоего? – улыбнулся маркграф.
Но Йерве уже высунулся из окна и звал отца. Приструнил и развернул дюк протестующего Ида, приблизился к повозке.
– Что стряслось?
– Мы забыли Василису в замке! Гильдегард не простит мне, если она не вернется домой.
Хлопнул себя дюк по лбу.
– Остолоп! Я оставил ее пастись на лугу.
– Необходимо вернуться за ней, сир! – вскричал Йерве.
– И мы потратим еще четыре часа в этих проклятых топях. Солнце клонится к закату. Пропади она пропадом, твоя Василиса!
– Но Гильдегард…
– Я куплю ему новую лошадь.
– Ваша милость, я взял ее, не испросив позволения.
– Дьявол и сто преисподних, прекраснодушный Йерве, и это тебя сейчас заботит?
– Я отвечаю за нее головой перед Гильдегардом.
Дюк сплюнул два раза через левое плечо, еле сдержав третий плевок.
– Фриденсрайх, ты еще не забыл дорогу в Нойе-Асседо?
– Я никогда ничего не забываю, Кейзегал. Семь лиг отсюда, на восточном тракте, начинаются владения вдовствующей баронессы фон Гезундхайт. Старуха еще жива?
– Жива, карга. Как и двое ее дочерей, семь внучек и одна правнучка. Всех мужчин схоронили и живут припеваючи.
– Если ночь застигнет нас в пути до твоего возвращения, я прикажу Оскару сворачивать на восток.
– Да будет так, – сказал дюк, после короткого колебания. – Я поскачу за Василисой. Только бога ради, Фрид, – никаких безрассудств. Ты отвечаешь за Йерве головой.
Нахмурился Фриденсрайх фон Таузендвассер.
– Вы все еще не доверяете мне, сир.
– Только последний болван стал бы доверять водовороту в реке.
Пришпорил дюк коня Ида и поскакал обратно на север.
Йерве выдохнул с облегчением.
– На погружение в пруд за лягушками это похоже, – вдруг понял он. – Когда омут поглощает, тина всколыхивается и не знаешь более, где дно, а где поверхность. И еще на то, как если бы вы, сударь, смотрели на звезды, но они бы не складывались в созвездия.
Сказал и удивился – мазки цвета вокруг обрели относительную стабильность.
– Волшебная сила слов, – улыбнулся маркграф, откидываясь на спинку сидения. – Расскажи мне о звездах и о лягушках, а я послушаю.
И Йерве заговорил. Сперва о лягушках, затем о жабах, о головастиках, потом о способах погружения в воду, о Большой и Малой небесных Повозках, о Сидящей Женщине, о Широком Поясе, Змееносце, Братьях Руксоидах, что встают на небесном диске в начале лета; о соколах и ястребах; о жирафах, единорогах, слонах и бестиариях. Обо всем, что было дорого его сердцу; o рукописях, палимпсестах, гобеленах, Йилигреве, Софокле, святом Наире, Ллирике и Йидофеме, и о Блаженном Нитсугве. О рыцарях круглого стола и о чаше Лаарг. Об Обетованном Граде с золотыми стенами, которые сторожат львы, быки и левиафаны. О гробе Господнем, захваченном норманнским королем Гроегом V, о подвигах и победах над магометанами.
Потом он говорил о кривом Яне, которого никто за человека не считает, несмотря на его прекрасные гуманистические качества, такие, как доброта и любовь к курицам; о таком количестве сестер-девок, что им перестали давать имена, и называли ислючительно по номерам. Больше всех любил Йерве Четвертую, которая тоже питала страсть к звездам и книгочейству. Четвертую никто в библиотеку не допускал, и Йерве тайком таскал ей книги и свечи в хижину за часовней, где она обреталась со своей мамашей, швеей Мстиславой. Йерве рассказывал о похищенном цыганами маленьком Александре, сыне кормилицы Виславы, которого успел он научить только семи первым буквам азбуки. Об Ольгерде, которого плохо знал, но о котором рассказывали, что тот сумел одолеть самого дюка в бою на шашках, и победить отца в прыжках с шестом через озеро, и…
– Я помню Ольгерда, тот и в детстве был силен как бык, а Кейзегал никогда не умел обращаться с шестом, – внезапно перебил его Фриденсрайх, и тут же спохватился. – Прости меня, мальчик. Продолжай, продолжай.
И Йерве продолжил. Он говорил о гибели Ольгерда, которую помнил хорошо. Как привезли на телеге тело из пилевских равнин. Запекшуюся кровь на сверкающих еще новых латах, которые смастерил кузнец Варфоломей лишь месяц назад и которыми так гордился первенец дюка, отправляясь в свою первую битву.
Он помнил серое лицо – маску с застывшими глазами, которые почему-то никто так и не смог закрыть, и они с бездонным отчаянием взирали в пустоту. Синие губы. Убитого горем отца, пять дней потом не выходившего из своих покоев, закрывшись там с Виславой. Дело было летом, окна распахнуты, крики были слышны на весь двор, челядь в ужасе закрывала уши, но плеваться не решалась. Ведь Ольгерд был единственным из детей дюка с характерной внешностью истрийских мореплавателей и угорских магнатов, оставивших неизгладимую родовую печать на мужчинах рода Уршеоло – высокие скулы и золотые глаза. Ольгерд даже больше самого дюка был похож на мраморное изваяние основателя рода, возвышающееся посреди двора – самого первого дюка Кейзегала Косматого, получившего корону от императора Кунрада II, за заслуги в войне за бургундское наследство. Затем Кейзегал Косматый сопровождал императора Кунрада на Аппенинский полуостров, с целью утверждения Святого Престола за папой Бенедиктом…
– Я посмотрю, ты сведущ в летописи времен и семейном наследии больше самого Кейзегала, но куда-то ты удалился из Асседо, – снова перебил его Фриденсрайх. – Вернись домой.
И Йерве стал рассказывать о кузнеце Варфоломее, о Виславе – третьей кормилице, которую привезли ему от баронессы фон Гезундхайт, когда он появился на этот свет и когда сам Фриденсрайх пребывал на границе того света. В то время Вислава недавно впервые родила ребенка, дочь – от зятя вдовствующей баронессы. Дочь спустя несколько дней умерла от ветрянки, а молоко у Виславы еще было, вот ее и прикрепили к новорожденному Йерве. Потом дюк взял Виславу с собой в Нойе-Асседо вместе с Йерве, и больше никогда не обделял кормилицу своим вниманием. А дальше родился Гильдегард.
Про Гильдегарда Йерве говорил особенно долго. Про их соперничество и дружбу. Про то, как они вместе учились верховой езде, рукопашному бою и всем остальным существующим в природе воинским искусствам, но с возрастом Йерве потерял интерес к боям, а увлечение Гильдегарда ими все росло. Гильдегарду не были интересны ни Софокл, ни слепой сказитель Ремог, ни даже древний Доисег, хоть Йерве и пытался пересказывать молочному брату самые интересные моменты, как, например, про скитания эллинца Ассидоя, в честь которого был назван благословенный их край, про принца Хамелета, про деревянного коня, про Семерых против Виф, про Пидэ-отцеубийцу…
Но Гильдегард воодушевлялся только на похищении Апорвы, просил красочно описывать царевну Адел из Яилотэ, не понимал, каким образом золотой дождь может оплодотворить женщину, и интересовался размером бюста жены Яленема и тем, была ли Адемордна привязана к скале в уппеланде, хотя бы в камизе, или совсем без одежд. Но Йерве не расстраивался, и своими словами и домыслами дополнял известные ему сюжеты, так, чтобы Гильдегарду было веселее, а это само по себе оказалось полезным занятием, которое привело Йерве к увлечению стихосложением.
Йерве все говорил, забывая о страшных кляксах, в которые превратилась вся Вселенная, и рассказывал, как Гильдегард учился у дюка приемам соблазнения баб, женщин и дам, и о том, что, в принципе, ему неплохо удавалось, но пока что только с бабами и с юной внучкой баронессы фон Гезундхайт, которая была известна всей округе своим мятежным нравом. Но Йерве все же думал, что ничего серьезного между ними пока не было.
Внучка баронессы, как и все молодые дамы Асседо и окрестностей, попала под влияние выскочки Джоконды де Шатоди, а Йерве ни разу не верил, что та явилась в Асседо из Парижа. Он готов был согласиться, что максимум из Праги, но для парижанки Джоконда была слишком несведуща в политике, и за обеденным столом однажды на приеме у дюка не смогла дать точный ответ, какой король сидит сейчас на франкском троне. Но дюка не это смутило, потому что он и сам плохо помнил, Карл то был, или очередной Людовик, а то, что Джоконда пила слишком мало киршвассера и все отказывалась от мяса. Это показалось дюку подозрительным, потому что, говорил он, от дам, которые плохо питаются, ничего хорошего не жди.
Тут Фриденсрайх серьезно посмотрел на рассказчика.
– А у тебя, Йерве из Асседо, уже была женщина?
Йерве смутился.
– Нет, – признался он. – Хоть дюк научил и меня обольщению.
– Не сомневаюсь, – улыбнулся маркграф, – так почему же ты не воспользовался этой великой наукой?
– Я соблазнил однажды племянницу старого управляющего, поскольку это было частью домашнего задания дюка. Не прошло и минуты, как она обольстилась и согласилась последовать со мной на сеновал, но это было настолько скучно…
– Сеновал?
– Ее готовность отдаться мне. Я же воспитанник владыки Асседо, кто же не отдастся мне, сударь? К тому же я ничего к ней не испытывал. И я попросил у нее прощения, позвал Гильдегарда, отдал ее ему, и ушел восвояси.
– Понимаю, понимаю, – кивнул Фриденсрайх. – Но была ли на свете женщина, Йерве из Асседо, в присутствие которой твое сердце пропускало удар?
– Нет, – снова признался Йерве. – Мне нравится Джоконда де Шатоди, как нравится она всем, кто когда-либо ее видел, но я никогда не посмею отобрать трофей у отца, даже если он считает этот трофей паршивым.
– Женщина – не трофей, – заметил Фриденсрайх. Затем спросил: – И больше ни одна дама не заставляла твои колени дрожать, а голос – срываться?
– Э-э-э… – протянул Йерве, засмущавшись еще больше. – Ну… когда я читал у Ремога и у Доисега про восставшую из морских волн Дирпику… я…
Сдержал Фриденсрайх смех, а улыбку Йерве все равно не различил.
– Ты высоко метишь, юноша, и правильно делаешь, – сказал маркграф серьезным тоном. – Только богиня достойна заставить дрогнуть сердце мужчины из рода ван дер Шлосс де Гильзе фон Тауз…
Резко дернувшаяся и покосившаяся на миг повозка прервала речи Фриденсрайха из рода Таузендвассеров. Затем раздались крики, топот копыт, выстрел, ругань, проклятия, и даже вопли. Чья-то рука просунулась в окно, и холодное лезвие прижалось к горлу Йерве.
– Если у вас есть с кем прощаться, прощайтесь! – произнес каркающий голос. – Ваш путь, господа, подошел к концу!
Глава VII. Разбойники
Замер Йерве, только бесполезные глаза моргали.
– Прибереги угрозы для лакеев, – прислушался, но страха в голосе Фриденсрайха так и не расслышал, как и певучести. – Можешь забрать все, что найдешь в этой повозке, но моих людей не трожь.
– Выбирайтесь из колымаги, – прокаркали над головой Йерве.
– И не подумаем, – усмехнулся Фриденсрайх. – Бредни какие.
Створка растворилась, и Йерве вывалился наружу. За ворот его держали цепко, но лезвие отдалилось от горла.
– Отпусти юношу, разбойник, – громче прозвучал голос из повозки.
Фриденсрайх высунулся в распахнутую дверцу.
Грабителей было четверо. Один держал Йерве, двое других угрожали кучеру и слугам, а четвертый, совсем еще ребенок, придерживал лошадей.
Насколько Фриденсрайх мог судить, огнестрельное оружие у этой шайки имелось только одно – древняя дудка, которую держал у виска кучера Оскара высокий детина. Да и по потрепанному внешнему виду этих горе-разбойников можно было сделать вывод, что они знавали лучшие дни. Обычные грязные цыгане – последние остатки некогда богатых таборов, которые все еще шатались по Асседо, после того, как дюк их изгнал из своих владений и окрестностей однозначным указом о невозвращении.
– Я сказал, отпусти мальчика, – железным тоном произнес Фриденсрайх, и швырнул в лицо человека с ножом пригоршню жемчужин, сорванных с собственного камзола.
Хватка слегка ослабла. Йерве вырвался. Раздался выстрел. Человек с ножом упал на землю.
Двое других ринулись к повозке. Еще один выстрел уложил высокого, так и не разобравшегося с пищалью.
– Пятно слева. В без четверти девять от тебя по циферблату, – быстро проговорил Фриденсрайх, у которого закончились пули. – Бей в красное.
Йерве метнулся к приближающемуся пятну и выбросил кулак в нижнюю часть кляксы. Клякса повалилась на землю.
– Еще раз ударь, – произнес Фриденсрайх спокойно, – повыше.
Йерве ударил. Что-то хрустнуло, пятно издало возглас и перестало шевелиться.
В суматохе Оскар скрутил руки самому молодому из шайки – последнему уцелевшему, и поволок к повозке. Поднял с земли потерянную пищаль и вручил хозяину, державшему два серебряных пистолета. Слуги сгрудились чуть поодаль. Кухарка бешено плевалась.
– Сколько тебе лет, мальчишка? – холодным тоном спросил Фриденсрайх.
– Не знаю, господин, – пробормотал мальчик сиплым, недавно поменявшимся голосом.
– Пошто грабишь честной народ?
– Батька заставляет, – ответил мальчик.
– Своих мозгов у тебя не завелось?
– Жрать нечего.
– Сжальтесь над ним, сударь, – попросил Йерве. – Совсем еще дитя малое.
Мальчик посмотрел на Йерве и прошептал потрясенно:
– А-Б-Ц сидели на крыльце… Я тебя знаю, ты Йер…
– Возраст не причина для жалости, – заметил Фриденсрайх и выстрелил в мальчика.
Щуплое пятно упало. Йерве вскрикнул. Потом закричал.
– Что с тобой? – возмутился Фриденсрайх. – Неужели Кейзегал не закалил твое сердце?
Но Йерве продолжал орать. Затем осел на землю и закачался из стороны в сторону.
– Возьми себя в руки, Йерве из Асседо, – снова зазвенел голос металлом. – Что ты, как барышня, расклеиваешься.
– Это он… – бормотал Йерве. – Это он…
– Кто «он»?
– Маленький Александр, мой молочный брат, похищенный цыганами.
– Опомнись, мальчик! Ты бредишь? – голос маркграфа стал тише.
– Как он выглядел? Опишите его!
И Фриденсрайх фон Таузендвассер описал кормилицу Виславу.
– У него было родимое пятно на ключице, – из последних сил выдавил из себя Йерве.
– Глянь, Оскар, – приказал Фриденсрайх.
Глянул Оскар. Нашел пятно. Сказал:
– Есть.
– Тысяча гидр, – пробормотал маркграф и отбросил пищаль, будто она ужалила его за ладонь. – Не может быть. Нет, не может.
Йерве подполз к телу. Нащупал голову. Кровь обагрила руки. Опять захотелось Йерве сгинуть, пропасть, навеки исчезнуть с лица земли. Какого черта он покинул Нойе-Асседо?
– Я не знал, – сказал побледневший Фриденсрайх. – Прости меня, мальчик.
– Вы так опрометчивы, сударь! – снова вскричал Йерве. – Сколько еще раз мне вас прощать? И неужели вы думаете, что дюк простит вас и в этот раз?
– Не простит, – пробормотал Фриденсрайх и закрыл глаза. – Не должен он меня прощать. Я же говорил тебе, что приношу одни несчастья. Будь я проклят. Тысячу раз проклят.
Издал Йерве нечленораздельный звук и заставил себя оторваться от того, что совсем недавно было маленьким Александром.
– Тело следует предать земле, – сказал он. – Прямо здесь.
– Зачем же здесь? – спросил Фриденсрайх. – Отвезем его в Желтую цитадель. Хоть проводим с честью.
– Вы с ума сошли, сударь! Мы не станем ничего говорить отцу. Прикажите своим слугам молчать. Прикажите им вырыть ям у. Прикажите им…
Сорвался голос Йерве. В самом деле, Рок его преследовал, как Пидэ-отцеубийцу.
– Ты хочешь скрыть от Кейзегала? – изумлению в тоне Фриденсрайха не было предела. – Не следует защищать меня от его гнева. Пусть заслуженно падет на мою голову.
– Да не вас я защищаю, сударь, а отца от разбитого сердца! Вы тоже ни слова не скажете. Принесите мне клятву молчания.
– Тысяча гидр, юноша, да ты блаженный!
– Дайте мне клятву молчания, сударь!
Достал Фриденсрайх фон Таузендвассер кинжал из-за пояса, надрезал лезвием нижнюю губу и сплюнул три раза кровью через левое плечо.
– Я достал кинжал из-за пояса, надрезал губу лезвием и сплюнул кровью три раза через левое плечо, – описал маркграф свои действия. – Так ли это, Оскар, мой свидетель пред ликом Господним?
– Истинно так, клянусь телом Христовым, – подтвердил кучер.
– Ты веришь мне, юноша?
– Верю, – вздохнул Йерве.
Ночь опустилась на Асседо и окрестности, а слуги все рыли яму. Вырыли. Опустили тело в землю. Прочитали молитву. Засыпали землей.
Стоял Йерве коленопреклоненный над могилой, и даже рыдать не мог. Встал. Забрался в повозку. Забился в угол.
– Сворачивай на восток, Оскар, – отдал приказ Фриденсрайх. – К баронессе фон Гезундхайт держим путь.
Глава VIII. Женщины
– Хочешь, я расскажу тебе о твоей матери? – спросил Фриденсрайх, вероятно, в надежде отвлечь юношу от горестных мыслей.
Йерве показался из-за занавески.
– Не было на свете никого прекраснее Гильдеборги из Аскалона. Не было на свете сердца счастливее моего…
Йерве вздохнул.
– Мраморная кожа. Желтые волосы. Глаза синевы июльского неба…
– Сударь, – прервал его Йерве, – прошу вас, не пойте баллад, а расскажите мне о ней, как говорят о человеке.
– Хорошо, Йерве из Асседо, сын своей матери, я расскажу тебе о человеке, – дрогнул голос. – Она подходила мне. Я подходил ей. Мы с нею были королевской четой. Знать и плебеи глядели на нас, как на юных богов, сошедших с небес. Она тешила мое самолюбие, а я – ее. Но когда мы оставались наедине, места на двоих не хватало. Разногласия между нами появились… сразу после свадьбы. Гильдеборга сожалела о том, что покинула Аскалон – земли своих отцов. Ведь она была последней из славного рода, покошенного чумой. Гильдеборга последовала за мной в Таузендвассер, нo она – гордая и привыкшая к независимости, полновластная хозяйка своих земель – не простила мне вынужденного отъезда. Она упрекала меня, а я, движимый гордыней, не снисходил до сочувствия, испытывая только желание подчинить ее себе. Но мы знавали и счастливые моменты. Мы оба были сладострастны и тщеславны. Каждый из нас желал безраздельно обладать другим и превосходить другого. Не жизнь то была, а поле битвы. Нам никогда не было скучно, но покоя мы не знали. А когда Гильдеборга зачала… – Фриденсрайх запнулся.
– Что вы хотели сказать?
– Видишь ли, юноша, она никогда не хотела становиться матерью моего наследника. Материнство Гильдеборга восприняла как поражение, как признание слабости своей передо мною…
Йерве поменялся в лице.
– Ты не желаешь слушать дальше? – спросил Фриденсрайх.
– Продолжайте, сударь, – не колеблясь, ответил сын своенравной Гильдеборги. – Раз уж я ступил на путь истины, негоже мне с него сворачивать.
– Ты решителен и отважен, Йерве из Асседо. Слушай же дальше. Гильдеборга не хотела дарить мне наследника. Были у нее на то свои причины. Она оповестила меня о том, что понесла, и в тот же миг попросила позволения избавиться от плода своего чрева. Она оставилa выбор за мной. Видимость выбора.
– Что же вы ей ответили? – с напряжением спросил Йерве.
– Я ударил ее по лицу, – очень тихо ответил Фриденсрайх.
– А она?
– Она сплюнула кровь и ударила меня столовым ножом.
– Что же было потом?
– Потом… потом Гильдеборга провозгласила, что сегодня же покинет Таузендвассер и вернется в Аскалон. Кликнула горничную и поднялась к себе собирать поклажу. Твоя мать никогда не бросала слов на ветер. Сказав – она делала.
– Она уехала?
– Я воспрепятствовал ей покинуть замок.
– Каким образом?
– Я запер ее в комнатах. Вместе с горничной.
– О, Господи, сударь!
– Я лишил ее воды и пищи, но она не предпринимала никаких попыток сопротивления. Это я не выдержал преграды, разделяющей нас, и спустя три дня выпустил ее на волю. Она даже не обернулась в мою сторону. Семнадцать следующих дней Гильдеборга жила в замке так, будто меня не существовало совсем. Я не вынес ее холодности, которая была ужасней упреков, оскорблений и ножей. За ужином я сказал ей: «Убей зародыша, если так тебе угодно. Ты не моя собственность, я тебе не хозяин, и ты вольна поступать так, как пожелаешь, ибо ты равна мне в доблести и в безрассудстве». Она улыбнулась и впервые за семнадцать дней, а, может быть, и за всю нашу совместную жизнь, посмотрела на меня. Я отнес ее в опочивальню… В течение двух месяцев мы были счастливы. Пожалуй, в первый и в последний раз. Битва закончилась. Впервые мы познали покой в объятиях друг друга. Когда я отправлялся к твоему отцу в Нойе-Асседо подавлять восстание, разлука казалась нам обоим нелепой. «Не уезжай, – сказала мне Гильдеборга. – Неужели мсье ле дюк до сих пор для тебя важнее меня?». Но присяга сюзерену важнее брачных уз. Долг важнее. Дружба важнее. Так уж у нас повелось. Я оседлал коня и ускакал на юг. Гильдеборга стояла у ворот, прижав руки к груди, и ветер развевал ее желтые волосы. Такой я запомнил ее навсегда. И во снах она приходит ко мне такой – мраморной статуей на ветру, только волосы живые. Я не знал, что она решила сохранить тебе жизнь. Когда я увидел ее в следующий раз, она была мертва, а ты появился на свет.
– И вы пожалели о том, что она не избавилась от меня, несмотря на то, что вы оставили выбор за ней.
– Не совсем так, – ответил Фриденсрайх. – Я пожалел о том, что она не произвела на свет девчонку. Но теперь я сожалею о другом.
– О чем? – с тенью надежды спросил Йерве.
– О том, что не знал любви ни до Гильдеборги, ни после, ни в то время, которое было нам отпущено.
– Но вы же сказали, что любили ее! – воскликнул Йерве, сдирая занавеску с крючьев.
– Я этого не говорил. Это то, что ты хотел услышать.
– Вы страшный человек, маркграф, – изрек Йерве, отворачиваясь к оголенному окну повозки. – Вы – чудовище.
Разумеется, выражения лица Фриденсрайха он опознать не мог.
– Любовь и жажда обладания – разные вещи, юноша. Вспомни об этом, когда перестанешь замечать, где кончается твое собственное отражение и где начинается твоя избранница. Как жаль, что я это понял слишком поздно.
– Вы просто не умеете любить, – бросил Йерве. – В вашем сердце лежит стена.
Фриденсрайх ничего не ответил, а перед повозкой выросли стены приземистого и широкого добротного особняка в стиле фахверк.
Кучер Оскар спрыгнул с козел и постучался в двери. Перед его носом замаячила масляная лампа, и очень скоро из особняка высыпал отряд девочек, девиц, девушек, женщин и дам, и побежал к повозке, хрустя гравием, сопровождаемый вскриками, криками «Мужчины!», охами, ахами, всплескиванием рук и одним незначительным обмороком.
Но суета улеглась, стоило высокой старухе в капоре, в черном вдовьем одеянии, подобно ворону, разметать одним движением широкого рукава стаю синиц.
Старуха отобрала фонарь у ключницы и просунула в окно повозки, высветив лицо Фриденсрайха.
– Прошу прощения за то, что помешал ужину в кругу семьи, дорогая баронесса, но, смею надеяться, вы не откажете в ночлеге двум утомленным путникам, – предупреждая очередной возглас, как ни в чем не бывало заявил маркграф и куртуазно поклонился.
Возгласа все же избежать не удалось. Точнее, двух. А может быть, и трех.
Баронесса схватилась за сердце, покачнулась, но тут же была подхвачена одной дочкой и двумя внучками.
– Фрид-Красавец, – побелевшими губами пробормотала старуха, и слово «красавец» прозвучало гораздо значительнее имени «Фрид».
Имя тут же было подхвачено, как мяч, подкинуто, подброшено и повторено на все лады десятком голосов, голосков и отголосков, и окрашено в оттенки любопытства, недоверия, воодушевления, истерии, сомнения, страха, ужаса и смертельного ужаса.
– Не может быть! Матушка, вы переели за ужином, – перекрикнула остальных младшая вдовствующая дочь баронессы, вырвала фонарь из ослабевших рук матери и снова поднесла к лицу обладателя имени. – Невероятно! Фриденсрайх фон Таузендвассер!
«Фриденсрайх фон Таузендвассер!», – заголосила стая.
– Почему он покинул северный замок?
– Как он здесь оказался?
– Зачем он здесь?
– Разве он еще жив?
– Я слышала, он скончался прошлой осенью.
Правнучка баронессы разревелась.
– Ему нельзя ни минуты у нас оставаться, – обмахиваясь платочком, решительно заявила старшая дочь. – Ни в коем случае. Дюк никогда не простит нам ослушания.
– Да, да, конечно, – с некоторым сожалением поддержала ее одна из внучек. – Но может быть, только на одну ночь? Мы никому никогда не расскажем.
– Нам велено забыть о нем. Пускай едет прочь, – заявила старшая дочь, приходя в себя. – Ступайте своей дорогой, маркграф, нам нельзя с вами разговаривать.
– Но как можно отказывать гостю в ночлеге? – спросила самая младшая из внучек. – Законы гостеприимства важнее указа сюзерена.
– Прекрасные дамы и верные подданные, – Йерве неохотно вылез из повозки, чем вызвал очередной всплеск плохо сдерживаемых эмоций, – ваше волнение более чем объяснимо, но могу засвидетельствовать, что мой крестный отец, дюк Кейзегал, подарил прощение своему вассалу, соратнику и другу Фриденсрайху фон Таузенвассеру. Клянусь честью, мы прибыли сюда с соизволения дюка. Это говорю вам я, Йерве из Асседо.
– Йерве, милый! – кто-то бросился ему на шею, и юноше оставалось лишь предполагать, что это подруга Гильдегарда, часто гостившая со своей матерью в Нойе-Асседо.
– Что за вольности, Нибелунга! – одернула ее мать. – Не трожь кавалера и жди, пока он сам поцелует тебе руку.
– Если бы у нас бывали кавалеры, я бы знала, как себя с ними вести! – взбунтовалась Нибелунга, пока Йерве пытался отыскать среди расклеивающихся пятен ее руку.
– Ах ты, бесстыжая негодница! Никто из твоих сестер не бывает в свете так часто, как ты. Уж кому-кому, а тебе бы следовало давно научиться хорошим манерам.
– Некому учить меня хорошим манерам, маман, ведь вы изгнали в прошлом году мсье Жака!
– Молчать! – вдруг каркнула престарелая баронесса. – Йерве из Асседо, правду ли ты говоришь?
Все замерли. Некоторые даже как вкопанные.
– Истинную правду, сударыня. Дюк в самом скором времени должен присоединиться к нам. Вероятно, он очень огорчится, узнав, что вы отказались принять маркграфа со всеми достойными его почестями.
– Мои владения отныне и навсегда открыты для Фриденсрайха фон Таузендвассера, – сказала баронесса, плюнула три раза на ладонь и приложила ее к золотому крестику на груди. – Долгожданное перемирие наконец настало, и нет в Асседо и окрестностях, включая остров Грюневальд, что на Черном море, дамы, женщины или бабы, которую такое событие осчастливило бы больше моего. Следуйте за мной, ваша светлость.
– Я был бы рад, – донеслось из повозки, – но, боюсь, что в итоге столь длительного путешествия не способен так поступить.
– Вы не оправились после…? – старуха осеклась.
Любопытные взгляды, забыв о приличиях, впились в открытую дверь.
– Неужели вы, дорогая баронесса, полагаете, что полет в ров с левого флигеля Таузендвассера может пройти бесследно даже для меня? – ничуть не смущаясь заявил Фриденсрайх. – Нет, я, увы, уже не тот, кем был в те счастливые времена, когда мы с вами резались в Тарок на двадцать коров и имение в придачу.
– Матушка! – ахнула старшая вдовствующая дочь. – Неужели это правда?! Против чего вы поставили наше родовое имение?
– Он лжет! – поспешно воскликнула баронесса.
– Против ночи со мной, – улыбнулся Фриденсрайх фон Таузендвассер.
Все ахнули и густо покраснели. Йерве мысленно схватился за голову.
– Я знаю, кто выиграл партию, – сделала вывод бунтующая Нибелунга.
Все повернули лица к дому и многозначительно притихли.
– Слава богу, мы сыграли вничью, – поспешил успокоить наследниц баронессы Фриденсрайх и кликнул лакеев.
Те выкатили из повозки кресло о четырех колесах, которое вызвало очередное смятение среди присутствующих. На лице баронессы нарисовалось плохо скрываемое злорадство. Слуги собрались было помогать хозяину выбраться наружу, но баронесса остановила их властным жестом.
– Мы сами занесем в дом вашу светлость, – мстительно улыбнулась она. – Почести, так почести. Берите его!
Дважды ей не пришлось повторять. Две дюжины женских рук ворвались в повозку, извлекли на свет божий Фриденсрайха фон Таузендвассера, вознесли высоко над землей, как тело Спасителя, и поплыли к особняку.
Йерве поплелся следом за звенящим хохотом человека, который подарил ему жизнь.
Глава IX. Закон
Взмыленный дюк ворвался в уютную гостиную в тот самый момент, когда присутствующие уминали десерт, пили дымящийся глинтвейн и обсуждали люстру.
Фриденсрайх восседал по правую руку баронессы, а Йерве – по левую. Несмотря на заметное сходство этих двоих, маркграф походил на человека, который ежедневно только тем и занимался, что наносил светские визиты соседкам, а Йерве выглядел, как приговоренный к смертной казни через колесование. В глазах дам сверкали отблески свечей, а щеки их были пунцовыми.
– Я думал, вас прирезали разбойники! – загремел дюк, чем в очередной раз вызвал переполох среди присутствующих женщин, девушек и девочек, которые вскочили и присели в реверансах. – Три трупа лежали на дороге, я разыскивал еще два, но вместо них нашел свежий курган на обочине. Клянусь всеми чертями, я был уверен, что под ним лежите вы!
У Йерве помутилось в глазах еще больше, дюк властным жестом повелел дамам сесть, а Фриденсрайх сказал:
– Невысокого мнения вы придерживаетесь о своем сыне и соратнике, сир, если полагаете, что от них так легко избавиться. Садись за стол, Кейзегал, надеюсь, баронесса фон Гезундхайт не откажет и тебе в столовом приборе.
От такой дерзости женщины и барышни издали восхищенный коллективный «ох», а баронесса уступила дюку свое место во главе стола и сказала:
– Ваша милость, вы окажете нам великую честь, отужинав вместе с нами. Я велю разогреть для вас запеченный свиной окорок, крольчатину и тушеный горох.
– Благодарю, – нетерпеливо поклонился дюк, – но я успел перекусить в дороге. В Таузендвассере нашлась не только пропавшая Василиса, но и недоеденная жареная перепелка. Грех было оставлять ее крысам, и я захватил ее с собой.
– В таком случае, быть может, вам киршвассера, браги или шнапсу, сир? – настаивала баронесса.
– Лейте полугар, – отрезал дюк.
Ключница бросилась к буфету.
Как стоял, так и опрокинул в себя дюк переполненную чашу полугара. Протянул ключнице пустой сосуд, который тут же снова наполнился, и одним глотком опустошил и его. Вздрогнул, занюхал перчаткой и сказал:
– Довольно. Насиделись. Отбой, сударыни! Негоже утомлять гостей. Завтра нас ждет дальняя дорога, а эти двое и так еле дышат.
Женщины и барышни покорно повскакали со своих мест. Но не все, а только некоторые, поскольку затуманенные взоры последних были прикованы к маркграфу. Нибелунга, казалось, вообще не заметила вторжения нарушителя идиллии. Но тут мать дернула ее за ухо, и ей тоже пришлось вскочить.
Ни для кого в Асседо и окрестностях не было тайной, что Эдда, старшая дочь баронессы и мать Нибелунги, являлась одной из самых верных подданных дюка, и была готова исполнять его приказы задолго до того, как те были произнесены вслух.
Йерве тоже поднялся, испытывая к дюку огромную благодарность, а Фриденсрайх, подперев щеку ладонью, с интересом наблюдал за происходящим.
– Ваша милость, вы забываете, что перед вами не рота наемников, а нежные создания. У них разболятся головы от вашего командирского тона. Позвольте им провести вечер за приятной беседой. В конце концов, это такая редкость в наших суровых краях.
Дюк одарил Фриденсрайха взглядом, способным испепелить целую мельницу, но вместо ответа развернул кресло друга и соратника, и выкатил вон из гостиной.
– Бесчестный маневр, – беззлобно сказал Фриденсрайх.
– Пойдем, Йерве, – бросил дюк через плечо.
Баронесса вместе с ключницей резво обогнали их, показывая дорогу к свободным опочивальням.
– Ты уже успел не раз пожалеть о том, что предложил мне уехать с тобой в Нойе-Асседо, не так ли, Кейзегал? – с усмешкой спросил Фриденсрайх. – Я слышу твои мысли: «Дьявол меня забери, какого черта я опять с ним связался? Лучше мне было забыть его совсем, как я и намеревался». Мой дорогой, еще не поздно исправить оплошность.
– Прекрати, Фрид, – сквозь зубы процедил дюк. – Я никогда не изменяю своим решениям.
– Только раз в шестнадцать лет.
Дюк промолчал.
– Что ж, я уже не раз успел отблагодарить тебя за такое проявление не присущей тебе мягкости сердца. Спасибо тебе, Кейзегал.
– Брось, – попытался проявить очередную резкость дюк, но тон его невольно смягчился. – Мне не нужны твои благодарности. Я поступил так ради Йерве.
– Не сомневаюсь, – серьезно промолвил Фриденсрайх.
– Ты в порядке, мальчик? – спросил дюк, когда процессия оказалась у двери комнаты, предназначенной Йерве, и заглянул юноше в глаза.
– Да, ваша милость.
– Ты лучше видишь?
– Нет, ваша милость. Но лучше разбираюсь в том, что вижу. Я сразу узнал вас по походке.
– Вот и хорошо. Иди спать, Йерве. И не забудь запереть дверь на засов.
Йерве повалился на постель и мгновенно заснул. Ему снились сны, в которых у людей были обыкновенные лица, предметы были четкими и ясными, и все было простым и понятным.
Рассвет еще не забрезжил, когда дюк, разбуженный внезапной мыслью, подкравшейся к нему во сне, подобно тому, как возвращается из вражеского стана в родной полуночный лагерь разведчик, вскочил, оделся и, стараясь соблюдать тишину, спустился по лестнице и открыл двери опочивальни соратника и друга.
Нечеловеческим усилием воли удалось ему на несколько мгновений сдержать рвущееся из горла громкое проклятие, и он поспешно затворил за собою дверь.
На постели рядом с Фриденсрайхом лежала Нибелунга в одной камизе, положив голову тому на грудь и обвив руками, как какое-нибудь сокровище. На коврике с другой стороны кровати устроилась единственная правнучка баронессы фон Гезундхайт, обняв тряпичную куклу.
– Дьявол и сто преисподних! – вырвалось наконец проклятие, и оправданно повисло в воздухе.
Несмотря на приглушенный голос дюка, Фриденсрайх открыл глаза и молниеносно извлек из-под подушки пистолет. Еще через мгновение он осознал, что на нем лежит чужое тело.
– Кровь Христова! – прошипел дюк. – Что ты творишь, черт веревочный?
– Тысяча гидр! – подхватил маркграф удивленно, опуская оружие. – Что она здесь делает?
– Они, – дюк перевел взгляд на коврик.
– Этого еще не хватало, – прошептал Фриденсрайх, освобождаясь от опутавших его объятий и свешиваясь с кровати.
– Тебе их подсунула баронесса, или дело в том, что ты не утратил еще своих чар? – несколько успокоившись, спросил дюк.
– Черт его знает, – ответил Фриденсрайх. – Оба варианта не из лучших.
– Дай мне слово, что ты не воспользовался ни одним из них.
– Клянусь Богом, я не знал, что они здесь. Мне льстит, что ты считаешь меня все еще способным воспользоваться женщиной.
Дюк едва заметно помрачнел.
– Ты не способен?
– Я этого не говорил.
– Ты змий, Фрид.
– Разумнее было бы предположить, что у этих девчонок просто слишком давно не было отца. Эй… как тебя… – Фриденсрайх потряс девочку за плечо.
– Нибелунга, – подсказал дюк.
– Нибелунга, – чуть громче позвал Фриденсрайх, – просыпайся!
Нибелунга сладко потянулась, полусонно забормотала и снова предприняла попытку прижаться к маркграфу.
– Нет, нет, просыпайся поскорее! – отстранил он ее как можно дальше от себя.
Внучка баронессы проснулась. Окинула осмысленным взглядом комнату и ничуть не смутилась, даже присутствием дюка. Мечтательно улыбнулась. Потерла помятую щеку. Поправила сбившиеся волосы.
– Доброе утро, господа, – торжественно произнесла Нибелунга. – Теперь я законная невеста маркграфа фон Таузендвассера.
– Кара небесная! – снова выругался дюк. – Исчезни из этой комнаты сейчас же, девчонка, и мы забудем о том, что ты здесь когда-либо бывала.
– И не подумаю, – заявила Нибелунга. – Я хочу выйти замуж за его светлость.
Жених подавил смешок, а внучка продолжила, как ни в чем не бывало:
– Мы провели ночь наедине, а это значит, что теперь его сиятельство обязан взять меня в жены.
– Зачем я тебе? – Улыбнулся Фриденсрайх почти ласково. – У тебя вся юность впереди, а я больной человек. Не стоит тратить молодость на калеку.
– Замолчи, Фрид! – вскипел дюк, не сомневаясь, что слова друга и соратника не возымеют на Нибелунгу отрезвляющего действия, а совсем наоборот.
– Я буду вам сиделкой! – истово вскричала внучка баронессы. – Я посвящу вам всю свою жизнь!
– Вы провели ночь не наедине, слава Богу, – юк предъявил сонную правнучку взору Нибелунги. – Твоя племянница провела ночь вместе с вами.
– Калевала! – Нибелунга вскочила с кровати. – Что ты здесь делаешь, маленькая негодница?!
– Мне приснилось Кентерберийское привидение, – чуть не плача оправдывалась правнучка. – Я испугалась, и пришла к Фриду-Красавцу, чтобы мне спалось спокойнее. Он добрый и безобидный. Господин дюк страшный, а у Йерве была заперта дверь. Когда я была совсем маленькая, папа всегда защищал меня от ночных кошмаров. Почему папа умер?
Калевала разревелась. Фриденсрайх протянул ей носовой платок.
– Потому что все мужчины, когда-либо ступившие за порог этого дома, умирают! – в отчаянии произнесла Нибелунга. – Вам некого вызвать на дуэль, ваша светлость, чтобы смыл пятно с моей чести. Так что теперь я ваша.
– Бредни какие, – сказал Фриденсрайх. – Глупые предрассудки, давно себя изжившие. Уходи, Нибелунга. Я весьма польщен твоим благородным порывом, но мне нечего тебе дать.
– Дайте мне кольцо! – потребовала Нибелунга и вцепилась в руку Фриденсрайха. – Вот это, с лунным камнем, что на вашем мизинце.
– Оно досталось мне от прекрасной Гильдеборги. Я не собираюсь никому его отдавать, даже тебе, девушка с открытым сердцем.
– Обручитесь со мной, или я закричу, – заявила Нибелунга.
– Постой, милая, не надо кричать… – попытался Фриденсрайх предупредить исполнение угрозы.
Но дюк уже схватил бунтарку, перекинул через плечо, другой рукой поднял Калевалу и направился к дверям.
Нибелунга заорала что есть мочи. Калевала присоединилась к воплям. На крики прибежала ключница, перегородила дорогу дюку и тоже завопила. Через несколько мгновений все обитательницы особняка в халатах, накинутых поверх камиз, и в кружевных ночных чепцах стояли на пороге спальни Фриденсрайха ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассера. Пришлось дюку опустить девчонок на пол. Йерве проснулся, и тоже явился на шум, тщетно пытаясь разобраться в творившейся вокруг бессмысленной суете.
– Что здесь происходит? – вопросила баронесса, растолкав толпящихся в дверях наследниц. – О, святые угодники! Нибелунга, Калевала! В спальне у мужчины?!
– Ах! – только и смогла произнести мать Нибелунги и бабушка Калевалы, старшая дочь баронессы, напрасно искавшая взглядом поддержки в лице дюка.
– Эдда! – обрушила свой гнев баронесса на дочь. – Ты воспитала распутницу! Развратницу!
– Ох! – потеряв дар речи, стискивала руки у груди Эдда.
– А ты, Беовульфа! – баронесса обернулась к молодой матери Калевалы, старшей дочери Эдды. – Что ты за мать, если твоей малолетней девке не спится по ночам в своей собственной постели? Какое поколение воспитала ты, Эдда? Твоя дочь набралась шальных мыслей от этой волочайки Джоконды, а ты ни словом, ни жестом не препятствовала пагубному влиянию.
– Вы и сами хороши, бабушка! – вступилась Нибелунга за родственниц. – Все мы слышали, что готовы были вы поставить на карту ради ночи с Фридом-Красавцем!
При этих словах дюк с непередаваемым изумлением, тут же сменившимся на не более описуемое отвращение, посмотрел на баронессу, затем на Фриденсрайха, а потом сплюнул три раза через левое плечо.
– Я выхожу замуж за его светлость, – заявила Нибелунга. – Ибо моя честь запятнана, я испорченный товар, и ни один уважающий себя дворянин теперь не сделает меня своей женой. Вы все мои свидетели.
– Ваша светлость, вы подкупом и обманом заставили Нибелунгу прийти к вам ночью, соблазнили и совратили ее? – с возмущением спросила баронесса.
Фриденсрайх молчал.
– Неудивительно, что вы позарились на несмышленое дитя, – огрызнулась старуха. – Но даже я могу вас понять, ведь вы шестнадцать лет не знали женщины. Разве что ваша кухарка…
– Прекратите! – вдруг вмешался Йерве. – Как вы смеете?
– Я не дитя! – воскликнула оскорбленная Нибелунга. – И никто меня сюда не звал. Я сама пришла. По собственной воле.
Трудно сказать, написалось ли в тот момент на сморщенном лице баронессы разочарование, облегчение или очередное злорадство, а может, то была смесь из всех этих чувств.
– Ты в самом деле испорченная девка, Нибелунга, – уничижительно сказала баронесса, – но как бы там ни было, справедливость и правосудие на твоей стороне. Не так ли, ваша милость?
Дюк не произнес ни слова, только желваки судорожно играли на резко очерченных скулах.
– Дюк Кейзегал VIII из рода Уршеоло, сеньор Асседо и окрестностей, а также острова Грюневальда, что на Черном море, хозяин стольного града Нойе-Асседо, – торжественно провозгласила баронесса, поплотнее запахиваясь в шаль. – Сир, я обращаюсь к вам как высшей судебной инстанции. Рассудите нас по справедливости.
Достала из прикроватной тумбочки Священное Писание, плюнула три раза на ладонь, приложила к переплету. Неопровержимый жест.
– Я и пальцем не тронул вашу внучку, – заговорил наконец Фриденсрайх. – К тому же с некоторых пор в опочивальне пребывала Калевала, так что вряд ли мы с Нибелунгой долго оставались наедине. Дорогая баронесса, никто, кроме нас, не осведомлен о том, что произошло. Запретите своим наследницам говорить. Клянусь кровью Христовой, мы тоже забудем о дурацком инциденте, и чести вашей внучки ничего не будет грозить. Она обретет ее заново, как платье снову.
– Сударь, – с подчеркнутым презрением произнесла баронесса, – как свойственно вам полагать, что честь является достоянием молвы, а не внутренним сокровищем.
– Не смейте оскорблять достоинство моего кровного отца, баронесса фон Гезундхайт, – снова вмешался Йерве. – Я не позволю.
– Ты вызовешь меня на поединок, Йерве из Асседо? – баронесса разразилась каркающим хохотом. – В этом доме нет мужчин, и у Нибелунги нет защитника, который мог бы отбелить ее достоинство, пролив кровь, свою или чужую. Закон есть закон.
– Дело в том, – нарушил молчание дюк очень тихим, и поэтому особенно страшным голосом, – что баронесса и теперь разносит вести по округе, быстрее императорской почты. Она обладает весьма действенными методами этого полезного ремесла. Мы сохраним тайну, а она – нет. Ничего не изменилось за шестнадцать лет.
– Закон есть закон, – повторила баронесса, пропустив мимо ушей оскорбительные фразы. – Вершите суд, ваша милость.
И протянула дюку Библию.
– Не было на свете закона, глупее этого, – сказал Фриденсрайх. – Давно пора тебе, Кейзегал, переписать правила этой глуши.
– Не я их написал, не мне их переписывать, – ответил дюк, вынужденно принимая Священное Писание из рук баронессы. – Каждому мужчине в Асседо и окрестностях следует знать, что, оставаясь на ночлег в доме, где есть незамужние женщины и нет мужчин, способных на поединок, ему необходимо запирать дверь на засов. Где ты потерял голову, Фрид? Я слишком поздно вспомнил, что у тебя не было ее никогда. За это прошу меня простить. Меньше всего на свете я желаю еще один раз осудить тебя, но старая карга права: закон есть закон.
Тут подала голос маленькая Калевала.
– Я пришла сюда до Нибелунги. Они никогда не были одни.
– Уймись, дуреха, – каркнула баронесса. – Ты малолетний свидетель. Я точно помню, что где-то было упоминание о том, что показания девочки младше двенадцати лет и мальчика младше тринадцати не рассматриваются судом.
– Бредни какие, – сказал Фриденсрайх. – Вы это только что выдумали.
– Баронесса права, – пробормотал Йерве, опуская голову. – В восьмом томе «Сносок» Клавдия Дотошного, одиннадцатого настоятеля Свято-Троицкого монастыря, канонизированного семь столетий назад, святого покровителя прибрежной провинции Намил, так и сказано: показания малолетнего свидетеля не рассматриваются в суде.
– О, господи, мальчик! – стукнул дюк кулаком по Библии. – Зачем ты учил латынь?
– «Сноски» писаны на эллинском языке, – вздохнул Йерве.
– Вот! – подняла к потолку указательный палец хозяйка дома.
– Однако, господа, – продолжил Йерве, выступая вперед, – не все столь однозначно. Если найдется Нибелунге названный защитник, маркграф волен скрестить с ним оружие.
– Я не стану искать ей защитника, – поспешно заявила баронесса.
– Сир, – пролепетала старшая Эдда, обращаясь к дюку. – Быть может, вы будете готовы защитить честь моей дочери?
– Судья не может быть одновременно и защитником. Не так ли, Йерве? – с надеждой спросил дюк.
– Не может, – ответил юноша.
– Может ли женщина быть защитником? – вдруг спросила Беовульфа, сестра Нибелунги.
– Не нужны мне никакие защитники! – вскричала Нибелунга. – Я хочу выйти замуж за маркграфа!
– Женщина может выступить защитником, – ответил Йерве. – Но только в том случае, если удалится после поединка в монастырь и примет постриг.
– Невероятно, – заметил Фриденсрайх. – Где ты это вычитал, юноша?
Йерве собрался было рассказывать про третий том «Адских искуплений» святого Иеронима из Босха, но дюк пресек его нравоучительные намерения.
– Ты станешь драться с женщиной, Фрид-Красавец?
– Мне не привыкать, – усмехнулся маркграф. – Сударыня, вы готовы воевать со мной, а затем принести монашеские обеты?
– Готова, – ответила самоотверженная Беовульфа. – Все лучше, чем отдавать юную девушку сломанному человеку. Простите меня, матушка, но вы перешли все границы дозволенного. Да и разве этот дом хоть чем-нибудь отличается от монастыря?
– Я не стану с ней драться, – сказал Фриденсрайх. – Жаль убивать такую женщину.
– Что же ты предлагаешь? – спросил дюк.
– Юноша, – обратился маркграф к Йерве, – не готов ли ты вступиться за честь Нибелунги?
Йерве показалось, что он перестал понимать не только увиденное, но и услышанное.
– Что вы сказали, сударь?
– Я сказал, что с радостью позволю тебе завершить недоделанное и убить меня окончательно. Надеюсь, ты уже понял, что кроме несчастий, тебе нечего от меня ожидать. Боюсь, что и мне от тебя тоже. Давай же покажем Року, что мы сильнее его, и проявим, наконец, свободу воли.
– Фриденсрайх фон Таузендвассер! – загремел дюк, стуча Библией по столбику кровати. – Я приказываю вам молчать! Давно следовало пресечь этот фарс. Хоть я и не сведущ в крючкотворстве, подобно Йерве, все же помню, что из таких ситуаций существует еще один выход, который очевиден каждому, кто еще способен мыслить трезво. Если найдется другой жених для Нибелунги, все остальное превращается в бессмыслицу.
– Я готов взять ее в жены, – провозгласил Йерве не задумываясь, назло Року и всем отцам.
– Нет, – произнес дюк так, что стены задрожали. – Она выйдет за Гильдегарда.
– Что? – переспросил Йерве.
– Давно пора было их обручить. Тот, кто нарушает священную клятву молчания, навеки повязан узами с тем, с кем совершил преступление.
– Сударь! – вскричал Йерве. – Речь идет о вашем родном сыне!
– Мой сын нарушил клятву молчания. Не мне его прощать.
Сказал, сплюнул три раза на Библию, прижал переплет ко лбу и вернул книгу баронессе. Неотменимый жест.
– Опомнись, Кейзегал Безрассудный, – вмешался Фриденсрайх. – Молодости присущи ошибки. Кто из нас их не совершал? Черт вас всех забери, да я возьму эту Нибелунгу в жены, раз она так к этому стремится. Мне не осталось, о чем сожалеть.
– Поздно, – сказал дюк. – Надо было раньше думать. Это будет хорошая партия. Собирайся в дорогу, девочка. Быть тебе Нибелунгой из рода Уршеоло. Ничуть не хуже, чем ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер.
Глава Х. Пожар
Нибелунгy снабдили сундуком с вещами и некоторыми фамильными драгоценностями. Остальное приданое и родственницы обещали прибыть к венчанию.
Свадьбу решили сыграть через несколько семидневиц в Нойе-Асседо. Сыграли бы раньше, к чему медлить, но баронесса настояла на приглашении всей знати Асседо и окрестностей, а наследницы – на пошиве гардероба, достойного такого события.
Вдовствующая Эдда, мать Нибелунги, проявила робкое намерение сопровождать невесту, но дюк не позволил.
Провожали невесту как положено: со слезами, улыбками и цветами. Кузины ревновали и кусали локти, ибо Гильдегард, хоть и не был таинственным Фридом-Красавцем, все же являлся завидным женихом и признанным сыном дюка.
«Это она специально все так подстроила. Давно имела виды на Гильдегарда. Когда гостила в Нойе-Асседо с мамхен, всегда соискала его общества, – шептались родственницы за спиной. – Ох, неспроста разболтала наследнику тайну. Знала, как накажет их дюк. Коварная Нибелунга. Расчетливая Нибелунга. Не лыком шита наша Нибелунга».
Но бледная и неожиданно притихшая Нибелунга ничем не выдавала ни триумфа своего, ни разочарования, так что трудно было сказать, в самом ли деле был у нее тщательно продуманный план, или оказалась она жертвой обстоятельств.
Йерве придерживался мнения, что Нибелунга стала такой же пленницей Рока, как и он сам, от чего преисполнился к ней жалости и сочувствия, как и к Гильдегарду, который, как было прекрасно известно Йерве, вовсе не испытывал ни малейшего желания жениться ни на Нибелунге, ни на ком-либо другом. Обида на несправедливость крестного отца воспылала в его душе. А может, и на холодную справедливость.
Невеста наотрез отказалась садиться в повозку, и пожелала ехать верхом на Василисе, которую Гильдегард, несомненно, в скором времени передаст в ее владение в качестве свадебного подарка. Какие бы планы она ни вынашивала касательно сына дюка, как и любая отвергнутая женщина, Нибелунга тоже была в обиде – на Фриденсрайха.
Повозка опять покатилась по пыльным дорогам Асседо и окрестностей. Йерве снова спрятался за занавеску – единственную уцелевшую, а Фриденсрайх с упоением глядел на солнечные равнины и степи, расстилающиеся за окном, на зеленеющие луга и на поля подсолнухов.
Если бы Йерве все еще мог распознавать выражения лиц, он бы прочел на лице своего кровного отца такой неподдельный восторг, томление и трепет ожидания, которые могут возникнуть только у узника, вырвавшегося на свободу из долголетнего заточения, или у воскресшего мертвеца. Ho поскольку Йерве более не был способен читать по лицам, Фриденсрайх не счел нужным скрывать обуревавшие его чувства, которые никому бы не приоткрыл в любом ином случае.
Красивым было Асседо летом, когда все цвело, а колосья ржи шевелило дыхание невидимого, но близкого моря. И не то чтобы Фриденсрайх об этом забыл, ведь он никогда ни о чем не забывал, но воспоминания нахлынули на него бурным потоком, сливаясь с реальностью, и обострили восприятие. Он распахнул окно и подставил лицо соленому ветру.
Воздух Асседо был целебен, что было известно каждому, кого хоть раз да заносило на земли древних истрийских мореплавателей. На короткое мгновение Фриденсрайху показалось, что он все еще жив.
– Пожар! Пожар! – вдруг раздались крики спереди, не успела процессия удалиться и на две лиги от поместья Гезундхайт.
Потревоженный Йерве тоже высунулся из окна, и различил марево, поднимающееся недалеко на юге.
– Там должно быть селение Ольвия, – подсказал Фриденсрайх, – маленький рыбацкий городишко.
– Он славится лечебными источниками, термами и банями, – не ударил лицом в грязь и Йерве. – За последние десять лет селение разрослось, разбогатело и вошло в моду. Вся знать провинции выкупила в Ольвии дома и съезжается туда на летние оздоровительные купания.
– Во времена моей молодости весь свет съезжался в Тиру, что на противоположном берегу залива.
– В Тире теперь обитают лишь отставные пираты, проигравшиеся князья да старые девы. От былой роскоши там остался лишь обветшалый ям «Истрия».
– Как преходяща слава земная, – философски заметил маркграф. – Что ж, судя по этому столбу дыма, обветшалость в самом скором времени не минует и Ольвию.
– Я в Ольвию! – донесся до повозки голос дюка. – Помогу чем смогу. А вы – ни шагу отсюда.
– Кто бы сомневался, – бросил Фриденсрайх. – Там, где пекло, там и Кейзегал.
– Может не стоит, сир? – пробормотала Нибелунга. – Это опасно, а скоро свадьба…
Но дюк не удостоил ее ответом, стегнул Ида и направил на юг.
– Скачи за ним, Оскар! – приказал Фриденсрайх кучеру.
– Во весь опор! – поддержал его Йерве.
– Вы с ума сошли, господа! – вскричала Нибелунга. – А как же я?
– Нам ничего не грозит. Пожар небольшой. Два дома горят от силы, а может быть, и всего лишь один.
– Дома в Ольвии теперь в большинстве своем каменные, а дороги из брусчатки, – просветил присутствующих Йерве. – Дюк приказал вымостить пять лет назад. Вряд ли пожар распространится.
– Дальновиден Кейзегал, – сказал Фриденсрайх. – Только, по своему обыкновению, не туда смотрит.
Минут через десять, а может быть, пятнадцать, повозка въехала в ворота невысокой крепостной стены, окружавшей Ольвию, и загромыхала по новеньким мостовым. Едкий дым смешивался с запахом рыбы и серы. Редкие прохожие, что встретились путникам на улицах городка, зажимали носы платками. Все были одеты так, словно этикета в Асседо никогда не существовало, и трудно было отличить рыбака от рейтара. Даже замужние дамы вместо гебинде носили на головах легкие соломенные шляпки, фривольно открывающие шею и затылок, а мужчины отказались от бегуинов.
– В самом деле, удобство важнее моды, – заметила Нибелунга, проводив ревнивым взглядом какую-то женщину в просторном бесформенном одеянии. – Я тоже хочу ходить в блио без ремня!
И принялась распоясываться.
Фриденсрайх снова высунулся из окна.
– Остановись, дуреха! Ты еще слишком молода, чтобы скрывать фигуру от посторонних взглядов.
– Это он! – вдруг донеслось от двери дома напротив, в которую собиралась войти супружеская чета, а может быть, и чета любовников. – Фрид-Kрасавец!
Оброненные ключи, звякнув, упали на камни, а женщина во все глаза уставилась на повозку.
– Неужели толки о люстре – правда?!
– Выходит, что так.
– Не может быть!
– Его ни с кем не перепутаешь! Глядите, он ничуть не изменился! Я же говорила вам, сударь, а вы не верите слухам. Только молве и можно доверять в наши тревожные времена.
Фриденсрайх поспешно задернул занавеску, а Нибелунга на Василисе приосанилась, окинув открывшую рты пару таким взглядом, будто Фрид-Красавец принадлежал лично ей.
– Каким чертом весть успела долететь до Ольвии раньше нас? – изумился маркграф.
– Дюк же говорил вам, что баронесса трудится не покладая рук, – напомнил Йерве.
– Ольвия – ближайшее селение от моего… бывшего дома, – сказала Нибелунга, купаясь в лучах славы и почти забывая об обиде. – Должно быть, точильщик ножей, торговец рыбой, а может быть, и портной, успели побывать у нас ранним утром, пока все собирались в дорогу.
И бросила пояс в окно. Фриденсрайх поймал его и принялся задумчиво наматывать на руку.
– Ты никогда не бывала в Ольвии, девочка? – мягко спросил маркграф, добивая насмерть последних защитников оскорбленного достоинства неудавшейся невесты.
– Бывала, и не раз, ваша светлость, – гордо заявила Нибелунга, – когда наносила визиты мадам де Шатоди. Но только в зимнюю пору, а летом – никогда.
Повозка проехала пустующую элегантную площадь с памятником какому-то античному мореходу в тоге и с веслом. Лавки и трактиры были заперты. Все население городка, несомненно, устремилось к пожару.
– Только ленивый не упомянул эту Шатоди, – с интересом произнес Фриденсрайх, когда повозка свернула за угол. – Горю желанием с ней познакомиться.
– Она горит! – вдруг вскричала Нибелунга.
– Ничего удивительного, – сказал маркграф.
– Это ее жилище горит!
Нибелунга указала рукой на видневшийся в тридцати, а может быть, и в сорока шагах от повозки полыхающий двухэтажный домик с мансардой. Дом находился в конце кривой улочки, убегающей к морю. Языки огня выстреливали из узких окон. Трещало пламя. Напротив горящего строения сгрудилась галдящая толпа. Женщины крестились, плевались, а самые отчаянные тащили ведра из соседних домов. Цепочка потных мужчин протянулась от морского берега к пожарищу; ведра стремительно передавались из рук в руки.
Дюк обнаружился под самыми окнами рядом с тремя рыбаками, баронами, ландграфами или точильщиками ножей, трудно было утверждать, поскольку торсы у всех были оголены. Четверо держали четыре угла пухового одеяла, а дюк что-то кричал, задрав голову.
Йерве узнал его по росту и осанке, и выскочил из повозки.
– Я же приказал вам оставаться на дороге!
– Мадам де Шатоди в доме?! – с волнением воскликнул Йерве, пропустив упрек мимо ушей.
– Она закрылась в мансарде, – ответил дюк, указав на крышу, еще не тронутую огнем, – и паникует. Она не одна, с ней еще какая-то женщина.
Пятна в круглом окошке ничего не сообщили Йерве, но сквозь треск и шум он услышал знакомый возглас:
– Мне не спастись! Я мертва! Же сюи мор!
– Прыгайте! – орал дюк. – Высота всего в десять локтей! В третий раз повторяю вам, Джоконда! Клянусь дьяволом, четвертого не будет, и я сам залезу в дом!
– О! – вскричала хозяйка горящего дома. – О, неужели вы так поступите ради меня, сир?
– Нет! – вдруг раздался сверху незнакомый Йерве женский голос. – Не надо рисковать жизнью из-за нас!
– Но мы разобьемся насмерть! Я погибну! – заламывала руки Джоконда.
– Я спрыгну! – решительно заявила незнакомая Йерве женщина.
– На счет «три»! – крикнул дюк и отошел на шаг.
То же самое проделали и трое других неопознанных мужчин рядом с ним. Одеяло растянулось.
– Раз. Два. Три!
Что-то вылетело из окна, и приземлилoсь аккурат посередине отпружинившего одеяла, которое тут же опустили на брусчатку.
Дюк подал руку незнакомке, но она стремительно поднялась с земли, не воспользовавшись помощью своего спасителя.
– Благодарю вас, господа, – сказала женщина, прижав ладони к щекам, будто пытаясь удостовериться в собственной целостности, и тут же задрала голову к крыше. – Джоконда, прошу тебя, не медли, прыгай! Видишь – я цела! Значит, и тебе ничего не грозит.
– Ах! – вскричала мадам де Шатоди, словно была не рада такому заверению. – Какое недостойное женщины безрассудство! Эде муа, монсеньор!
– Эн! – загремел дюк.
– Но, се не па поссибль!
– Де!
– Мон дье!
– Труа, мадам!
Одеяло поймало Джоконду, которая раскинулась на нем, распростав руки, и лишилась чувств.
– Черт подери! – вскричал дюк. – Этого еще не хватало.
Выхватил ведро из рук рядом стоящего тушителя огня и окатил водой Джоконду.
Действие оказало беспромедлительный эффект. Мадам де Шатоди, не успев открыть глаза, принялась сплевывать соленую воду, приговаривая: «Мерд».
– Следует помочь ей, сир, – посоветовал озабоченный Йерве. – Вероятно, у нее нервный срыв.
– Вставай, Джоконда, – сказала незнакомая женщина, опускаясь на колени перед погорелицей. – Ты цела и невредима. Все прошло. Все позади.
– Ах, Йерве! Cе туа, мон шер! Какое счастье тебя лицезреть, даже при таких обстоятельствах! – воскликнула мадам де Шатоди, не обращая внимания на подругу, и снова распласталась на одеяле. – Все мои вещи! Все мои фамильные драгоценности! Сбережения! Фибулы и броши! Портрет моего покойного супруга!
– Суета сует, – успокаивающе заметила незнакомка. – Ты жива, и это главное.
– Как же мне жить дальше?! – Джоконда схватилась за сердце. – И, главное, где?!
– Ты вернешься в Париж, – подбодрила ее незнакомка.
– Но! Но! – теряя голос, пролепетала Джоконда. – Я ненавижу двор, который лишил меня возлюбленного! Будь проклят Париж! Я одна! Я погибла! Же сюи мор! Же сюи пердю!
– Сир, – обратился к дюку Йерве, – давайте отнесем ее в повозку. Должно быть, от потрясения матка мадам де Шатоди блуждает по телу мадам де Шатоди, и у нее начался истерический припадок.
– Господи боже мой, Йерве! Где ты начитался такой ереси?! – с негодованием промолвил дюк. – Я отпишу ей ренту. Пускай купит себе новый дом в Ольвии.
– Нет! Нет! – запротестовала Джоконда. – Я не смогу жить в городе, который отобрал у меня последнее пристанище и все мои воспоминания! Йерве, помоги же мне!
– Мы заберем мадам с собой в Нойе-Асседо, – решительно заявил Йерве. – Пока она не оправится.
– Ты рехнулся, мальчик?! – воскликнул дюк.
– Не пристало кавалеру покидать даму в беде. Сир, я беру мадам де Шатоди на поруки.
Сказал Йерве, поднял безликую даму на руки и понес наугад к повозке, которая находилась неизвестно где.
– Сюда, юноша! – закричал Фриденсрайх, распахивая дверцу.
Нибелунга соскочила с Василисы и побежала навстречу.
– Мадам! – кричала внучка баронессы. – Ах, мадам, мадам, какое счастье, что вы спаслись!
– O, моя драгоценная Нибелунга, – с придыханием говорила Джоконда, обвив шею Йерве, – мон петит бюте! И ты тоже здесь! Все вы явились, как ангелы с небес, чтобы не дать мне погибнуть! Воистину, Господь милостив ко мне.
– Я с вами, мадам, – заверила ее почитательница. – Я вас не брошу. Скоро я стану женой Гильдегарда, и Нойе-Асседо станет моим домом, а значит, и вашим.
– Се не па поссибль! – прошептала Джоконда с вымученной улыбкой, и снова лишилась чувств.
Йерве уложил даму на сидение напротив Фриденсрайха, бросился к горящему дому и встал в цепочку огнетушителей рядом с дюком. Через час огонь начал сдаваться. Через два – унялся. Через три – потух. От дома на кривой улочке осталось одно пепелище и каменный остов. Морской бриз, наконец, коснулся торсов трудящихся. Дюк утер перчаткой пот со лба, Йерве – ладонью.
– Вот и хорошо, – сказал дюк. – Вот и превосходно. Где градоначальник?
Наместник Ольвии с седой порослью на голом торсе нарисовался перед владыкой Асседо.
– Раздайте всем этим самоотверженным господам, бюргерам и мужикам по два золотых каждому. Я верну из своей личной казны.
– Будет исполнено, сир, – поклонился градоначальник, – со всею точностью.
Дюк кивнул.
– А на этом месте постройте купальню. Грех такому участку пропадать – море в трех шагах. Пошлину можете пустить на формирование постоянного пожарного отряда. Мне онa ни к чему.
– Слушаюсь, ваша милость, – снова склонил голову седовласый наместник.
– Дьявол меня забери, – проворчал дюк, – тебе не кажется, Йерве, что кому-то не угодно, чтобы мы воротились домой? По коням!
Отдал последний приказ и стремительным шагом направился прочь, а утомленный, но удовлетворенный крестник последовал за ним.
Дюк вскочил на Ида. Йерве залез в повозку, где Фриденсрайх вместе с Нибелунгой давно забросили попытки привести в чувство мечущуюся в бреду мадам де Шатоди, и резались в Дурака, чтобы не заскучать.
Проигравшая Нибелунга как раз должна была прокукарекать в одиннадцатый раз, когда появился Йерве.
– Василиса тебя ждет, – сказал Йерве, заботливо нашаривая руку Джоконды, чтобы проверить пульс. – Мы отправляемся в путь.
– Приглядите за мадам, господа, она на вашей ответственности, – попросила Нибелунга, вылезла наружу и захлопнула дверцу.
Повозка тронулась.
– Постой, Кейзегал! – маркграф высунулся из окна.
– Чего вам, Фриденсрайх? – нетерпеливо обернулся дюк.
– Где та женщина?
– Какой еще, к чертовой матери, женщины тебе не хватает, Фрид?!
– Той, что выпрыгнула первой из окна.
– Бог ее знает.
– Кейзегал, – заметил Фриденсрайх, – мой дальновидный друг, столько лет прошло, а ты все еще глядишь не туда, куда следует.
Глава XI. Незнакомка
Упрямую незнакомку дюку пришлось приглашать, уговаривать и убеждать последовать за ним.
Изначально дюк вовсе не собирался так поступать, ибо до этой женщины ему не было никакого дела, как, впрочем, и до самой мадам де Шатоди, но, встретив неожиданную преграду, не устоял перед соблазном ее сокрушить.
Незнакомка отнекивалась, отказывалась от приглашения, и говорила, что не пропадет, снимет комнату на постоялом дворе, уверена, что Джоконде окажут наилучший прием из всех возможных, и вовсе не следует ей злоупотреблять гостеприимством сеньора Асседо, который и так слишком много для них сделал.
Но сеньор Асседо закусил удила, и заявил, что, как и любому другому человеку, пребывающему на земельных наделах сюзерена, ей следует подчиниться воле того, кто несет ответственность за ее жизнь и честь.
– Благодарю вас, сир, – в третий раз вежливо повторила упрямица, – но я не желаю быть обузой, сама способна защитить честь свою и жизнь, и не нуждаюсь в покровителях.
– С меня довольно пререканий, – возмутился дюк, схватил нахалку в охапку, и понес в повозку.
Незнакомка кричала и метко била его руками по лицу, что удивило владыку Асседо несказанно, но вызвало в нем не оскорбление, а жгучее любопытство, ведь никакая еще женщина не оказывала ему сопротивление, разве что прекрасная Гильдеборга… Дюк содрогнулся от внезапного воспоминания, которое, как ему казалось, было навсегда стерто из его памяти.
– Вы хам, сударь, хоть и дюк, – в конце концов заявила незнакомка, поняв, что силой ей владыку Асседо не взять.
Услышав такое, Нибелунга чуть не свалилась с Василисы.
Вот так и оказалась эта женщина в повозке рядом с Фриденсрайхом.
Оказавшись в повозке, она бросила взгляд на полуобморочную Джоконду, коснулась ее лба, еле заметно покачала головой, оправила помятую и безнадежно испачканную юбку бежевого блио, подтянула пояс, и отвернулась к окну.
Повозка покатилась по брусчатке, стуча колесами, но никто из пассажиров не издал ни звука, лишь только незнакомка тихо сказала: «Мир вам, благородные господа», Йерве склонил голову в вежливом поклоне, а Фриденсрайх слегка кивнул, тряхнув локонами.
Первой нарушила молчание мадам де Шатоди.
– Ах! Же сюи малад! Я умираю! Где моя Розита?
– Я здесь, – отозвалась незнакомка, но от окна не отвернулась, и совсем тихо пробормотала. – Ке тарде те акордасте де ми. Отдыхай, Джоконда.
– Ты здесь?! Как добр дюк! Он и тебя милостиво пригласил в Нойе-Асседо?
– Пригласил, как же иначе. Дюк справедлив, порядочен, и ни одну беззащитную женщину не покинет в беде, нес па?
– Па, – согласилась мадам де Шатоди. – Ты бесконечно права. Помоги мне сесть – кажется, мне уже лучше.
Но та, которую назвали Розитой, не шелохнулась, а вместо нее принять сидячее положение несчастной Джоконде помог Йерве.
Фриденсрайх, который все это время продолжал в раздумьях наматывать на руку пояс Нибелунги, сказал:
– Какое счастье, что вы пришли, наконец, в себя. Мадам де Шатоди, не так ли?
– Именно так, – попыталась улыбнуться Джоконда, и протянула дрожащую руку для поцелуя.
Фриденсрайх припал устами к кисти, и задержал их чуть дольше положенного.
– Кто вы, сударь? – прерывающимся голосом спросила мадам де Шатоди.
– Я буду весьма удивлен, если вам это не известно.
– Но я впервые вижу вас! – захлопала огромными, слегка раскосыми глазами Джоконда, и выгодно приоткрыла изящно очерченный рот.
– Мы с вами провели в этой проклятой повозке три часа кряду, а милой Нибелунге так нравится мое имя, что она готова выкрикивать его при каждом удобном случае.
– Но она ни разу не произнесла вашего имени… то есть я… я была без чувств! – с плохо скрываемым возмущением промолвила мадам де Шатоди.
– Даже если так, мадам, только глухой не расслышал вести, которая сегодня летала по всей Ольвии, как голодная чайка.
– Но я горела! – воскликнула Джоконда.
– Но вы же не с самого утра загорелись, мадам, а только за час до того, как мы въехали в Ольвию. А в Ольвию мы въехали ровно в полдень. Часы на колокольне как-раз пробили двенадцать ударов.
– В чем вы изволите подозревать меня, сударь? – глаза Джоконды стали еще больше, и в них блеснула зеленая искра.
– Лишь в излишней учтивости и скромности, мадам. Но вы зря пытаетесь скрыть от меня то, что мне и так уже известно: мое помилование давно стало достоянием общественности.
– Я не понимаю, о чем вы…
– Перед вами маркграф Фриденсрайх ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер, – вмешался Йерве, все еще беспокоящийся за здоровье и рассудок пострадавшей, – старый друг и соратник дюка Кейзегала, мой кровный отец.
– Мон дье! – вскричала Джоконда, покачнувшись, и упав на грудь Йерве. – Нет! Не может быть!
– Отчего же? – спросил Фриденсрайх.
– Вы… вы так… – мадам де Шатоди запнулась в несвойственном ей замешательстве.
– Молод? Красив? Безупречен? Светел ликом и разумом? – попытался помочь ей Фриденсрайх. – Да, вполне. Вероятно, вы ожидали обнаружить в повозке дряхлую развалину, и так и не поняли, кто я таков, и куда подевал дюк своего старого друга и соратника, о котором с утра трезвонили все колокола. Да, да, пожалуй, так оно и было. Простите, что поспешил присвоить вам лживые намерения – вы просто неправильно оценили ситуацию. В самом деле, Нибелунга слишком часто кукарекала, и по имени не назвала ни разу.
Глаза мадам де Шатоди загорелись недобрым светом, что, разумеется, скрылось от Йерве.
– Сударь, побойтесь бога! Эта благородная дама пережила огромное потрясение, и потеряла все, что имела, а вы смеете полагать, что ей не о чем больше думать, кроме как о вашей персоне.
– Эх, юноша, – вздохнул Фриденсрайх, – когда б ты знал, о чем думают женщины, ты бы предпочел не быть мужчиной.
Йерве не совсем понял, что именно имел ввиду маркграф, но цепочку его умозаключений прервал тихий женский голос, прозвучавший рядом с Фриденсрайхом:
– Вы слишком опрометчивы в своих выводах, господин маркграф, или знавали слишком мало женщин.
– Я никогда не настаиваю на своих выводах, и всегда готов подвергнуть их сомнению, – со всей допустимой серьезностью сказал Фриденсрайх, и впервые повернулся лицом к незнакомке. – Я знавал слишком мало женщин, так смилуйтесь надо мной, и не заставляйте угадывать и ваше имя по звездам. Впрочем, я уже знаю, что вы – Розита.
– Зита, – поправила его незнакомка.
– Зита… – повторил Фриденсрайх, и в его устах незатейливое имя прозвучало, как плач свирели, как тоска по дому, как опустошенное селение.
Зита невольно вздрогнула, что не укрылось от маркграфа.
– У вас был отец? У вашего отца было имя?
– Зита Батадам, – сказала незнакомка, как отрезала.
– Барабанная дробь, а не имя, – с некоторым презрением молвила Джоконда. – «Розита» намного благозвучнее. Помни, что я всегда тебе это говорила.
– А я говорила тебе… – Зита осеклась.
– Что вы хотели сказать, Зита? – с неподдельным интересом спросил Фриденсрайх, а Зита снова содрогнулась.
Застонал двухструнный ребаб. Загорелись свечи. Разломился хлеб. Посыпалась соль.
– Ничего.
– Фриденсрайх фон Таузендвассер к вашим услугам, – сказал Фрид, и склонил голову в учтивом поклоне.
– Мир вам, господин хороший, – сказала Зита, и спрятала глаза.
Глава XII. Град Oбетованный
– Меня зовут Йерве, – представился и Йерве, и тоже поклонился. – Йерве из Асседо.
– Почему вы не помогали другим мужчинам тушить пожар, мсье фон Таузендвассер, – спросила Джоконда, бросив беглый взгляд на Зиту, – а отсиживались в повозке вместе с Нибелунгой?
– Я труслив и боюсь огня, – ответил Фриденсрайх. – Но неужели в Париже вы не обучились такту? Впрочем, вы правы: к чему нам этикет в этой забытой богом провинции? Забудем о нем. Откуда вы родом? Кто ваши родители?
– Я сирота, – с достоинством ответила Джоконда. – Я родилась в герцогстве Миланском, и в юном возрасте вышла замуж за пикардийского дворянина, который был проездом у делла Торре.
– У самих делла Торре, властителей Милано! Вообрази, Йерве из Асседо, какой чести мы удостоились, разговаривая с Джокондой из Милано!
– Великая честь, – с неподдельным восхищением согласился Йерве.
– Да, да, именно так. Я была представлена им кузиной моей бабушки, служившей фрейлиной у младшей дочери…
– Значит, ваш супруг?.. – снова вмешался в рассказ Фриденсрайх.
– Шевалье де Шатоди влюбился в меня без памяти, но ему не составило труда заручиться моею благосклонностью, поскольку не было при дворе кавалера благороднее и отважнее. Мы обвенчались, получив благословение архиепископа Висконти, и шевалье увез меня в Париж, где поступил на службу к королю.
– К какому королю?
– Это допрос? – возмутилась Джоконда. – Вы плохой слушатель, мсье фон Таузендвассер, и все время меня перебиваете.
– Миль пардон, мадам. Продолжайте.
– Франкские монархи сменяют друг друга быстрее, чем времена года. Сперва шевалье служил у Шарля, затем у Франсуа, а потом у очередного Шарля. Следующий король решил присоединиться к крестовому походу, и мой супруг был вынужден отправиться на Восток вместе со своим сувереном. Спустя год мне сообщили о трагической гибели шевалье де Шатоди в Севилье. Или в Кордобе. Я не могу с точностью сказать, но он принял смерть от рук неверных в Андалусии во славу Спасителя и христианнейшего из королей.
– Соболезную вам, сударыня, – с чувством сказал Йерве, несмотря на то, что выслушивал эту историю раз в пятый, если не в шестой.
– Какой печальный рассказ, – вздохнул маркграф. – Особенно в виду того, что крестовых походов не случалось с тех пор, как король норманнов Гроег V отвоевал Обетованный Град у константинопольцев. Впрочем, что я говорю, я шестнадцать лет не получал новостей. За это время многое изменилось, не так ли, Йерве?
Йерве тактично промолчал.
– Как же вы, молодая знатная вдова, оказались в нашей глуши?
– Я решила похоронить все воспоминания и уехать как можно дальше. Я не могла оставаться в городе, чей каждый камень напоминал о моей утраченной любви.
– И из всех мест на земном диске вы выбрали не Рим, не Лондон, не Константинополь, не Прагу, не Московию даже, а Асседо.
– Сударь, – вскинулся Йерве, – да разве существует на земном диске место лучше Асседо, красивее Асседо, плодороднее Асседо, свободнее и гостеприимнее? Тут каждый путник, странник, пилигрим и отшельник, повеса и монах, разорившийся дворянин, опальный вельможа, авантюрист, корсар, падшая женщина и беглый каторжник найдут кров, приют и место у очага. Здесь не делают различий между франками, готами и гишпанцами. Тут рады всем, кроме цыган. Да и в жилах любого из нас бурлит кровь всех гордых народов, когда-либо населявших диск земной. Эти земли рады всем, солнце улыбается блаженным и прокаженным, и дюк Кейзегал всегда говорит, что в ответе за каждого, кто ступил ногой на его феод. И не только говорит, но и поступает соответственно. Да разве существует на свете место желаннее Асседо?
– Существует, – вдруг подала голос Зита. – Тот самый Обетованный Град.
– Молчи, тебе ничего неизвестно об Обетованном Граде, Розита, – с негодованием отрезала Джоконда.
Продолжая наматывать пояс Нибелунги на левую руку, Фриденсрайх сказал:
– Прошу вас, поведайте мне об Oбетованном Граде, госпожа Зита.
Зазвенело серебро. Задрожали струны. Вино из переполненного кубка пролилось на белую скатерть. Мир вам, ангелы служения, Царя Царей. Зита закрыла глаза.
– Белы стены его и башни. Белесо небо над ним, а солнце – как алмазная звезда. Сверкают плиты вымощенных улиц, будто мрамор королевского дворца. Взгляни – и ослепнешь. Благословен каждый камень в стенах. Геенна огненная лижет его основания, а вокруг ходят львы, тигры и носороги. Орлы свили гнезда на вершинах цитаделей. Горы и пустыня обступают со всех сторон. Ущелья и отвесные скалы преграждают путь. Под яростным ветром колышутся сосны, ели и кедры. Семь ворот запечатаны семью засовами. У каждых – семь стражников в золотых латах ощерились семью копьями из булатной стали. Но распахнутся Врата Милосердия, если чист ты сердцем и светел помыслами. Ударит по струнам царь Давид, и запоет Кифара. Красная корова укажет тебе путь к Храму – живое сердце мира бьется в его недрах. Внутри стен ничто не нарушит вечный покой. Приникнешь губами и лбом к мраморным плитам, сольешься с камнями, и чем ближе к земле ты, тем ближе к небесам. Всевышний распахнул плащаницу над стенами города, и под Его защитой рай уготован каждому. Если я забуду тебя, Обетованный Град, пусть отсохнет десница моя.
Вздохнуло море. Окатило горячим приливом. Разбилось о прибрежные камни. Йерве замер.
Беззвучие повисло в повозке. Только колеса стучали, и подковы лошадей взметали пыль летних степей Асседо.
Джоконда поджала губы и нервически сцепила руки у груди.
Фриденсрайх неотрывно взирал на Зиту, и, казалось, его нездешние глаза готовы уволочь и ее в нездесь.
– Я ведь и сам не раз представлял его, – нарушил он тишину. – Белы стены, белы плиты, и за каждым поворотом этих улиц обреченных ангел с медною трубою провожает в путь последний к сердцу золотого Храма. Там гранат растет на ветке. Там тяжелые лимоны в руки падают с деревьев. Там оливки больше яблок, мирты выше кипарисов. Молоко течет и брага из источников подземных, а хрустальные фонтаны брызжут искрами алмазов. Ты войдешь в его ворота, если чист душой и сердцем. Примет он тебя в объятья, укачает в колыбели, наградит тебя покоем. Пусть покоем, если больше ничего не ожидаешь. Пусть язык прилипнет к нёбу, если я тебя забуду. Ты мой град обетованный. Ты последняя обитель.
Фриденсрайх отвернулся к окну, и его нездешние глаза заволокло непрошеной пеленой. Вечерело. Подсолнухи склонили головы в отчаянии, утрачивая последние лучи солнца.
Зита посмотрела на своего случайного спутника и сморгнула слезу, набежавшую на темные глаза, на веки, тронутые слишком ранними морщинками, на черные ресницы – наследие царицы Савской и Есфири.
– Кто вы? – спросила она завороженно.
«Тот, который тебя погубил», – подумал Фриденсрайх.
Глава XIII. Суббота
– Вы очень похожи на своего отца, Йерве из Асседо, – тихо сказала Зита, – как две волны одного моря, или два камня в кладке одного храма.
Сумерки приглушили яркие краски Асседо. Посерело небо. Солнечная тарелка спряталась за медные крышки горных вершин на краю запада. Затрещали цикады. Призрачная дымка легла на равнину. Сумерки в Асседо длились долго.
– Дорога никогда не закончится, – проговорил Фриденсрайх одними губами, но Йерве услышал.
И не только потому, что его слух обострялся с каждой преодоленной лигой, но и потому, что то были его собственные мысли.
– Но где же мсье дюк? – спросила Джоконда, нарушив неловкое молчание. – Почему он не удостаивает нас своим присутствием?
– Он рвется вперед, – ответил Фриденсрайх. – Конь его горяч. Неспешные разговоры никогда не были по душе Кейзегалу. Вероятно, они с Нибелунгой опережают нас на две лиги. А может быть, и на три.
– Не желаете ли перекусить, господа? – спросил Йерве. – Баронесса снабдила нас целым коробом съестного.
Не дождавшись ответа, он нашарил под ногами плетеную коробку, достал головку сыра, ветчину, яблоки, большой ломоть хлеба, горшочки с маслом и с медом, нож.
Джоконда набросилась на еду с аппетитом медведицы, сегодня пробудившейся от зимней спячки, но к мясу не притронулась.
Зита отломала кусочек хлеба и принялась вертеть его в руках.
Йерве нашел в коробе глиняную бутылку, откупорил, поднес к носу и протянул маркграфу.
– Киршвассер, сударь.
Маркграф покачал головой.
– Быть может, вина?
Йерве извлек вторую бутылку – молодого бессарабского.
– Я не пью, – отказался Фриденсрайх.
– Никогда? – изумилась Джоконда, хрустя яблоком.
– Ни разу за шестнадцать лет я не притронулся к спиртному.
– Но пуркуа?
– Шестнадцать лет назад пять бутылок киршвассера и две – полугара едва не стоили мне жизни.
– Я думала, любовь чуть не стоила вам жизни, – вырвалось у Джоконды.
– Я думал, что вам ничего обо мне не известно, – улыбнулся Фриденсрайх.
– Полноте, мсье, эта история известна каждому, кто хоть раз посещал Асседо и окрестности, и даже на острове Грюневальдe, что на Черном море, она столь же распространена, как и баллада о вороне, трех голубках и птицелове. Ее рассказывают юным непослушным любовникам для устрашения.
– А я полагал, что Кейзегал запретил говорить обо мне вслух.
– Никто никогда не упоминал вашего имени, – объяснила Джоконда. – Должно быть, только старшее поколение помнило, о ком идет речь.
– Вы превратились в легенду, господин, – промолвила Зита.
– Мне ее никогда не рассказывали, – пробормотал Йерве.
– Лучше бы это «никогда» длилось вечно, – сказал Фриденсрайх.
Зита внимательно на него посмотрела, и несмотря на то, что упрек так и не был произнесен вслух, он молчаливо повис в воздухе.
– Какие же узы связывают вас, сударыни? – спросил Фриденсрайх.
– Слишком прочные, чтобы… – собралась ответить Зита, но мадам де Шатоди поспешно ее перебила.
– Когда я еще жила в Париже, Розита служила гувернанткой в соседнем особняке. Воспитывала детей четы маркизов. Не так ли, ма шери?
Зита еле заметно кивнула.
– Мы познакомились на аллеях Веннсенского леса, куда Розита водила детей, чтобы подышали свежим воздухом. Я гуляла там, когда жила одна, ожидая возвращения супруга из крестового похода. Эта образованная девушка сразу мне понравилась, – Джоконда ласково улыбнулась. – Между нами было много общего. Не правда ли, дорогая?
– Любовь к природе и к детям, – сказала Зита.
– Мы обе в раннем возрасте лишились родителей. Обе были чужими и одинокими в большом городе. Розита родом из Сарагосы.
Фриденсрайх вздрогнул. Зита снова кивнула, скатывая в шарик хлебный мякиш.
– Мы быстро подружились, – продолжила Джоконда, – несмотря на сословную разницу. Она стала частой гостьей в моем пустующем особняке, и ее веселый смех скрашивал мое одиночество.
Последняя фраза показалась Йерве странной, ему трудно было представить, что эта женщина способна на веселый смех.
– Мы знакомы вот уже больше года, мадам де Шатоди. Почему вы никогда прежде не представляли нам госпожу Зиту? – удивился Йерве.
– Я полагала, что дюк и его окружение не будут в восторге от общества простой гувернантки, – без тени смущения ответила Джоконда.
– Вы отправились в Асседо вместе, сударыни? – спросил Фриденсрайх.
– Я взяла Розиту с собой, поскольку она лишилась места.
– Отчего вы лишились места, мадам Батадам? – спросил Фриденсрайх, остерегаясь вновь назвать Зиту по имени.
Но вместо нее ответила мадам де Шатоди.
– Ее гнусно оклеветали. Розита рассказала маркизе, о которой думала, что они близки, о том, что ее хозяин, маркиз, недостойно с ней обращается и пытается залезть под юбки при каждом удобном случае. «Кто же так поступает, Розита? – говорила я ей. – Муж и жена – одна сатана». Но благородная девушка пыталась убедить меня в том, что не о своей чести она печется, а о чести своей госпожи. Благородные господа имеют право обладать всем, что обретается под их крышей, включая воспитательниц своих детей, говорила я подруге. Для всех будет лучше, если ты будешь молча принимать его ухаживания. Так что молчи и терпи. Терпи и молчи!
На лице Джоконды вдруг проступила ярость, и взгляд ее опять воспламенился недоброй искрой. Фриденсрайх протянул ей бутылку, и, отхлебнув большой глоток киршвассера, она продолжила:
– Как и следовало ожидать, мадам маркиза не оценила откровения своей гувернантки, а вместо этого обвинила ее в разврате и в коварной попытке соблазнить своего супруга. Маркиза собралась передать Розиту в руки инквизиции. Но тут вмешалась я!
Джоконда сделала драматическую паузу, чтобы позволить слушателям выразить свое восхищение в полной мере.
– Как же вы поступили, мадам? – спросил Йерве.
– За приличную сумму мне удалось убедить маркизу отпустить гувернантку на свободу.
– Надо же, какое благородство, – присвистнул Фриденсрайх. – И теперь мадам Батадам – ваша должница.
– Что вы, мсье! – возмутилась Джоконда. – Я поступила так по доброй воле, и никогда не требовала возвращения долга. Розита свободный человек. Не так ли, милая?
Бывшая гувернантка опустила глаза.
– Совестливые люди становятся должниками не из-за крупной суммы, а из-за готовности ее внести, – заметил маркграф.
Совестливая женщина сжала хлеб с такой силой, что пальцы ее побелели.
– Вы ничего не едите, Зита, – сказал Фриденсрайх, не сдержавшись.
Три звезды зажглись над горизонтом. Ветви яблони застучали в стекла. Струя воды окропила ладони. «Выйди, мой возлюбленный, встретить невесту».
– Суббота скоро зайдет, – прошептала Зита, взглянув на темнеющее небо, и сама себе подивилась. – Мне не следует есть, пока я не встречу ее как положено.
Джоконда бросила на подругу испепеляющий взгляд и сплюнула три раза через левое плечо.
– Дьявольский обряд! Тэ-туа! Замолчи! Что ты несешь? Она не в себе. Не слушайте ее, господа. Должно быть, мой рассказ омрачил ее ум. Лучше бы я ничего не говорила.
– Простите меня, – испугалась саму себя Зита. – Я не знаю, что со мной. Я…
– В Асседо инквизиторы бывают крайне редко, да и те долго не задерживаются, – поспешил заверить ее Йерве. – Владения дюка Кейзегала, божьей милостью, очень далеки от столицы империи. У нас свои законы. Пусть и не всегда гласные. Иудеи обладают видом на жительство в чертах Асседо… в некоторых селениях… в окрестностях…
Тут Йерве замолчал, поскольку к глубокому своему разочарованию пришлось ему признать, что в этих материях был он недостаточно сведущ. Древние эллины занимали его воображение намного больше неугодных никому иудеев.
– Как положено встречать субботу, Зита? – спросил Фриденсрайх.
Скрипнуло окно под натиском яблоневых ветвей. Горячее дыхание реки Эбро зашевелило волосы. Златотканый гобелен со старинной вязью заколыхался на восточной стене.
– Сперва следует зажечь свечи, это я точно помню, – промолвила Зита нерешительно.
– Снабдила ли нас баронесса свечами?
Йерве покопался в коробе, извлек две свечи и огниво.
– Одной достаточно, – сказала Зита. – Незамужней женщине следует разжечь одну.
И снова себе подивилась.
Фриденсрайх взял свечу из рук Йерве.
– Зажигайте, сударыня, я подержу.
Зита опасливо на него покосилась.
– Вы христианин, господин фон Таузендвассер.
Брови, как крылья черной чайки, свелись над безупречно выточенным носом потомка берберов, визиготов, остготов, одного викинга и всей Золотой Орды.
– Это всего лишь свеча, – сказал Фриденсрайх. – Источник света необходим каждому путнику. Вечереет. Зажигайте свет.
И будто в подтверждение словам, в потемках, просветлевшие глаза маркграфа, как две луны, озарили повозку, затерявшуюся в нигде.
Повозка дернулась, покосилась, запнулась на ухабе, бросила Зиту на Фриденсрайха. Плечи соприкоснулись, локти и тот промежуток между ребрами, у которого нет названия ни в одном человеческом языке, но всем известно, что от него произошло.
Дыхание Зиты прервалось. Ее собственные глаза потемнели. Зрачки расширились. Щелкнула кремнем о кресало. Зашипел фитиль. Затрепетало пламя.
Зита закрыла лицо руками и зашептала на нездешнем языке слова старинного обряда:
– Благословен Ты, Царь Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу Священной Субботы. Подари мир этим господам, благополучие и всяческое процветание.
Джоконда перекрестилась.
– Что же дальше? – спросил Фриденсрайх, устанавливая свечу в горлышко откупоренной бутылки.
– Дальше… я плохо помню…
– Существуют вещи, которые забыть невозможно. Вспоминайте, Зита.
Встали мужчины и женщины в белых одеждах, чтобы приветствовать Царицу Субботу, – головы покрыты. Кубок вина наполнился мадерой, а дом – сакральной тишиной. Лишь только старый сад шелестел ветвями. Лишь только фонтан журчал в патио. Лишь только пламя десятков свечей потрескивало на каменном подоконнике. Лишь только ангелы стучали в двери. Лишь только сердца детей отбивали ритм еще непрожитых жизней, и всех жизней, прожитых до них.
Слова старинной молитвы полились из уст старика. Справа налево, справа налево – слова. Передавалась чаша из рук в руки по кругу поколений, который не разбить, который не прервать. Испили все из чаши благодатной. Разломал старик хлеб. Поцеловал в лоб всех по старшинству. Благословил. Застыло дыхание мира, и величественной поступью, в одеянии из света и золота, Суббота вошла в Сарагосу.
– Придержи коней, Оскар!
Фриденсрайх застучал в стенку повозки. Колеса заскрипели. Лошади заржали. Колымага встала посреди ночной степи.
– Что вы делаете, мсье? – воскликнула Джоконда.
– Встаю, – сказал Фриденсрайх. – Сколько может человек просидеть на одном месте? Выходите и вы тоже.
– Какая глупость! – не унималась мадам де Шатоди. – К чему вся эта чертовщина? Выходите, если вам так угодно, а я остаюсь здесь. Снаружи холодно и опасно.
– Сударыня, вы в самом деле слишком много времени потратили в нашей Богом забытой провинции, что заставило вас позабыть все правила этикета. Позвольте вам напомнить, что кавалеры пропускают дам вперед.
– Какая глупость! – возмутилась Джоконда. – Я прекрасно помню правила приличия. Это вы, мсье, должно быть, слишком долго были лишены женского общества. Все зависит от того, откуда выходит дама. Транспортное средство первым покидает кавалер, чтобы подать даме руку.
– Выйди, Йерве из Асседо, и подай дамам руку, – потребовал Фриденсрайх.
Йерве не стал спорить, послушался.
Джоконда недовольно фыркнула, подобрала испачканные юбки и вылезла из повозки в ночь.
Зита не отважилась взглянуть на Фриденсрайха. Когда загораются субботние свечи, женщины отводят глаза.
Зита вышла в степь. Горячий ветер ласкал лицо. На запятках повозки, привалившись друг к другу, дремали два лакея и одна кухарка. Полная луна серебрила пыльную дорогу, истребив из Асседо все краски, кроме монохромных.
– Помоги мне, юноша, – попросил Фриденсрайх беззвучно, но Йерве услышал, ибо слух его обострялся с каждой пройденной лигой.
Йерве обхватил своего отца поперек талии и подставил плечо.
«Проклятие, – подумал Фриденсрайх в который раз, – лучше бы я умер».
И Йерве услышал. Так, словно слышал не в первый раз, а в стотысячный, за все утраченные годы.
Сердце его облилось кровью. Он готов был простить Фриденсрайху все: даже шестнадцать безымянных лет, даже пятна, в которые превратились лица, даже гибель маленького Александра. Суббота играет в странные игры с сердцами людскими: смягчает обиды, истребляет злые помыслы, восстанавливает мир и равновесие.
Впрочем, брошенные дети всегда заведомо готовы все простить своим отцам, даже в пятницу. И уж конечно, в воскресенье. Ведь в ином случае, они могут снова их лишиться.
Совершенно непереносимо потерять того, кого у тебя никогда не было. Намного хуже, чем потерять того, кто всегда был твоим.
– Благодарю тебя, Йерве из Асседо, – пробормотал Фриденсрайх, привалившись спиной к стенке повозки и переведя дух. – Тащи сюда бутылку вина и стакан.
Йерве снова полез в повозку, и достал из короба глиняный стакан и бутылку бессарабского молодого.
– Лей до краев, – приказал отец.
И Йерве налил.
– Поставьте стакан на правую ладонь, сударь, – прошептала Зита, а может быть, то был южный ветер, морской прибой, лунные струны, сама память.
– Что следует произносить? – спросил Фриденсрайх.
– Я плохо помню… – унес ветер голос.
– Есть вещи, которые забыть невозможно. Вспоминайте скорее, Зита.
– И были завершены земля, небо и все их воинство.
– И были завершены земля, небо и все их воинство, – повторил Фриденсрайх.
– И закончил Бог на седьмой день Свой труд, которым занимался.
– И закончил Бог на седьмой день Свой труд, которым занимался, – подхватил Фрид.
– И в седьмой день отдыхал от всего Своего труда, которым занимался.
– И в седьмой день отдыхал от всего Своего труда, которым занимался.
– И благословил Бог седьмой день, и освятил его. Ибо в этот день Он отдыхал от всего Своего труда, который был создан Им для деяний.
– И благословил Бог седьмой день, и освятил его. Ибо…
Колени подкосились. Рука Фрида задрожала.
Бросилась Зита к стакану, подхватила и поднесла к его губам.
– Пейте, сударь.
– Я не пью, – отвернулся от нее Фриденсрайх. – Вот уже шестнадцать лет. Я не смею. Мне нельзя.
– Благословен этот плод виноградной лозы, – сказала Зита и приложила стакан к устам Фрида. – Вы сами благословили его.
– Я погиб, – прошептал Фрид и пригубил вина.
– Теперь пейте вы, Йерве из Асседо.
Пальцы Зиты коснулись пальцев Йерве. Жаркое дыхание над священной чашей опалило лицо. Глотнул вина. Закружилась голова.
Зита отошла к Джоконде, которая стояла поодаль, глядя на черно-белую степь. Передала ей стакан.
– Я не стану пить эту мерзость, – мадам де Шатоди скрестила руки на груди, всем своим видом воплощая отвращение.
– Пей, Джоконда, пей!
Мадам де Шатоди отвернулась и пошла прочь, рассекая юбками высокую траву. Зита пошла за ней.
– Как она выглядит? – шепотом спросил Йерве у отца своего. – Опишите мне ее!
Фриденсрайх сполз по стенке повозки на землю, сгреб пальцами придорожную пыль.
– Солнце опалило ее. Темна она, но красива. Глаза – два камня в Каабе, аль-Хаджар аль-асвад. Густы ресницы ее, как трава в Асседо летом. Волосы, как ночная пена морская. Ноги – столпы храма. Руки – лоза виноградная. Губы – вишневая настойка, горькая, терпкая. Стройна она и гибка станом, а бедра ее широки. Груди – плоды гранатовые. Шея – что у твоего жирафа. Под левым ухом – родимое пятно, формой похожее на семя тыквы. Старая кровь бьется в синих жилах, проступающих под смуглой кожей, такая древняя, что нам и не снилось. Там начало всех начал. И конец всех концов. Она переживет всех нас.
Йерве озадаченно смотрел на отца своего, так, словно мог его видеть.
Посмотрел Фрид-Красавец на сына своего. Так, словно, мог вернуть шестнадцать утраченных лет, молодость свою и здоровье.
Отряхнул Фриденсрайх руки от пыли. Начертал на земле имя.
И Йерве прозрел. Увидел. Понял. Прочел.
– Зита Батадам! – вскричал Йерве, захлопав глазами. – Господи, какое счастье! Какое чудо! Я узнаю буквы! Я могу читать! Я могу читать!
Коснулся Фриденсрайх рукой глаз Йерве. Пыль запорошила ресницы и брови. И стал Йерве старше лет на шестнадцать. Улыбнулся Фрид печально.
– Когда она волнуется, над ее переносицей проступает морщина в форме буквы «Т». Опрокинь букву «С» на живот, и ты увидишь ее брови. Губы – буква «В», закругленная, но прочная у основания. Глаза – буква «Е», острые и колючие. А сама она – буква «S», неуловимая и скользящая. Представь, Йерве из Асседо, закономерность буквы «М», и ты поймешь, как прочно стоит она на земле, и в чем ее податливый изъян – надави, и прогнется. Нельзя давить на эту букву, ибо в ней все стоны. А неприступную букву «К» положи на спину, и она откроется тебе. Ведь это только видимость острых копий. А в букве «О» вся плодородность ее живота. Если бы ты увидел ее, юноша, сердце твое пропустило бы два удара, а затем пустилось бы вскачь, обгоняя мысли. Она увлекла бы тебя, и ты побежал бы за ней. Как жаль, что я не могу бежать. Как жаль, что ты не видишь ее.
– Я обоняю благовоние мастей ее, – сказал Йерве, – аромат разлитого миро, оливкового масла, гарь спаленного дома, расплавленный воск. Я слышу голос ее. Мольбу ребаба, стенания уда, звездный перезвон. Она много страдала, и многое пережила.
Две пары нездешних глаз встретились, начертав твердый знак. Букву «йуд», с которой началось сотворение мира и которая была как входом, так и выходом.
– Не верь женщинам, – вдруг сказал Фриденсрайх, и струна оборвалась. – Мадам де Шатоди лжет. От первого слова до последнего. Я устал. Помоги мне встать.
– Вы так и не отказались от красивых жестов, сударь, – сказал Йерве.
– Зита, – беззвучно произнес Фриденсрайх.
Стоящая от него на расстоянии в тридцать шагов, Зита обернулась.
Хрустнул и раскололся гранат. Струйка дыма поплыла в воздухе. Запах сожженных трав защекотал ноздри. Вспыхнул факел.
После субботы неизбежно наступает первый день недели.
Глава XIV. Под дубом
– Трогай! – приказал Фриденсрайх севшим голосом, и повозка опять потащилась на юг.
Четверо людей в ней притихли, и каждый был погружен в свои мысли, одновременно ощущая единство полотна, сотканного из общих недовиденных грез.
В полусне, на границе между былью и небылью, мечтала Джоконда о несбыточном. Думал Йерве о не подлежащем осмыслению. Вспоминала Зита о незабываемом, хоть и не желала вспоминать. Не глядела на Фриденсрайха – испугалась силы его и слабости, не понимала, которой из них в нем было больше. Чувствовал Фриденсрайх, что и лиги не пройдет, как он начнет чувствовать. А это было недопустимым. Маркграф достал из внутреннего кармана камзола маленький хрустальный пузырек с зеленой жидкостью. Цокнула пробка – капля упала на язык.
– Что это? – спросил Йерве, скорее услышав, чем увидев.
– Эликсир забвения, – ответил маркграф. – Только толку от него, что от Рока – милости.
И закрыл глаза.
Нездесь и нетам, столь же далекие от дома, как Град Обетованный от Асседо, пролегли по бесконечной степной дороге. Алмазная крошка рассыпалась по небосклону. Соленый ветер вздыбливал гривы лошадей.
Фыркнули лошади, забили копытами, взметая в чернь серебряную пыль. У раскидистого дуба на обочине дороги дюк Кейзегал перехватил у Оскара поводья. Повозка снова остановилась.
– Черт вас всех забери! Сколько требуется часов, чтобы преодолеть семь несчастных лиг?
Сейчас Фриденсрайх обрадовался дюку едва ли меньше, чем в то мгновение, когда друг и соратник разбивал цепи на воротах северного замка, Таузендвассера.
– Я хочу есть и спать! – обвиняющим тоном заявила растрепанная Нибелунга, готовая свалиться с не менее всклокоченной Василисы. – Мы ждем вас у этого дурацкого дуба вот уже битый час. Сколько, в самом деле, лиг от Ольвии до Нойе-Асседо?
– Тридцать, – уверенно ответила Джоконда, пробудившись от полудремы и оживившись.
– Семьдесят шесть, – сказал дюк.
– Все зависит от того, на какую карту вы, господа, смотрите, и кто ее составитель. Путешественник Молиг де Курбур утверждает, что Ольвию от Нойе-Асседо отделяют шестьдесят с лишним лиг, однако его современник Наббар Амуас божится в своем труде «Тысяча и одна южных дороги», что между Нойе-Асседо и Ольвией столько же лиг, сколько между Ксвечилией и Обашем. То есть, сорок три.
– Бредни какие, – бросил Фриденсрайх. – Всем известно, что в каждой дороге столько же лиг, сколько сил в лошадях. Еще одна лига – и они упадут замертво. Животным тоже нужна вода и пища. Нам необходим привал.
– Разобьем лагерь под дубом, – предложил дюк. – В двух шагах отсюда протекает ручей. Лошади напьются вдоволь.
– Ни в коем случае! – запротестовала мадам де Шатоди. – Я не цыганка, чтобы ночевать под открытым небом.
– Небо всегда открыто, – сказала Зита. – Каждая крыша – лишь иллюзия замкнутости в бескрайнем просторе, которого мы зря боимся. Но иначе не умеем. Потому что не умеем летать.
– Господа, господа, – сказал Фриденсрайх, вовсе не желая поддаваться соблазну ночлега в открытых просторах, – ручьи и дубы это прекрасно, но, полагаю, никто из нас не отказался бы от теплой ванны, или хотя бы бани. Если память не изменяет мне – а она никогда мне не изменяет – за следующим перекрестком, отмеченным большим ракушечником в форме кабаньей головы, начинаются владенья купца Шульца. Свернем налево, и через полчаса мы будем в чертогах розового мрамора с золотой лепниной, утопать в бархатных креслах на баобабовых ножках и поедать жемчужных устриц с напмашским, заморской пастой – сумухом, тапенадом, мочеными в бальзамическом уксусе арбузами и пить экстракт из бобов какао. Он еще жив, старый пройдоха? Отстроил свою неслыханную усадьбу?
– Жив, – ответил дюк, – и отстроил. Он назвал ее Арепо. Но я скорее убью его, чем переступлю через порог его дома. Я поклялся никогда не бывать у него.
– Но почему, Кейзегал?
– Да потому что этот фальшивомонетчик, контрабандист и неплательщик налогов улыбается мне в лицо, но смеет смеяться за глаза. Он не отдает корабельную подать вот уже тринадцатый год и не вносит в казну таможенную пошлину. Никто толком не знает, какие грязные делишки, сомнительные договоры и незаконные сделки заключает этот мерзавец за спиной правосудия. Взвод его адвокатов гораздо опаснее целой армии авадломцев, и никакой управы на этих крючкотворов нет.
– С каких пор страшат тебя адвокаты? – удивился Фриденсрайх.
– Ты слишком долго был отшельником, Фрид, чтобы разбираться в современном бюрократичеческом устрое, – резонно заметил дюк. – К тому же этот шельма Шульц пытался когда-то сосватать мне его старшую наследницу, редкостного уродства даму. Мне ничего не оставалось, кроме как прямо заявить, что она безобразна, как горгулья, чтобы от нее отделаться. С тех пор купец затаил на меня личную обиду, и говорят, что, прости Господи, поклялся свергнуть меня с пьедестала. Только последний болван может вообразить себе подобный заговор, но, мне доносят, что от этого неугодного Богу намерения Шульц до сих пор не отказался.
– Иоганн-Себастьян Шульц – рассадник контрабанды, коррупции и скрытого мятежа в Асседо, – поддержал отца Йерве. – А нет на свете мятежей опаснее скрытых.
– Неужели, – сказал Фриденсрайх, вскинув брови.
– Клянусь Богом, чует мое сердце – он разбогател на работорговле, – повысил голос дюк. – Tолько доказать сей факт мне никак не удается.
– Работорговля?! – с ужасом вопросила Зита, и невольнo бросила отчаянный взгляд на Фриденсрайха, который был замечен, но не понят.
– Басни из чердака! – воскликнула Джоконда с возмущением. – Какие только сплетни не пустят о человеке из зависти к золотым монетам. Я прекрасно знакома с герром Шульцем. Мы не раз охотились вместе в его лесах, на пикниках лежали на одеялах из пике, глядя на облака и попивая райский напиток из бобов какао. Этот почтенный старец милостиво одолжил мне денег, которых я лишилась, выкупив Зиту.
– Зиту? Кто такая Зита? – спросил дюк.
– Это я, – подала голос носительница имени. – Зита Батадам.
– Очень приятно. Дюк Кейзегал VIII из рода Уршеоло, сеньор Асседо и окрестностей, временно к вашим услугам. Простите мне, что я вас силой потащил в повозку. Но иногда с женщинами невозможно иначе обращаться.
– Мир вам, сударь, – Зита склонила голову в запоздалом поклоне, – хоть вы и хам.
Джоконда метнула на подругу яростный взгляд изумрудных глаз.
– Герр Шульц был добр ко мне и проявил бескорыстность. Он нашел продававшийся за бесценок домик в Ольвии, через знакомых своих знакомых, обанкротившихся на экспорте белуг. Дом, которого я тоже сегодня лишилась.
Глаза мадам де Шатоди увлажнились.
– Вот и езжайте к Шульцу и живите у него, мадам, пока он не купит вам новый дом, – отрезал дюк.
На смуглом лице Зиты опять проступил ужас.
– Кейзегал! – возмутился Фриденсрайх. – Что ты несешь? Эта наивная женщина находится под твоей эгидой. Ты не посмеешь отдать ее в лапы разбойника, которого она ошибочно принимает за благодетеля.
– Не посмею, – согласился дюк. – К превеликому сожалению.
– За что вы так грубы со мной, сир? – обиженно спросила Джоконда.
– Сам не знаю, – ответил дюк. – Вероятно, потому, что вы вот уже год, как посягаете на мою руку. Вы интересная женщина, и я с радостью лягу с вами в постель, удалюсь на сеновал, или возьму под этим дубом, но давайте говорить открыто и избегать бессмысленных манипуляций, которые осточертели мне больше мозолей на седалище.
Все замерли, покраснели, побледнели и опустили глаза. Некоторые даже вовсе не пошевелились. Джоконда не моргая уставилась на дюка. Йерве сплюнул три раза через левое плечо и схватился за голову.
Нибелунга решительно соскочила с Василисы и направилась к повозке, приглаживая растрепанные волосы.
– Я хочу к вам, – заявила она, распахивая дверцу. – Мне надоело скакать на лошади. Я хочу Фриденсрайха фон Таузендвассера.
– О, господи, боже мой! – вскричал дюк. – Уймись, бесстыжая девчонка!
– Что же это получается? Только вам, сир, можно брать людей под деревьями? Почему мне нельзя? Чем я хуже вас? Ваша светлость, идемте, в конце концов, под дуб.
– Все же скрытые мятежи порою предпочтительнее открытых, – заметил Фриденсрайх, покручивая локон.
– Ты теперь невеста Гильдегарда! – загремел дюк.
– Право первой ночи принадлежит сеньору, – с апломбом произнесла Нибелунга, и всем стало ясно, что пять часов скачки она потратила не зря, а на глубокие размышления. – Очевидно, что вы, сир, не станете пользоваться этим правом, так как оно давно вышло из моды в Асседо, к тому же вам не нравятся нимфетки, а зрелые, дородные и полнoгрудые женщины, это всем известно. Однако легитимно передать и подарить эту льготу любому другому знатному вельможе. Я точно помню, ведь мсье Жак, наш бывший гувернер и учитель франкского, риторики и математики, которого злая бабхен несправедливо прогнала взашей, рассказывал нам об этом на уроках естествознания, которые мне особенно импонировали. Скажи им, Йерве, я ведь права? Ведь права же?
– Ты права, Нибелунга, – с горечью вздохнул Йерве.
– Вот!
– Но Гильдегард… Подумай о своем будущем муже!
– Во-первых, он ничего не должен знать, – нашлась Нибелунга, – то, что происходит на дорогах Асседо, остается на дорогах Асседо. А во-вторых, я не думаю, что он станет перечить воле своего отца и сюзерена, а также древним законам. Ваша светлость, следуя мудрому примеру нашего сеньора и покровителя, я решила избегать дешевых манипуляций и говорить открыто. Простите, что я обманом залезла к вам в постель. Это было бессовестным поступком, недостойным настоящей женщины. Пусть все знают, как я желаю вас. Не откажите мне в чести права первой ночи под этим дубом.
Фриденсрайх фон Таузендвассер дернул краями губ, и даже самый невнимательный зритель заметил бы в этом подобии улыбки нескрываемое восхищение, а может быть даже и детский восторг.
Кровь отлила от темных губ Зиты, и вся прилила к вискам.
– Не обращайте на нее внимания, – сказал Йерве с оттенком неуверенности. – Нибелунга – трудный подросток, но с возрастом это пройдет, и она станет хорошей женой и почтенной матроной. Гильдегард ее усмирит, как усмирил дикую Василису, дочь степных мустангов.
– Благодарю тебя, о прямая и отважная Нибелунга, но я отказываюсь от милостиво предложенного тобою права первой ночи, – серьезно сказал Фриденсрайх. – Не сочти мой отказ за оскорбление, но не пристало взрослому человеку пользоваться подростковой глупостью и растлевать неразумных. Ты запуталась, милая девочка. Тебе кажется, что ты воспылала ко мне любовью, и никто не обвинит тебя за это, поскольку на роду мне написано пробуждать в женщинах низменные чувства. Но я все еще помню, что потакать этим чувствам равносильно смертному греху. Позор для дворянина – использовать власть, брошенную ему Господом рассеянным, в забывчивости. А ты, Нибелунга, сдается мне, ведома слепотой, замешательством и чужим грехом. Этот ваш мсье Жак… Клянусь дьяволом, баронесса поделом изгнала его из особняка. Что он сделал с тобой и с твоими сестрами?
Взметнулся ветер и затушил субботнюю свечу, догоравшую в горлышке бутылки с киршвассером.
Зита суеверно вздрогнула. Застучала кровь в висках, отдалась гулом в затылке, защемило тисками в груди. Слова, не предназначавшиеся ей, проникли и в ее собственное сердце. Зита почувствовала себя понятной.
– Ничего он мне не сделал, – пробормотала Нибелунга, отступая на шаг назад от повозки. – Ничего… честное слово, я ничего не сделала… я хорошо себя вела… Я была прилежной ученицей, лучшей из всех сестер. Это он… он сказал, что научит меня… но я сама согласилась! Я сама согласилась! Он не виноват! Мсье Жак ни в чем не виноват!
– Очевидно, – сказал Фриденсрайх, – что никто никогда ни в чем не виноват. Все происходит само по себе, по велению Рока.
– Я найду его и казню, – хрипло промолвил дюк. – Собственным мечом отсеку ему голову от плеч. Из-под земли достану этого мсье Жака. Ни один учитель в моих владениях не смеет прикоснуться к подопечному!
– Это черным по белому написано в своде законов «О логике и педагогике» просветителя Окнеракама! – воскликнул побледневший Йерве. – Это известно каждому безусому первокурснику педагогической семинарии в Малом Аджалыке!
– Вы чудовище! – внезапно вскричала Нибелунга, снова делая шаг по направлению к Фриденсрайху. – Вы дьявол! Кто дал вам право обвинять незнакомого человека?! Вы ничего не знаете о нем. И обо мне ничего не знаете! Лучше бы вы никогда не переступали порог нашего особняка, Фриденсрайх фон Таузендвассер!
– Я никогда его не переступал, – уточнил маркграф. – Вы сами внесли меня в свой дом.
– Будьте прокляты! Будьте прокляты на десять колен вперед! – задыхаясь, прошипела Нибелунга и плюнула в лицо маркграфу.
Йерве вздохнул.
Обмершая Джоконда кусала костяшки пальцев, словно не зная, что за роль следует ей выбрать, и быть ли ей зрителем этого спектакля или прямым участником.
Фриденсрайх утер плевок рукавом и посмотрел на Нибелунгу отрешенным взором.
– Да я уже, – сказал он. – Держи.
И бросил ей пояс.
Безотчетным движением схватила Нибелунга пояс, замахнулась и хлестнула Фриденсрайха по плечу.
Замахнулась еще раз, но Зита выскочила из повозки, задержала ее руку, увела за спину. Прижала Нибелунгу к груди с такой силой, что непонятно было, захват это или объятие.
– Ты ни в чем не виновата, девочка, – прошептала Зита в волосы Нибелунги. – Мсье Жак заслуживает смерти. Дюк справедлив, хоть и хам. Правда лучше лжи. Больно от нее, но боль лучше бесчувствия.
– Оставьте меня! – забилась Нибелунга в руках Зиты, но Зита держала крепко. – Кто вы такая, чтобы меня судить? Кто вы все такие?
– Такие же, как ты, – сказала Зита. – Глупые, наивные люди.
– Слепцы, – сказал Йерве.
– Жертвы хозяев жизни, – еле слышно произнесла Джоконда.
– Не всем суждено родиться хозяевами! – загремел дюк, чуткий к несправедливым упрекам. – Но в моих владениях каждый имеет право подниматься ввысь по ступеням Лестницы! Она открыта для всех! Ступайте по ней наверх! Хотя бы один день сдюжите продержаться на моем пьедестале, и с высоты полета чайки вы поймете, что между жертвами и хозяевами разницы никакой нет! Они сменяют друг друга, как волны. Все мы – кружащиеся листья на ветру. А устоим или нет – выбор каждого. Пристанище всегда найдется в Асседо для всех, кроме преступников и мерзавцев. Это говорит вам хозяин.
Слезы потекли из глаз Нибелунги. Прижалась к груди Зиты, спрятала лицо в ее плечо, и задрожала от рыданий.
– Все мы способны на красивые жесты, Кейзегал, – промолвил Фриденсрайх, тяжело откидываясь на спинку сидения. – С действиями дела обстоят похуже.
– Господа, – сказал Йерве, – этот человек нездоров. Неужели вы не видите? Почему вы все время об этом забываете?
– Легко забыть, юноша, – ответил Фриденсрайх за всех. – Они не виноваты. Они марионетки в руках Рока. А у меня настолько красивый лик, что завидев его, марионетки Рока превращаются в марионеток собственных страстей, и не способны перевести взгляд ниже лица. Не зря ты запер меня в Таузендвассере, Кейзегал. С такой внешностью я в двадцать пять лет стал бы хозяином Асседо, в тридцать – и окрестностей, а в тридцать пять даже остров Грюневальд, что на Черном море, перекочевал бы в мои владения. Вы прекрасно это понимали, сир. И никто не осудит вас за то, что вы вычеркнули из памяти Асседо Фрида-Красавца. Но теперь мне сорок лет. Я еле жив, и не угрожаю никому, кроме как излишне впечатлительным барышням. Пожалей меня, Кейзегал, я не могу больше трястись в этой повозке. Неужели я должен произносить это вслух? Ну да ладно, произнесу, раз уж в вас воспылала страсть к откровениям. Мне больно.
– Дьявольщина.
Сплюнул дюк. Спешился. Подошел к повозке. Склонился над Фриденсрайхом, внимательно его оглядывая с ног до головы.
– Почему ты все время молчишь, Фрид, вместо того, чтобы говорить дело?
– Я молчу? – удивился Фриденсрайх. – Странный ты человек, Кейзегал Безрассудный. Я за шестнадцать лет не проговорил столько слов, сколько высказал за эти три проклятых дня.
– Тысяча чертей! – стукнул дюк кулаком по оконному стеклу, и вышиб стекло. – Да ты в самом деле страдаешь!
– Бредни какие, – улыбнулся смертельно бледный Фриденсрайх, но судорога свела его лицо. – Басни из чердака.
– Через двадцать минут мы будем у этого дьявольского отродья, скотины Шульца, – заявил дюк, выпрямляясь.
– Ты переступишь порог, который поклялся никогда не переступать? – усмехнулся Фриденсрайх.
– Замолчи, Фрид! – заорал дюк. – Я больше не могу слушать твою болтовню!
Глава XV. Арепо
Миновав большой ракушечник, напоминающий кабанью голову, кавалькада оказалась на широкой аллее, обсаженной с обеих сторон высоченными кипарисами, а еще через несколько минут перед глазами путников в ночи вспыхнуло яркое солнце.
Раскинувшийся длинным полукругом Арепо, трёхъярусный дворец купца Шульца, был торжественно освещен снаружи и внутри светильниками, факелами, свечами и газовыми фонарями, как театр перед премьерой.
На фасаде две сложные скульптурные композиции изображали корабельную битву и портовую торговлю. На куполообразной крыше скакал на запряженной дельфинами колеснице Посейдон в окружении трубящих тритонов и океанид. На фронтоне изящного портика красовался герб с трехмачтовым фрегатом. Все это великолепие довершали ажурная лепнина на фасаде, колонны тосканского ордера, пилястры и арочный подъезд.
У входа стояли кареты, экипажи, брички, тачки, колесницы, кабриолеты, две арбы и один тарантас.
Иоганн-Себастьян Шульц давал летний бал.
– Этого еще не хватало, – пробормотал Фриденсрайх.
– Вот куда утекает все золото, законно принадлежащее простому люду Асседо! – крикнул дюк, придерживая Ида и указывая плетью на восхитительное здание. – Мало мерзавцу фарфоровых лепнин и колонн розового мрамора, так он, кроме всего, за бешеные деньги ежегодно реставрирует дворец, который грозит провалиться в подземные пещеры. Во всем Асседо и окрестностях нельзя было найти места бестолковее этого, чтобы заложить фундамент для такой громады. Арепо стоит на курьих ножках, а под ним – бездонные пропасти, вымытые морем в те времена, когда море еще было океаном.
– Любая красота, как правило, зиждется на честном слове лжеца, – сказал Фриденсрайх.
Три лакея в париках и голубых ливреях с серебряными и позолоченными позументами, как три ожившие статуи, отклеились от стен фасада, чинно и в унисон направились к кавалькаде. Двое держали над головами факелы. Третий нес сверкающий медный поднос с бокалами из тончайшего хрусталя.
– Вечер добрый, милостивые господа! В Арепо рады каждому гостю! – торжественно продекламировал лакей с подносом. – Его высокоблагородие герр Шульц проявит несказанную щедрость и радушие к вам, когда вы будете так любезны предъявить официальное приглашение на летний бал.
– Однако с каких это пор и по какому праву собака Шульц кличет себя высокоблагородием?! – рявкнул дюк.
Лакеи по бокам подноса хором встали в угрожающие позы, ощерившись факелами. Дюк закинул руку за спину, хватаясь за рукоять меча. Лучники на куполообразной крыше дворца натянули луки.
– Зачем ругаться со слугами? – резонно спросила присмиревшая Нибелунга. – Скажите им, кто вы, сир. И всего делов.
– Дюк Кейзегал VIII из рода Уршеоло, сеньор Асседо и окрестностей, и маркграф Фриденсрайх ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер пожаловали в Арепо! – загрохотал дюк; пламя затрепетало. – Надеюсь, что нам не нужны особые приглашения! Проведите нас во дворец через черный ход и доложите хозяину, что нам необходимы покой и отдых.
Слуги вытянулись в струнку. Правый передал факел коллеге, развернулся к освещенному дворцу, сложил руки ковшом у рта и провозгласил помпезно: «Его милость сеньор Асседо, дюк Кейзегал!».
– О, господи, только не это, – прошептал Йерве.
Зита бросила встревоженный взгляд на Фриденсрайха, вытянувшего ноги на коробе с едой.
– Я не одета для бала! – вскричала Джоконда, отряхивая пыльные юбки, и с судорожным отчаянием принялась закалывать волосы шпильками, извлеченными из глубин корсажа.
Еще один лакей у фасада подхватил клич, подбросил лучникам на крыше. Затрубил глашатай у колесницы с Посейдоном в закрученную валторну – три длинных сигнала и один короткий.
Через мгновение из дворца полилась мелодия, воспроизведенная десятками скрипок, альтов, виол и виолончелей. Музыка вырвалась из портика в аллею, проникла в повозку.
Каждому, кто хоть раз бродил по дорогам Асседо, плавал у его берегов или летал над крышами, знакома эта песнь песней. В полночь и в полдень отбивают ее механические часы на высокой колокольне, что над собором Святого Андрея Первозванного в стольном граде Нойе-Асседо.
– Вот как, значит, следует привечать владыку. Какая досада, что я так плохо приготовился и даже не подумал об оркестре.
Фриденсрайх мечтательно улыбнулся, задвигал невольно пальцами, будто перед ним был клавикорд, и замурлыкал знакомые всем слова старинной баллады:
«Родная земля, где мой друг молодой лежал, обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой…»
«Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться», подхватил Йерве.
«А жизнь остаётся прекрасной всегда. Хоть старишься ты или молод. Но с каждой весною так тянет меня…»
Гимн Асседо.
– Герр дюк, ваша милость, сир! – громко перебил Зиту тучный старик в черном завитом парике до плеч, вразвалку приближавшийся к повозке с эскортом из напомаженной жены, двух непривлекательных дочерей, одного низкорослого сына и еще двух лакеев. – Ах, какая честь! Ах, какая гордость для этой скромной обители! Ах, какая радость!
Старик склонился в земном поклоне, женщины – в реверансах, лакеи поддержали стремя Нибелунги, помогая ей спешиться. Низкорослый купеческий сын поцеловал ей руку.
– Большая радость, – буркнул дюк, спрыгивая с коня. – Выпрямите спину, герр Шульц, вы уже не мальчик.
– Смею ли я полагать, что я заслужил ваше прощение, сир? – спросил старик.
– Смейте, если вам так угодно, – бросил дюк, подтягивая перчатки и поправляя баску пурпуэна.
– Самые почетные места ждут вас за столом, – расплылся в улыбке старик, похожий на большого жирного кота, – Все танцы, которые вы закажете, все яства, которых только ни пожелает ваша душа, все женщины, на которых упадет ваш взгляд, – все в вашем распоряжении.
– Не нужны нам женщины и танцы, нам своих по горло хватает. Горячие ванны, удобные постели, свободные комнаты. Ужин для слуг, постой для лошадей. Вот и все, что нужно шестерым вашим незваным гостям.
– Такие почетные гости в нашем захолустье званы и желанны всегда. Но какими судьбами занесло вас нынче в Арепо, сир? Неужели правда, что маркграф Фриденсрайх фон Таузендвассер…
– Правда, – перебил дюк.
– В таком случае, сир, не откажите мне в милости воздать маркграфу все возможные почести в честь вашего перемирия! Ах, сам Рок надоумил меня дать бал именно сегодня – вся знать Асседо и окрестностей собралась нынче у нас. И мы прямо сейчас и отпразднуем это великое событие!
Купец Шульц хлопнул в ладоши и, не дожидаясь ответа, отворил дверцу повозки.
– Ваше высокоблагородие! – Джоконда подала ему руку.
– Мадам де Шатоди, какой приятный сюрприз! – воскликнул Шульц. – Ах, и вы к нам! И ты, Йерве!
Йерве коротко поклонился, а желание его исчезнуть и провалиться сквозь землю становилось все сильнее с минуты на минуту.
– Сударь, нам бы без церемоний. Мы очень устали с дороги, – попытался Йерве достучаться до радушного хозяина, но толку было мало.
Зита и Фриденсрайх остались в повозке одни. Поглядели друг на друга. Улыбнулся печально Фриденсрайх, блеснула речная галька. Зита отвела глаза.
– Ваша светлость! – приветствовал маркграфа Шульц. – Ах, какое событие! Какая неожиданная удача! А кто эта женщина? Ваша горничная?
Зита вспыхнула бы, будь ее кожа светлее. Фриденсрайх дернул бровью.
– Госпожа Зита Батадам, – представил ее. – Моя… гишпанская кузина. Я лично отвечаю за ее благополучие.
– Ах, сударыня! – Шульц поспешно поцеловал руку Зиты и помог ей выбраться из повозки. – Сколько времени мы с вами не виделись, маркграф? Дай бог памяти – двадцать лет?
– Всего лишь шестнадцать, любезный герр Шульц. А кажется, что все сорок, не так ли?
– Вы совершенно не изменились!
– Вы тоже. Только вот, вспоминается, в прошлый раз вы были блондином.
– О, с тех пор в самом деле утекло очень много воды. Когда же был тот последний раз? Кажется, мы встречались на борту «Грифона». Я снаряжал торговое судно к берегам Португалии, а вы обучали моих матросов базисным навыкам морской обороны. Говорили, что бухта Мар де Палья в ту пору кишела пиратами. – Тут Шульц задумался. – Однако я запамятовал, почему вы тогда проявили ко мне такую милость, ваша светлость.
– Напомню вам, что на борту вашего корабля находился мой собственный товар, – ответил Фриденсрайх, – вековые таузнедвассерские кедры, на которые, по вашим словам, был спрос в Лиссабоне, вследствие реставрационных работ кафедрального собора, освобожденного от магометан.
– Ах, какая светлая память! – всплеснул руками купец.
– О, да, – вежливо улыбнулся Фриденсрайх, – ее не омрачило даже то обстоятельство, что ни кедров, ни выручку за них я так никогда больше и не увидел.
– Не может быть! – изумился Шульц. – Что же приключилось с кедрами и с выручкой?
– Вы утверждали, любезнейший, что «Грифон» сел на мель, а затем был потоплен франкскими корсарами.
– Какая печаль! – снова всплеснул руками купец, и чело его омрачилось.
– Не переживайте, герр Шульц. Вероятно, все дело в том, что я плохой учитель, и мои навыки в морской обороне не пришлись впору вашим несчастным матросам. Но вы ошибаетесь – с тех пор мы встречались еще дважды.
– Неужели? Когда же?
– На приеме у дюка, перед восстанием мятежников и… при менее благоприятныx обстоятельствах. А теперь, не будете ли вы так любезны, дорогой мой, уделить нам несколько свободных комнат в вашем великолепнейшем из дворцов? По старой памяти.
– Уделю, непременно уделю! Только прежде – ужин. Необходимо представить вас гостям. Весь свет ждет вас с нетерпением. Такое событие сделает этот скромный вечер незабываемым, и он войдет в анналы Асседо как Тот Самый Летний Бал, на котором на нейтральных землях Иоганна-Себастьяна Шульца был заключен пакт о перемирии между дюком Кейзегалом VIII и маркграфом фон Таузендвассером, хозяином дальнего севера.
Фриденсрайх сдержал вздох.
– Мой север вовсе не дальний, и я не хозяин ему, а вассал дюка…
– Ваша светлость, – прервал его купец, многозначительно понижая голос, – не может быть, чтобы вы не питали надежд вернуть положение дел в то состояние, каким оно было до оккупации родом Уршеоло нашего края. Исторически Таузендвассер – независимый от Асседо надел. Существуют старинные документы, которые это неопровержимо доказывают. Вам стоит только подать знак, и я обращусь к своим адвокатам, а они все уладят…
– Герр Шульц, – мягко перебил его Фриденсрайх, – взгляните на меня. К чему мне независимость? Напротив, мне ничего больше не остается делать, кроме как полностью зависеть от дюка и быть его вассалом.
– В самом деле? – изобразил изумление Шульц. – Неужели вы простили дюку то вопиющее бессердечие, с которым он с вами, его другом и соратником, обошелся?
Маркграф ничего не ответил, но губы его по краям еле заметно дрогнули, что не ускользнуло от купца.
– Что ж, – пожал плечами Шульц, – вероятно, при некоторых обстоятельствах ваша память укорачивается.
– А ваша, сдается мне, удлиняется, когда речь заходит о дюке.
– Подумайте о моем предложении, – сказал Шульц, перестав улыбаться. – Я и мечтать не мог о том, что вы воскреснете из мертвых. Именно вас мне и не хватало для того дела, над которым я так долго работал. Вы могли бы стать решающим козырем в партии, которая, впрочем, и так беспроигрышная. Дюк не всемогущ, хоть все об этом периодически забывают. Не так ли, сударь?
– Совершенно верно, герр Шульц, – улыбнулся Фриденсрайх. – Вы правы: дюк Кейзегал порою слишком самонадеян, и некому укрощать его всесильную длань. Я готов обдумать ваши слова, но согласитесь, что все приходит в запустение, когда солнце Уршеоло отворачивается. Замки, какими бы прочными они ни были, ветшают и превращаются в прах. Загнивают гербы. Обваливаются стены. Люстры падают с потолков. Советую и вам об этом не забывать.
И будто в подтверждение своим словам, Фриденсрайх позвал дюка.
Купец Шульц кашлянул, но улыбка снова воцарилась на круглом лице.
– Не стоит отказываться от гостеприимства его высокоблагородия, – сказал маркграф. – Бал, так бал.
– Какой бал, Фрид? Ты с ума сошел?
– Я давно не танцевал, – справедливо заметил Фриденсрайх.
Откупорил хрустальный флакончик и капнул две изумрудные капли на язык.
– Почему ты пьешь зеленку? – ужаснулся дюк.
– Сам ты зеленка, – улыбнулся Фриденсрайх. – Это лауданум. Как, по-твоему, прожил бы я шестнадцать лет без него, после полета из окна в ров? И на что, полагаешь ты, тратил я ренту, которую ты милостиво мне подбрасывал? Не на лошадей, это уж точно.
– И не на содержание собственного родового замка, – нахмурился дюк, но возражать не стал. – Поступай как знаешь. Сдается мне, старые соблазны и тщеславие так тебя и не покинули. Твоя свита всегда играла короля. И сейчас тебе не терпится заставить все челюсти разом упасть от одного твоего вида, хоть ты и не признаешься в этом никогда. Ни в чем себе не отказывай. Бал, так бал. Мы идем на бал! – провозгласил владыка Асседо.
Глава XVI. Летний бал
– Сеньор Асседо, дюк Кейзегал VIII из рода Уршеоло!
Бабах!
– Карл Иштван Фриденсрайх Вильгельм Софокл Йерве из Асседо!
Бабах!
– Маркграф Фриденсрайх ван дер Шлосс де Гильзе фон Таузендвассер, хозяин Севера! – провозгласил распорядитель, в третий раз стукнув жезлом о пол в порфирном зале.
Затем объявили дам, но без энтузиазма. Разве что имя Зиты вызвало некоторое замешательство среди присутствующих.
Эффект был произведен надлежащий.
В сутолоке и ажиотаже, в шелесте платьев и звоне шпаг, рапир, сабeль, шашек, мечей, шпор и портупей, никто и не заметил, что Фриденсрайх фон Таузендвассер едва ли держится на ногах, а скорее висит на дюке, Йерве, двух перемазанных в саже и пыли дамах, и одной растрепанной, обступивших его со всех сторон. Две клюки только добавили шарма и загадочности возвышающейся над остальными фигуре в черном камзоле, усыпанном жемчугом. При этом сходство между забытым маркграфом и его собственным сыном ни от кого не укрылось.
Восставший из небытия хозяин северного замка обещал Асседо и окрестностям новые веяния и старые забытые легенды; вносил поэтичность в прозаическую жизнь провинции, и способен был породить такое несметное количество сплетен, что и за год не наговоришься. А ведь каждому известно, что тем активнее сплетни, чем сильнее запрет на них. Шестнадцать лет молчавшее Асседо наконец получило право говорить – плотину прорвало.
Не успела почетная процессия появиться на пороге бального зала, сверкающего тысячью свечей и светильников, как слух о том, что Фриденсрайх фон Таузендвассер влез в пекло, чтобы извлечь из горящего дома Джоконду де Шатоди, взволнованным шепотом затрепетал над бокалами, взлетел над фужерами, разнесся над рюмками, рогами, чашами и стаканами со шнапсом, киршвассером, коньяком, портвейном, брагой, полугаром, аллашем, и бесценным, столетней выдержки, изысканнейшим обашским вином, продуктом солнечных асседошных виноградников.
Одним взмахом черных локонов душевное и политическое равновесие Асседо было безвозвратно нарушено, утрачено – и с радостью позабыто.
Искры зажглись на алмазах, бриллиантах, сапфирах и гранатах, на серьгах, брошах, подвесках и диадемах. Подобно Тростниковому морю, толпа расступилась, образовав дорожку. Головы склонились, но любопытные взгляды вспыхивали из-под приподнятых бровей.
– Доброго летнего солнцестояния всему блистательному свету Асседо, окрестностей и острова Грюневальда, что на Черном море, – раскатисто произнес дюк Кейзегал, вступив на дорожку, и головы склонились ниже. – Милостивые господа и дамы, преданные мои верноподданные, вассалы, арендаторы, тенанты и соседи! Не иначе как счастливый случай доставил нас сегодня на Летний бал премногоуважаемого купца Шульца, на который я не был приглашен.
Рокот негодования пробежался по порфирной зале.
– Вероятно, забывчивость доброго нашего хозяина объясняется его дряхлостью, так что не станем держать на него зла, ибо ни одна материя не вечна, даже мозги достопочтимого герра Шульца. Засим желаю вам тучного летнего урожая – золотых абрикосов, бархатных персиков, налитой айвы, сочной вишни, сладкой черешни и красной клубники.
Дюк прочистил горло. Блистательное собрание чутко внимало каждому слову, но взгляды были устремлены не на владыку Асседо, а на человека, которого он держал под руку и чьи нездешние глаза бесцеремонно и откровенно смеялись над происходящим.
– Итак, господа и дамы, – не стал дюк испытывать терпение толпы, – спешу воспользоваться празднеством, чтобы сообщить вам: мир наступил в Асседо. Мой верный друг и соратник, его светлость Фриденсрайх фон Таузендвассер, отец сына моего, Йерве, милостиво мною прощен намедни, и восстановлен в своих маркграфских правах. Можете говорить о нем и с ним сколько пожелаете – вашим чреслам более ничего не грозит.
Катартический вздох волной прокатился по помпезной зале. Зашуршал шелк, парча и атлас. Шепот превратился в гомон, а затем в крики: «Ура!», «Виват!», «Слава дюку!», «Слава труду!» и «Слава дружбе народов!». Те, кто был в шляпах, беретах или пилеолусах, подбросили головные уборы в воздух, а затем поймали.
Следом, как по мановению невидимого жезла, снова восстановилась трепетная тишина ожидания. Дюк незаметно ткнул маркграфа локтем в бок.
– Дорогие друзья мои и соседи, – сказал Фриденсрайх, и серебро зазвенело в голосе, перелив горных водопадов, журчание ручьев. – Видит Бог, я несказанно соскучился по высшему свету Асседо и окрестностей. Ничто не доставляет мне такой радости, как лицезреть нынче ваши прекрасные лица. Никто не забыт. С некоторыми из вас мы вместе испепеляли восставших, оттесняли захватчиков, удерживали осады, бились на турнирах, оттачивали мечи. С иными – орошали долины в засуху, пели на сенокосах, прыгали через костры, строили корабли и ставили рыболовные снасти. Нет на свете мужчин отважнее дворян Асседо, закаленных ветром и морем. Нет на свете женщин красивее дам Асседо, обласканных щедрым солнцем и соленым бризом, свободных и гордых океанид, ни в чем не знающих отказа. Нет на свете воздуха свежее, чем тот, что весенними ночами воспаряет над нашими равнинами, и аромат акаций…
Тут Фриденсрайх был награжден вторым уколом в бок. Слева.
– Милостивые господа, – спохватился маркграф, – перед вашим свидетельством я признаю свое отцовство, от которого я столь поспешно и постыдно отказался, и нарекаю Йерве из Асседо моим родным сыном, и сыном прекрасной Гильдеборги из Аскалона, моей возлюбленной, безвременно утраченной супруги. Знайте же, что юного Йерве не избежало опрометчивое проклятие, за которое я буду гореть в аду, и в расцвете лет на него упала люстра, вследствие чего его поразил неизвестный науке недуг. Юноша не узнаёт более лиц и предметов. И я умоляю вас, дорогие мои друзья и соседи: ежели кто-нибудь из вас знаком с лекарем, врачевателем, алхимиком, звездочетом, кудесником или чародеем, способным исцелить моего сына, представьте его нам, и вы будете щедро вознаграждены из казны дюка. Я каюсь в содеянном. А точнее, в несделанном. Перед всей благородной знатью Асседо прошу тебя, сын мой, простить меня и принять мое имя, всегда принадлежавшее тебе по праву рождения.
Застигнутый врасплох Йерве, ради этого признания покинувший дом родной, день ото дня казавшийся все более недосягаемым, от такой неожиданности выпустил руку отца своего. Фриденсрайх покачнулся. Но навалился на клюки, и выстоял, словно забыв о том, чего это ему стоит. Восторженные и восхищенные взоры соотечественников и соратников, вероятно, придали ему сил, вызванных тщеславием, а может быть, дело было во вдохновении, что окрыляет нас при порыве великодушия; в пылающих темным закатом щеках Зиты, или в плече дюка.
На какое-то краткое мгновение самому Фриденсрайху фон Таузендвассеру показалось, что он вернулся домой. В родную семью. И будто не он ждал Кейзегала в течение шестнадцати лет, запершись в безлюдном холодном замке, а ждали его самого.
Все Асседо ждало его – от самого последнего дворника до самой изысканной модницы; от первых почек молодой акации до гниющих листьев старейшего платана; от восточной прибрежной полосы до западных плодородных черноземов на границе с Авадломом. Сирень, вербена, желуди, каштаны и сливы ждали его, степи, равнины, лиманы, междуречье и овраги, гончие, лошади, чайки, люди и море.
Фриденсрайх никогда не забывал, как встречали в Асседо Фрида-Красавца – сперва мальчишку-проказника, юношу-сорвиголову, многообещающего молодого человека, блистательного вельможу, бесстрашного воина, желанного жениха, а потом и супруга ослепительной Гильдеборги. У всех глаза вынимались. Хоть и пребывал Фрид в уверенности, что излечился от охоты к этой сомнительной радости, Кейзегал опять оказался прав на его счет: его ждало саморазочарование.
Фриденсрайх фон Таузендвассер недаром потратил шестнадцать лет на размышления, и, разменяв пятый десяток, был способен понять, что на Летнем балу купца Шульца Асседо радуется не бесшабашному Фриду-Красавцу, не отцу проклятого приемыша Йерве, не восстановленной легендарной дружбе, и даже не бесценной возможности посплетничать вдоволь, хоть это и было самым правдоподобным объяснением ажиотажу.
В свои сорок лет Фриденсрайх отчетливо понимал, что ничему люди не радуются так, как чуду. Его собственное воскрешение из мертвых, его удачное спасение после прыжка из окна левого флигеля в ров, сохранившее ему видимость жизни и благополучия, – вот что вызывало восторг и такую бурю эмоций. Его светлый лик, несмотря на долгие годы страданий, почти не изменившийся, дарил смутное обещание бессмертия каждому из присутствующих. И пусть никто из пирующих не отдавал себе в этом отчета, завидев Фрида-Красавца, каждый воспылал верой в собственную неприкосновенность. В один миг Фриденсрайх фон Таузендвассер превратился для Асседо в памятник возрождения, в образ удачливости, в символ всемогущества.
Люди суеверны. Им кажется, что стоит им прикоснуться к образам, и сами они заразятся их волшебной силой.
Однако слава пьянит пошибче любого вина, включая то, что хранится в обашских погребах, и она едва ли менее опасна. Даже если это слава неудавшегося самоубийцы.
Во второй раз за сегодняшний день показалось Фриденсрайху, что он погиб. Ибо не может человек противостоять собственным слабостям, даже потратив шестнадцать лет на истребление своей природы.
Во всяком случае, так ему показалось.
Безотчетно взглянул он на Зиту. И увидел волну, окатившую два черных морских валуна.
Не следовало ему покидать Таузендвассер. Слишком много жизни было в Асседо, слишком соблазнительной.
А Йерве смотрел на толпу, и видел сотню разноцветных, расплывавшихся пятен, лишенных смысла. Он почувствовал тошноту, головокружение, и на какое-то краткое мгновение стало ему предельно ясно, что заставляет человека в один прекрасный день залезть на подоконник и выброситься из окна.
– Дьявольщина, Шульц, это бал, или поминки, в конце концов? – загремел дюк. – Играйте музыку!
Грянул вальс.
Иоганн-Себастьян Шульц предложил руку непривлекательной супруге.
Сотни разноцветных пятен закружились в бешеном танце, как листья на ветру.
– Бабхен никогда не позволяла нам посещать балы! – в экстазе вскричала Нибелунга.
Бросилась к первому попавшемуся кавалеру, схватила его за рукав и умчала в вихре. Джоконда де Шатоди завладела рукой дюка, и на раз-два-три увлекла в мелодию, сопротивляться которой было не под силу даже владыке Асседо. Дюк был очень музыкальным человеком.
– Не откажите мне в танце, господин фон Таузендвассер, – сказала Зита, изящно присев в книксене.
Фриденсрайх вскинул брови, не понимая, как отнестись к такому предложению.
Но Зита не обращалась к нему.
Вздрогнул Йерве, ибо в мельтешении пятен пряный запах Зиты отчетливее букв рисовал Песнь Песней.
– Сударыня… – пробормотал юноша.
Но женщины Асседо ни в чем не знают отказа, даже если они только проездом в Асседо, временно и без вида на постоянное жительство.
Кто-то заботливо придвинул бархатное кресло на гнутых баобабовых ножках к Фриденсрайху. Вероятно, лакей. Или какая-нибудь сердобольная старушенция, пахнущая нафталином и давно отказавшаяся от помыслов о бессмертии.
Фрид-Красавец упал в кресло. С неизбывной тоской и щемящей благодарностью.
Как преходяща слава земная. Как коротка память человеческая. Как прекрасно Асседо летом, когда отцветают акации и хлещут в абрикосовых садах хрустальные фонтаны.
Глубокое сожаление накрыло Фриденсрайха фон Таузендвассера. Как чудесно было не иметь чего терять. Не жить и не желать. Только ждать. Ждать и ждать дюка.
Его взгляд невольно обратился к одному из высоких окон Арепо, черной дырой зияющему на фоне бесконечного света.
Глава XVII. Пасодобль
Не успел прозвучать последний такт вальса, когда Йерве был окончательно и бесповоротно влюблен в Зиту. Впрочем, он понял это уже тогда, когда их ладони сплелись, его правая рука легла ей на талию, а ее левая – невесомо коснулась его плеча.
Гремели трубы и горны, басили тромбоны, ухала туба, взвивались скрипки, звенели колокольчики, и казалось Йерве, что у него отрастают крылья, что разверзается купол Арепо, и взмывают они вместе с Зитой над полями и лугами, над пастбищами, мельницами и дубравами, над колокольнями, фруктовыми садами, над тополиными аллеями, замками и фонтанами, и парят в поднебесье, держась за руки, а небо стекает по черепичным кровлям Асседо и уходит в плодородную землю.
Музыка резко оборвалась. Небо грохнулось с крыш. Дамы и кавалеры застыли в изломанном поклоне.
– Падеспань! – объявил распорядитель и стукнул жезлом о порфирный пол.
Ударили литавры.
Фигуры выстроились в цепочку.
– Вашу руку, мадам, – дюк объявился слева и перехватил Зиту сзади за талию.
Перед Йерве оказалась мадам де Шатоди.
– Какой великолепный оркестр! – воскликнула разгоряченная Джоконда, увлекая Йерве за собой. – Его высокоблагородие так щедр!
Два шага налево, два шага направо.
– Мсье дюк так прекрасно танцует, кто бы мог подумать! Такой сюрприз! Почему его милость никогда не дает балов?
Два шага направо, два шага налево.
Поворот.
– Йерве! Я так счастлива!
Задыхающаяся Нибелунга сменила Джоконду и закачалась в пьянящем ритме.
Два шага налево.
– Я так давно не танцевала! Умеет ли Гильдегард танцевать? Я никогда у него не спрашивала.
– Конечно, умеет! Намного лучше меня. Дюк научил его всему, что умеет сам. Включая…
– Ах, какая радость! Я выхожу замуж! Когда я стану хозяйкой Желтой цитадели в Нойе-Асседо, я непременно буду давать балы. По три в каждый сезон. Нет, по четыре. Еще лучше – по пять. Я стану невесткой дюка. Кем же я придусь тебе, Йерве? Золовкой? Свояченицей? Снохой?
– Боюсь, что никем.
Какая-то женщина сменила Нибелунгу в фигуре танца.
– Господин фон Таузендвассер-младший! Какая честь! Вы в самом деле никого не узнаете? На вас действительно упала люстра?
Йерве узнал голос старшей дочери Шульца, чье уродство было скрыто от него, и юноша успел подумать о том, что в некоторых ситуациях слепота оборачивается милостью Божьей. Непривлекательная женщина пахла фиалками и лавандой, а талия ее была так же гибка, как и у Джоконды.
– Действительно.
Два шага налево. Поворот.
– Как же это произошло? Расскажите подробнее! Кто спустил курок?
Пам-пам-пам. Парара-пам-пам. Парара-пам-пам. Пам-пам.
Мажор сменился минором. Валторны и гобои оккупировали мелодию.
– Ваш отец… боже праведный, как он красив!
– Простите, сударыня, но я не узнаю вас. Кто вы?
– Ах да, вы же ничего не видите, даже меня! Я очень хороша собою, будьте уверены. Разрешите представиться еще раз: княжнa Аннабелла фон Крафт из Ксвечилии. Мы приходимся дюку дальней родней. Мой батюшка – владелец южного грузового порта, и я его прямая наследница. Мы с вами были представлены друг другу на Сочельнике в Нойе-Асседо три года назад. Неужели вы забыли меня?
– Простите, я вас не помню…
Пам-пам. Парара-пам-пам.
– Вы так возмужали, Йерве. Вы так похожи на своего новообретенного отца! Представьте его мне, будьте так любезны…
Пары опять поменялись.
– Сударь, – еще одно зеленое пятно попало в руки Йерве, зашептало бегло, – выслушайте меня, ради бога. В подвалах Арепо творится неладное.
– Что вы имеете в виду? Кто вы?!
– Это неважно. Мне грозит опасность. Если Шульц узнает о том, что я вам сказала…
– Обратитесь к дюку, сударыня! Он непременно согласится помочь!
– Ни в коем случае. Лучше посоветуйтесь с вашим отцом, с господином фон Таузендвассером.
– Я не понимаю…
– Вы найдете записку. Пусть его светлость маркграф вам поможет. Он непременно поможет. Выясните правду, Йерве из Асседо, вы же благородный юноша.
– Какую правду, сударыня?
– Найдите вход в катакомбы.
Пам-папам. Парарам-пам-пам.
– Сударыня, постойте!
Два шага налево. Новое пятно.
– Вас интересуют книги, господин Йерве из Асседo? Какие именно? Я имею честь быть ректором женской философской академии в Малом Аджалыке. Очень приятно: профессор Мария-Терезия Шпрехензи-Дойч.
Поворот.
– Я слышала, вы весьма начитаны. Нет ли у вас желания поступить в коллеж? У вас не будет никакой необходимости общаться с людьми, лишь только с книгами. Перед вами откроется целый мир, о котором вы даже не подозревали. Знакомы ли вы с последним схоластическим новшеством – наукой психологией?
Пам-папам. Парара-пам-пам. Парара-пам-пам. Пам-пам.
Йерве потерял счет всем женщинам, сменившим друг друга в фигурах танца; искал глазами зеленое блио незнакомки, нашептавшей ему непонятные сведения. Но зеленых платьев в зале было несметное количество, ведь зеленый был цветом летнего урожая. Падеспань все никак не кончался.
Пам-пам-пам. Парам.
В руках Йерве снова оказалось облако из разлитого миро, оливкового масла, гари спаленного дома, расплавленного воска. Гармоничное торжество гобоев диссонансом пронзила дрожащая струна ребаба.
– Госпожа Батадам, – выдохнул Йерве, сбившись на лишний шаг влево и наступив партнерше на ногу. – Прошу прощения.
Танец закончился. Партнеры поклонились друг другу. Йерве не хотелось расставаться с Зитой. Суббота еще не закончилась.
– Подарите мне еще один танец, – попросила Зита.
– Пасодобль! – недолго думая, выкрикнул Йерве.
– Пасодобль! – подхватил распорядитель и ударил жезлом о мраморный пол.
Запела труба. Домбры и мандолины подхватили напряженный ритм, скрипки раскалили героическое вступление до предела.
Йерве понес Зиту по зале, не обращая ни на кого внимания. Остальные пары помчались вскачь вслед за ними.
– Сударыня, – задыхаясь, шептал юноша, не находя подобающих слов, – вы… я…
– Скажите, Йерве, – Зита крутанула пируэт, и оказалась в его объятиях, – что имел в виду дюк, говоря о работорговле?
Йерве поддержал Зиту над своим коленом и склонился над ней, изображая матадора, встряхивающего мулету.
– Глупые сплетни. Никакой работорговли не существует в Асседо вот уже два столетия. Преступление карается смертной казнью.
– Вы уверены?
Йерве покружил Зиту, распаляя воображаемого быка.
– Шульц, конечно, нечист на руку, но торговать свободными людьми? Трудно представить.
– Сударь, – Зита исполнила уклонение, – вы совершенно уверены?
Йерве перешел в аппель, ударив стопой в пол.
– Я больше ни в чем не уверен. Какая-то женщина только что сообщила мне, что неладное творится в катакомбах под Арепо. Но почему вас так заинтересовали дела Шульца?
У Зиты подкосились ноги. Йерве подхватил ее вовремя, и увел в шассе.
– Мне нужна помощь! Я не могу больше молчать! И не могу больше пребывать в неведении!
Удар тарелок заглушил вопль Зиты. Вопль пришелся Йерве в самое сердце. Зита совладала с собой, выпрямила корпус.
– Сударыня, обратитесь к дюку. Уверяю вас, сеньор Асседо благородный человек, он не откажет вам в помощи.
Зита приставила левую ногу к правой ноге Йерве.
– Если бы я посмела говорить, то открылась бы именно вам!
Cделала перекрестный поворот.
– Мне?!
– Вы честный юноша, это ясно каждому. Вы не хам, как дюк, и не дамский угодник, как ваш отец.
– Но мой отец…
– Помогите мне, Йерве!
– Клянусь, ради вас я бы сошел в преисподнюю, – пообещал Йерве, стуча пуленами о пол, – но что я могу сделать?
– Не требуйте от меня откровений, ни о чем не спрашивайте.
– Но…
– Верьте мне, умоляю вас. Я честная женщина, несмотря ни на что.
– Я верю вам, сударыня.
– Помогите мне добраться до истины.
– Какой истины?
– Вы же обещали!
Зита ушла в зигзаг.
– Прошу прощения. Как мне помочь вам?
– Мне необходимо остаться в этом дворце, пока я не узнаю правду, или пока мои подозрения не опровергнутся.
– Я не понимаю…
– Чует мое сердце, я на верном пути. Я отправилась в Асседо с определенной целью. Больше я ничего не могу сказать.
– Вы говорите загадками!
– Увы, это так.
– Но это бессмысленно. Истина выше людей, и не должна бояться их.
– Простите, меня, Йерве. Заведомо простите мне ложь.
И хоть Йерве не мог этого видеть, он понял, что глаза Зиты наполнились слезами.
Две загадки за один вечер – слишком много, но сводились к одной: кто его знает, что скрывает Шульц в своих подвалах?
– Зря вы не доверяете дюку, зря вы не доверяете и моему родному отцу…
– Вы сами ему не доверяете, – сказала Зита.
– Вы не правы, – возразил Йерве. – Мой отец не эталон здравомыслия, но он честный человек. Он опытный человек.
– Откуда вы знаете? Вы знакомы с ним лишь несколько дней. Он обрушил люстру на собственного сына, прежде наградив его проклятием! Как вы можете ему доверять?
– Могу, – с непоколебимой уверенностью сказал Йерве, делая променад по диагонали. – Черт с ней, с люстрой. Некоторые проклятия мы сами заставляем сбываться. Некоторые истины не нуждаются в доказательствах.
– Вы так наивны, юноша!
Йерве покраснел, но остался верен себе.
– Сударыня, больше всего на свете я желаю вам помочь, но я пока не способен на подвиги без помощи старших. Мне шестнадцать лет, и я не узнаю вас в толпе. Быть может, я наивен, но я не безумец. Доверьтесь хозяевам этой провинции, и они не оставят вас в беде.
– Я не доверяю мужчинам.
Страстная мандолина заглушила обиду юноши.
– Не обижайтесь, сударь, – спохватилась Зита, двигаясь по кругу, прижавшись спиной к спине Йерве. – Молодость… впрочем, вы сами знаете.
– Я не обижаюсь, – солгал Йерве. – Позвольте мне поговорить с моим отцом.
– С каким из них? – спросила Зита.
– Выбор за вами.
Зита взглянула в нездешние глаза Йерве.
– Увы, ваш крестный отец вызывает больше доверия, чем ваш кровный отец, но он не должен ничего знать.
– Но почему? – спросил Йерве.
– Потому что правосудие слепо, – вздохнула Зита, завившись кольцом вокруг партнера. – Сеньор Асседо, каким бы благородным человеком он ни был, уполномочен вершить высший суд.
– Я ничего не понимаю, – признался юноша.
– Я знаю, знаю! – Зита запрыгнула ему на руки. – Я не умею лгать! Джоконда владеет этим навыком намного лучше меня! О, Всевышний, я совсем запуталась. Я пропала! Эстой тотальменте пердида!
Как загнанная пантера в капкане, изогнулась Зита в поддержке по дуге.
– Де нингун модо, сударыня, ни в коем случае, – сказал Йерве, склоняясь к ее лицу. – Я не брошу вас. Ваша ложь меня не пугает, и я уверен, что раз вы лжете, значит, у вас есть на то веские причины. Если нам суждено остаться в Арепо, мы останемся в Арепо, пока вы не решитесь заговорить. Мой отец – мудрый человек. Вы сами это видите. Он понимает суть вещей без лишних слов.
– Который из них?
– Фриденсрайх фон Таузендвассер.
Почувствовал Йерве, как затрепетала Зита в его руках.
– Позвольте мне обратиться хоть к нему. Вы не должны раскрывать никаких тайн.
– Ваш отец еле жив… – едва слышно сказала Зита. – Разве он может…
– Мой отец умудрился прожить шестнадцать лет взаперти. Он упрям как сто тысяч чертей и сильнее, чем кажется на первый взгляд. Неужели вы не заметили?
– Но разве можно просить у человека о помощи, ничего ему не сказав? Это несправедливо!
– Можно, – ответил Йерве. – Вы только что это совершили. Видите? Я все еще с вами.
«Пам! Пара-па-па-па-па-па-пам! Пам-пам!», – пропела труба.
Зита скользнула по руке Йерве, выгибаясь в финальном выпаде.
Литавры ударили последний такт.
Прогнутые дамы застыли в руках кавалеров, отдаваясь на милость их силы.
– И Джоконда, – одними губами промолвила Зита, – она тоже не должна знать, что я говорила с вами. Она убьет меня прежде, чем это сделает дюк.
– Клянусь, я буду так же нем, как слеп, – поспешил пообещать Йерве.
Зита повернула голову. Фриденсрайх фон Таузендвассер, восседавший в кресле с баобабовыми ножками, был окружен несметным количеством лиц – знатных, в меньшей степени и не очень, говоривших без умолку, но не сводил насмешливого взгляда с танцующих пар – с Зиты и Йерве в частности. Поигрывал бокалом с обашским вином, столетней давности разлива.
– Он смеется над нами, – сказала Зита.
– Он притворяется, – отозвался Йерве.
– Он пьет, – подметила Зита со страхом.
– Ничего страшного, – успокоил ее Йерве, вовсе не будучи спокойным. – Минута слабости не свидетельствует о бессилии.
Глава XVIII. Мария-Терезия Шпрехензи-Дойч
Объявили фуршет, и лакеи сняли крышки с медных, серебряных и фарфоровых блюд.
Франкские сыры, фламандские сельди, каталонские кремы, ниппонский рис, римские антипасто, чжунхуйские макароны, баварские сосиски, чешские пампушки, сиамские креветки, лаосские грибы и еще много всякой всячины были способны удовлетворить самые требовательные и самые изысканные вкусы.
Аристократическое собрание выстроилось в очередь за лакомствами, вооружившись вилками и тарелками. Несмотря на попытки сохранять благородство, все же кое-где можно было услышать приглушенное: «Кто здесь крайний?», «За мной уже занял тот господин, в малиновом берете. Он скоро подойдет», «Сударыня, ради бога, не толкайтесь, как таран» и «Как вы полагаете: позволительно ли просить добавки?».
Переговорить с Фриденсрайхом с глазу на глаз не представлялось никакой возможности, потому что сразу шесть человек поднесли ему тарелки с яствами. Трое из них были женщинами, один из них был дюком, а пятым оказался сам Иоганн-Себастьян Шульц, которого нетрудно было узнать по форме парика. Кем был шестой господин, Йерве понятия не имел.
Группка оживленно беседовала, периодически разражаясь взрывами хохота. Дюк, судя по тональности его смеха и по тому, что присутствие Шульца, травившего несколько скабрезные анекдоты о матросах и русалках, более не вызывало его раздражения, опрокидывал десятую рюмку полугара, а может быть, даже и одиннадцатую.
Фриденсрайх фон Таузендвассер не смеялся, но, судя по движению его руки, сновавшей от тарелки ко рту и обратно, в полной мере отдавал дань деликатесам.
В одной из женщин, толпившихся вокруг маркграфа, по голосу и серьезному тону Йерве узнал ректора Марию-Терезию.
– Сударыня, я имел честь танцевать с вами, – Йерве подошел к ученой даме и поклонился. – Разрешите поинтересоваться: как обстоят в наши беспокойные времена дела с образованием благородных девиц?
Госпожа Шпрехензи-Дойч тяжело вздохнула и с удовольствием пустилась в разглагольствования на наболевшую тему. Она поведала Йерве о трудностях набора штата сотрудников; о расхожих предрассудках, касающихся женского склада ума, усложняющих преподавание таких предметов, как арифметика, геометрия и астрономия; о прискорбной спешке студенток выйти замуж, что усложняет получение ученой степени; об усилиях, в течение нескольких столетий прилагавшихся философской академией, во имя истребления из самих студенток тяги к обычаю права первой ночи, и о непослушании учениц из низших сословий, до сих пор предпочитающих учебе поиск богатых покровителей.
– Женщине нужен покровитель, – очень громко и выразительно сказал Йерве, чем вызвал возмущение эмансипированной дамы.
Фриденсрайх повернул голову, оторвав взгляд от незнакомого господина, повествующего о подвигах очередной позапрошлогодней битвы с кунигаем Гаштольдом, правителем Авадлома.
– Я не ожидала от вас, юноша, такой узости взглядов, – поджала губы госпожа Шпрехензи-Дойч. – О вашей хваленой просвещенности ходят слухи по всему Асседо и окрестностям. Неужели молва ошибается на ваш счет?
– Женщине нужна помощь, – отчеканил Йерве, ничуть не смутившись. – Женщина – одинокое и слабое создание, отданное на милость патриархального общества, и она боится открыть правду о себе сильным мира сего.
Маркграф поперхнулся корнишоном и приложил салфетку к губам.
– В этом есть зерно резона, – немного успокоилась Мария-Терезия. – Да, каждая женщина сперва нуждается в поддержке, чтобы суметь впоследствии осознать свою силу. Именно для этого и существует философская академия, дарящая каждой девице возможность развить свои врожденные таланты и способности, и бесстрашно вступить в большой свет, вооруженной знаниями и силой.
– Сперва женщина должна остаться тут как можно дольше, – громогласно заявил Йерве. – То есть там. Ей необходимо время, чтобы подобраться к истине.
– Разве три года обучения вдали от родного дома не кажутся вам достаточно длительным сроком, сударь мой? Несмотря на те несомненные преимущества, которые мы им предлагаем, все же невозможно отрицать, что это тяжкое испытание для молодых девиц.
– Очень тяжкое, – согласил ся Йерве. – Я бы даже сказал – непосильное для некоторых. Но некоторым необходим долгий срок, чтобы все как следует выяснить.
– Что ты имеешь в виду, юноша? – спросил Фриденсрайх, включаясь в беседу.
– Никто никогда не знает, в чем, собственно, заключается истина, – туманно ответил Йерве. – Иногда она скрывается в таких мрачных оврагах и лабиринтах разума, что и академической степени не хватит для того, чтобы ее откопать. Порой человеку необходимо самому спуститься в подземелье в поисках истины. Но в одиночку этого не совершить. Кто-то должен держать перед ним факел. То есть, перед ней. Речь ведь идет о женщине.
Мария-Терезия восхищенно воззрилась на юношу, и ее глаза зажглись научным азартом.
– Йерве из Асседо, вы уверены, что никогда ничего не слышали о последнем схоластическом новшестве – учении о неопознанных сферах души человеческой?
– Абсолютно ничего, – признался Йерве. – Однако я не сомневаюсь, что на этом поприще женщину, столь живо реагирующую на всяческие тайны, конфликты и интриги, скрытые от нее самой, ожидает большой успех.
– Ты полагаешь? – спросил маркграф.
– Однозначно, сударь, – ответил Йерве. – Но только в том случае, если сильные мира сего поддержат ее в этом предприятии.
– Каким же образом они должны это сделать?
– Им следует помочь ей задержаться подольше в тех неприглядных сферах, из которых каждый стремится поскорее удрать, влекомый тягой к родным пенатам.
Мария-Терезия всплеснула руками в кружевных перчатках.
– Сударь! Да вы прирожденный душевед! Мне необходимо завербовать вас в ряды наших учеников! Мы принесем прогресс в Асседо!
– Что это значит? – спросил Фриденсрайх.
– Тот, кто хочет поскорее вернуться домой, порою должен подольше задержаться в дороге, – сказал Йерве. – Иногда задержка оказывается наикратчайшим путем к цели.
– Невероятно! – воскликнула госпожа ректор. – Вы кладезь мудрости, Йерве. Я обязана познакомить вас с доктором Сигизмундом.
– С кем?
– Доктор Сигизмунд Дёрф наш почетный гость из Нневы. Он лечится на водах в Малом Аджалыке. Этот широкой души человек милостиво дает лекции и семинары в коллежах во время своего летнего отпуска. Как же я раньше не подумала?! Воистину, неумеренность в танцах и еде пагубно влияет на разум. Вы же созданы друг для друга! Клянусь Афиной, его заинтересует ваш случай.
– Мой случай? – удивился Йерве.
– Да, конечно! Мнимая слепота, столь удачно совпавшая с обретением отсутствующей отцовской фигуры; столь явная конкуренция с этой самой фигурой… Простите, ваша светлость… Юноша, да вы же живой пример для трактатов герра Дёрфа! Я уверена, доктор Сигизмунд способен излечить вас от недуга.
– Врял ли, – с недоверием и с некоторой даже обидой произнес Йерве. – Моя слепота, к сожалению, не мнима, а весьма реальна. Иногда люстра это всего лишь люстра.
– Вы уже сопротивляетесь излечению! – обрадовалась госпожа Шпрехензи-Дойч. – С вашего позволения, я прямо сейчас напишу доктору Сигизмунду и отправлю к нему гонца.
– Нет! Не надо! – вскричал Йерве. – Зачем?
– Пишите доктору Сигизмунду, сударыня, – сказал Фриденсрайх, – как можно скорее. Вы очень нас обяжете.
Окрыленная Мария-Терезия вприпрыжку умчалась на поиски чернил, бумаги и скорохода.
– Нам следует задержаться в Арепо? – беззвучно спросил Фриденсрайх.
Йерве кивнул.
– Как долго?
Йерве пожал плечами.
– Что ты сотворил с этим синим чулком, Фрид? – изумился дюк, взглянув вслед упорхнувшему ректору.
– Увы, я на такое не способен, – возразил Фриденсрайх, отправляя в рот лаосский гриб. – Сын оказался талантливее отца.
Глава XIX. Много вина
Часы пробили полночь, а бал был в разгаре. Нибелунга выплясывала, не чувствуя усталости, носилась по зале, порхая от одного кавалера к другому, будто не могла насытиться мужским вниманием. Оповещала каждого встречного о грядущей свадьбе, так что к концу вечера всему высшему обществу, кроме отсутствующего жениха, было известно, что в ближайшем месяце в Нойе-Асседо будет пир горой, и следует готовить подарки, что не посрамят такое торжество.
Мадам де Шатоди несколько утомилась, завладела графином с абрикосовой наливкой и играла в преферанс за столиком, обитым зеленым сукном, в компании трех господ. В десятый раз рассказывала свою печальную историю, обогатившуюся пожарной трагедией, но не спускала глаз с дюка, который, несмотря на утерянный счет рюмкам полугара, не терял выправки и почему-то не отходил ни на шаг от Зиты, угощая ее то малиновыми тарталетками, то горячим напитком из бобов какао. «Угощал» – слабо сказано. Заставлял пить и есть. Джоконда была в бешенстве, несказанно удивляясь такому повороту событий, но не смела покинуть игральный стол, поскольку соседи-картежники были холостыми, а всем известно, что синица в руке лучше журавля в небе.
Впрочем, заключила наблюдательная Джоконда, когда совладала с ревностью и завистью, ничего удивительного во внимании дюка к Зите не было, поскольку солнце Уршеоло обернулось к Зите не раньше, чем дюк подметил пристальный взгляд маркграфа, всюду ее провожавший. Сделав такой вывод, Джоконда обрушила гнев на собственную недальновидность – она просчиталась. Козырем в этой партии оказалось никуда не девшееся соперничество между помирившимися друзьями и соратниками. Чтобы подцепить дюка на столь долго готовившийся крючок, ей следовало завладеть вниманием маркграфа. Джоконда упустила золотой шанс, предоставленный ей путешествием в повозке. Шанс, который Зита, с присущим ей видом наивности, использовала сполна. С досадой мадам де Шатоди смяла карты.
Но Зита, судя по всему, испытывала дискомфорт от присутствия дюка, и предпочитала уединение. Когда сеньор Асседо удалился за очередной порцией марципанов и полугара, она поспешно проскользнула в стеклянные двери, уводившие на балкон, и скрылась с глаз.
Йерве пришлось сплясать кадриль, польку, менуэты и летку-енку, потаскать и покружить на руках несметное количество дам, и заверить каждую, что лучшей партнерши на всем белом свете не сыскать. Казалось, он был вынужден отдавать дань прекрасной половине высокого собрания не только от своего имени, но и от имени своих занятых собою отцов. К концу бала юноша чувствовал себя, как после пятичасовой тренировки в фехтовальном зале, или после семичасовых упражнений в легкой атлетике с шестом, ядром, палицей и копьем. Голова шла кругом. Больше всего на свете ему хотелось завалиться спать. Где угодно, пусть хоть на конюшне. Но стоило ему отойти в укромную нишу у окна, как мадемуазель фон Крафт, дочь владельца ксвечилийского порта, схватила его под руку и принялась умолять официально представить ее маркграфу фон Таузендвассеру.
Фриденсрайх, окруженный старинными знакомыми, соседями и соратниками, приканчивал четвертую бутылку обашского столетней выдержки. Он не держал зла на этих людей, не вспоминавших о нем в течение шестнадцати лет, а, получив позволение вспомнить, набросившихся на него с жадным любопытством, как на цирковую диковинку на весенней ярмарке.
Его звали в гости, требуя непременно пообещать нанести визит в ближайшем месяце, еще лучше – на неделе, предлагали какие-то сделки, союзы, выпрашивали ходатайства, сводничества и покровительства, жаловались, хвастались, выспрашивали советов и мнения в вопросах хозяйственных и ратных, спешили поделиться новостями последних шестнадцати лет, и к полуночи Фриденсрайх был полностью осведомлен о том, какие изменения произошли в генеалогических древах Асседо, кто с кем вступил в брак, кто ушел в монастырь, кто получил повышение по службе, кто приобрел поместье, кто у кого отвоевал земли, кто почил в бозе, кто родился и кто у кого выиграл тяжбу. Он узнал, какие корабли были построены за эти шестнадцать лет и какие потонули, какие торговые связи были налажены, какие замки были разрушены, какие новые земли были освоены, какие урожаи погибли, и чьи стада принесли богатый приплод. Замкнутое в себе Асседо истосковалось по благодарному слушателю. Людям кажется, что истории, которые они рассказывают в десятый раз, оживают заново, когда собеседник их слышит впервые.
Каждый подходил к нему с исповедью, с просьбой, со страстью по сокровенному. Он представил себе, как переменчивы на маскараде жизни роли, которые люди друг перед другом исполняют. Когда-то Фриденсрайх был Рыцарем. Теперь, милостью благородного собрания, он превратился в Жреца. Но разве кто-либо из них был способен разглядеть за маской, которую они на него нацепили, его самого? Их любопытство было вызвано не самим Фриденсрайхом, а тем, что они о нем вообразили.
Ничто человеческое не было чуждо Фриду, в том числе и любопытство. Особенно любопытство. Он не мог их осудить.
– Обдумали ли вы мое предложение, ваша светлость? – Шульц снова оказался рядом.
Краснощекий, тучный и дряблый, в нелепом парике, вероятно, в его ошибочном представлении, молодившем его лет на десять. Рядом с ним неотступно маячила напомаженная престарелая супруга, источающая запах плесени, и две непривлекательные дочери, старые девы.
– Увы, ваши дорогие гости, герр Шульц, не оставили мне ни минуты на размышления.
– О, но нам, право слово, некуда спешить, мой драгоценный маркграф. Мои гости утомили вас?
Фриденсрайх премило улыбнулся.
– Отнюдь. Я ведь так истосковался по общению. Я уповаю на вашу благосклонность, мой дорогой, и уверен, что в ваших покоях мне будет предоставлено достаточно времени для принятия наилучшего решения.
– Не сомневайтесь, – поспешил заверить его хозяин, – что любые свободные комнаты, которые вы соизволите избрать, будут отданы в ваше распоряжение на неограниченный срок. Вы самый желанный гость в Арепо, и можете располагать моим скромным жилищем, как своим собственным.
– В таком случае, нам нужны шесть комнат.
– Шесть? – поперхнулся Шульц. – Неужели дюк не испытывает желания поскорее воротиться домой?
– Разумеется, испытывает. Но я не в силах продолжать путь, не отдохнув. Упрямец Йерве не готов разлучаться со мной. Дюк не покинет крестника. Мадам де Шатоди лишилась крова, и находится под покровительством Кейзегала, как и его будущая невестка, а моя… гишпанская кузина – под моим. Как видите, волею Pока, мы все повязаны.
Фриденсрайх снова улыбнулся. Шульц последовал его примеру.
– Не извольте беспокоиться, ваша светлость. Оставайтесь в Арепо столько, сколько вам угодно. Я очень терпелив и, смею надеяться, гостеприимен.
Купец красноречиво посмотрел на танцующих, пьющих и едящих.
– Никто не посмеет усомниться в широте вашей души и ваших закромов, герр Шульц.
Фриденсрайх поднял бокал и чокнулся с хозяином.
Шульца сменили на посту братья Вортепифли, местные трубадуры, ищущие мецената для создания продолжения нашумевшей баллады о константинопольском плуте. Пришлось Фриденсрайху выслушивать первую часть произведения. Надо сказать, некоторые отрывки заставили егo рассмеяться. Потом он подозвал лакея и потребовал еще одну бутылку обашского.
Фриденсрайх пил впервые за шестнадцать лет, проклиная первый глоток, сделанный им давеча из благословленной субботней чаши. Человек, который держится на честном слове, не может позволить себе роскоши нарушить слово, однажды данное себе. Тем не менее, он его нарушил. Он проклинал слабости человеческие, дюка, и пристрастие к красивым жестам, которое из раза в раз доводило его до края; и крайности он проклинал, от любви к которым также не избавился.
Дюка он проклинал за то, что тот тоже совершенно не изменился, и, стоило ему унюхать след потенциальной победы над старым другом, как он, с рвением гончей, набросился на дичь, которая еще два часа назад никакой ценности для него не представляла.
С другой стороны, в таком постоянстве было немало успокаивающего.
Твердыней мира был Кейзегал, прочной и надежной пристанью в шторме, которым являлась душа Фриденсрайха. Именно по этой причине ждал его Фрид столько лет. Он ждал дюка, как ждут того, кто наведет порядок в хаосе, в агонии, в грядущем безумии, голодным волком притаившемся в пыльных углах северного замка. Парадокс заключался в том, что именно ожидание спасло Фриденсрайха от безумия, – ожидание, а не сам дюк. А разве важно, что за плот удерживает на плаву? Надели существование смыслом, и ты спасен. Пришлось Фриденсрайху учиться самому наводить порядок. Может, это и к лучшему.
Если и гневался Фриденсрайх на дюка, то не за то, что тот предпочел забыть о нем на шестнадцать лет – причины дюка были отчасти поняты Фридом, отчасти просто приняты. И даже тайное желание завладеть сыном прекрасной Гильдеборги из Аскалона, настолько тайное, что сам Кейзегал и не подозревал о нем, не виделось Фриду достойным порицания. Возможно, он поступил бы так же.
Но нелегко было Фриденсрайху простить дюку, что тот не оказался рядом с ним в ту страшную хмельную ночь, воспоминание о которой до сих пор терзало его сновидения, поскольку и не было по сути дела воспоминанием, а лишь смутными вспышками затуманенных образов: мертвая жена, запах гнили, тлеющие свечи, вой ветра, дыра окна, обрывок идиотской, безумной мысли: «Какая изощренная месть женщины – родить, чтобы умереть, наказав меня». Как будто можно нечаянно умереть назло!
Но ведь можно. Фриденсрайх попытался сделать то же самое, а тот факт, что та, которой он хотел досадить, уже была мертва, не имел никакого значения. Если можно нечаянно выжить назло, значит, можно и нечаянно умереть назло.
И еще неизбывное чувство вины, ужаснее которого нет ничего на свете. Бешенство. Бред: «Я приношу одни несчастья».
Фриденсрайх проклинал свою бесшабашную молодость, слишком долго задержавшуюся. Молодость вообще – пору жизни, заставляющую верить мыслям, что вертятся в голове, не подвергая их критике, не подвергая сомнению веру в собственное всемогущество; ту пору жизни, которая заставляет совершать порывистые действия, не задержавшись для паузы.
Если бы Кейзегал оказался рядом с ним в ту роковую ночь, он задержал бы его, он удержал бы его, захлопнул бы перед его носом окно, двинул бы кулаком в челюсть, окунул бы головой в ведро ледяной воды, и держал бы там за волосы, пока Фрид бы не протрезвел. Кейзегал и сам был безрассудным, но в пределах собственной личности. Когда речь заходила о других людях, он превращался в эталон рассудительности, даже в самой ранней молодости. Таким было его воспитание. Ведь с младых ногтей приучали будущего сеньора к ответственности за подданных своих.
Но Кейзегала не оказалось рядом. Да и не мог оказаться рядом хозяин Нойе-Асседо, наводивший порядок в освобожденном городе. У него были дела поважнее. А к тому же не с миром расстались сеньор и вассал перед той страшной ночью. И не было в том вины Кейзегала.
Сколько времени может потратить человек на сожаления, прокручивая в мыслях одно и то же событие со всех сторон, углов, граней и вероятностей? Да хоть целую жизнь. И ничего не меняется.
Фриденсрайх избегал подобных мыслей так долго, как только мог, но вкус вина и пьяный дурман отбросили его на сто шагов назад.
Он так и не разучился мыслить в шагах.
Он так и не забыл о том, что утратил, и даже шестнадцать лет своевольного заточения вдали от полноценных людей, своим присутствием способных напомнить, не помогли забыть.
Короче говоря, Фриденсрайх пил, пока не утратил Зиту из виду. Когда Зита исчезла за дверьми балкона, его мысли сами собой и без всякого усилия поменяли направление.
Правда, он попытался изгнать и их, но слишком много вина помешало ему проявить волю и в этом случае. И казалось, что больше ничего не осталось проклинать. И больше ничего достойного внимания не осталось. И больше ничего вообще не осталось. Знакомое издревле, пугающее ощущение стремительно завертевшегося водоворота настигало его. Ему нельзя было пить. Ему нельзя было отпускать поводья. Если он и выжил, то только благодаря капкану воли, смирения и бесчувствия, в который себя загнал. Шаг влево – шаг вправо, и плотину прорвет. Как можно было об этом забыть?
– Сударь, разрешите вам представить мадемуазель Аннабеллу фон Крафт из Ксвечилии, – юная брюнетка броской красоты склонилась перед ним в изящном реверансе. – Его сиятельство маркграф Фриденсрайх ван дер Шлосс…
Йерве устало вздохнул. Язык его заплетался.
– Де Гильзе фон Таузендвассер, – помог ему Фриденсрайх и машинально поцеловал руку барышни. Сотую за этот вечер. А может, и двухсотую.
– Какая честь, – томно произнесла брюнетка, затрепетав длинными ресницами. – Я весь вечер мечтала…
– О чем это вы мечтали? – поинтересовался Фриденсрайх.
– Познакомиться с вами.
– Зачем? – спросил Фриденсрайх.
– Как же… Вы ходячая легенда, ваша светлость.
– Вы употребляете неуместные идиомы, мадемуазель фон Крафт, – дерзость вырвалась сама по себе. – Это, по меньшей мере, невежливо.
Лебединая шея барышни покрылась розовыми пятнами. Йерве смутился.
– Простите, сударь, я так неловка… Но я всего лишь хотела…
– Позвольте мне угадать, чего вы хотели, – под влиянием спиртных паров скрывать раздражение становилось все труднее. – Вы хотели сесть ко мне на колени. Запустить пальцы в мои волосы. Предложить мне свое тело и душу. Выманить у меня признание в том, что вы самая распрекрасная девица на этом балу, а потом рассказать своим подругам, в строжайшей тайне, что вы соблазнили легенду.
– Сударь! – Йерве не знал куда себя деть. – Как вы можете?
– Я все могу, юноша, – сказал Фриденсрайх, – покуда мне позволяют.
Красные пятна расползaлись по алебастровым плечам оскорбленной барышни, но, следует отдать ей должное, – она не дрогнула.
– Вы ошибаетесь, ваша светлость, – гордо заявила девица. – У меня есть жених. Не о любви я хотела поговорить с вами.
– Вот это новость! – Фриденсрайх отхлебнул еще вина. – О чем же?
– О смерти.
– Ах, о смерти. Что ж, заведем светскую беседу о смерти. Только что в ней может быть интересного?
– Самое любопытное в жизни это смерть, – сказала девица. – Никто с ней не знаком. Тех, кто посмотрели ей в глаза, больше нет среди нас. Кроме вас, сударь.
– Разве?
– Говорят, вы призвали ее, а потом прогнали. Как вам это удалось? Как она выглядит? В чем ее тайна?
– Сезон моды на смерть настал среди юных барышень?
Девушка с вызовом на него посмотрела.
– Мне просто нравятся загадки.
– Вам просто нравится казаться экстравагантной, – сказал Фриденсрайх. – Должно быть, вы полагаете, что в вас самой нет ничего достойного внимания, и вам необходимо пооригинальничать, чтобы вас выделили из этой толпы распрекрасных девиц. Чтобы я вас выделил, ходячая легенда.
– Зря вы обидеть меня желаете, сударь, – промолвила распрекрасная девица. – Моя мать внезапно скончалась недавно от апоплексического удара. Я скорблю по ней. Я желаю знать, существует ли шанс встретиться с ней еще когда-нибудь.
– Вы помышляете отправиться за нею следом? – спросил Фриденсрайх.
– Такая мысль не раз приходила ко мне, – с грустью призналась дочь хозяина порта, – но мне страшно. Я боюсь смерти. А вы вдохновляете меня, ваша светлость. Подобно Орфею, вы заставляете меня думать, что смерть обратима. Мне бы хотелось спуститься в царство мертвых, а затем воротиться назад. Научите меня, как это сделать.
– Какие бредни! – пробормотал Йерве в ужасе.
– Какое очаровательное сравнение, – усмехнулся Фриденсрайх. – Я погляжу, бредни юных барышень в наши дни все радикальнее. Влияние прогресса велико. Они не ходят кругами, в открытую заявляют о своих фантазиях, смущение и страх чужды им, они совсем забыли о скромности, отказались от церковного авторитета и от опыта поколений. Свободомыслие их вызывает мое восхищение. В самом деле, кому нужны эти древние предрассудки? Зрелые люди, к сожалению, слишком спешат накладывать запреты на бредни, ведь кажется им, что они родились сорокалетними, забывают они, что опыт пришел к ним следствием ошибок, совершенных благодаря бредням своим, а не вопреки.
– Сударыня, – несмотря на философскую трезвость этих слов, Йерве смутно почуял неладное, – не желаете ли потанцевать? Играют рондо.
Но девица проигнорировала Йерве. Ее внимание было всецело приковано к Фриденсрайху.
– Негоже скрывать полезные сведения от любознательных барышень. Попасть в царство мертвых проще простого, мадемуазель фон Крафт. Выпейте побольше киршвассера, перемешайте его с изрядным количеством полугара, разгневайтесь что есть мочи на кого-нибудь, да хоть на весь белый свет, и сиганите с самой высокой колокольни. Если вам повезет, кто-нибудь да вас поймает. Если же нет, и вас примет земля в свои объятия, – пеняйте на себя. Да и в любом случае, не мне вас отговаривать от безумств. Только помните, что с возвращением дела обстоят намного сложнее.
– Как же воротиться обратно? – спросила барышня.
– Понятия не имею, – сказал Фриденсрайх. – И я вовсе не уверен, что после такого вам захочется возвращаться.
– Вы же вернулись, сударь.
– К сожалению, это так.
– Как вам это удалось? – настаивала девица.
– Мне не понравилось то, что я нашел в царстве мертвых, – ответил Фриденсрайх.
– Что же вы там нашли? – спросила Аннабелла, в ожидании высшего откровения.
– Это не имеет никакого значения. Каждый обретает там то, зачем спускался.
– Вы слишком много выпили, сударь, – снова попытался Йерве воспрепятствовать ереси. – Не принести ли вам холодной воды?
– Значит, я найду там свою мать?
– Вовсе не обязательно. Скорее всего, вы найдете там свое собственное отражение, и так его возненавидите, что у вас не останется иного выхода, кроме как нестись сломя голову обратно.
– Скажите мне, как выглядит мое отражение?
У мадемуазель фон Крафт появился отрешенный тон человека, попавшего во власть наваждения. Йерве уже представлял себе, на что был способен Фриденсрайх фон Таузендвассер, когда терял узду, хоть пока еще смутно. Его способность проникать в души человеческие могла послужить как благословением, так и проклятием. Прав был приор Евстархий: не зря крестный отец боялся друга и соратника. Но дело было вовсе не в силе, удачливости, ловкости и красоте. Сам Йерве ощущал на себе влияние этого человека, чье безмолвие было опаснее даже его слов и поступков. Он ощущал, как влекло его к своему отцу, одновременно отталкивая.
Йерве понял в тот момент, как жилось его матери рядом с этим человеком, и почему она никогда не знала покоя, мечтала удрать в родной Аскалон, но не могла на это решиться.
Не менее смутное знание о том, какие демоны терзали душу его отца, постигло Йерве. И при этом он понимал, что смог это осознать лишь потому, что сам Фриденсрайх готов был приоткрыть ему завесу своей всепоглощающей личности, которую он изо всех сил пытался держать взаперти.
Беспокойство юноши все возрастало, наваждение овладевало и им. Ему захотелось позвать дюка, но он не смог узнать его в толпе.
А может быть, дело было всего лишь в усталости, которая играет в странные игры с сознанием человеческим.
– Я не провидец, сударыня, – тем временем, продолжал Фриденсрайх. – Такие сведения не даются даром. Зря я, что ли, прыгал в ров? Хотите получить право на бредни и свободомыслие? Будьте готовы заплатить непомерную цену, и будьте готовы сожалеть о ней весь оставшийся вам срок. А иначе все это пустые разговоры. Впрочем, этот разговор с самого начала был пустым. Не стоит забивать голову метафорами. Cмерти нет и бояться ее нечего. Бывает только прерванная жизнь. И больше ничего. Живите, пока можете, никакой тайны в этом нет, и это доступно каждому, у кого бьется сердце. Йерве, уведи мадемуазель фон Крафт танцевать.
Заколдованная девушка, казалось, вросла в землю, и Йерве пришлось чуть ли не силой волочь ее в круг танцующих.
Последняя капля пятой бутылки обашского упала на язык Фриденсрайха.
«Зита, – подумал Фрид, изо всех сил стараясь запретить себе мысль, но тщетно. – Я слишком долго ждал тебя. Приди ко мне, Зита».
Створка балконной двери распахнулась, и в темном проеме появилась женщина в безнадежно испачканном пылью, сажей и гарью бежевом блио. Ночной летний ветер шевелил змеевидные кудри, застилавшие лихорадочный взгляд. Она подняла руку, чтобы поправить волосы, но рука застыла в незавершенном жесте.
Она была похожа на призрак утраченных желаний, на разворошенную землю, на разрушенный храм, на загнанную память. Она была угасанием красоты, красотой распада, разверзшимся шрамом, укором совести, досадной ошибкой, раздраем, капканом, непрошеным бессмертием, ненавистью поколений, кровной враждой. Она была у него внутри. Он так долго ее презирал.
«Иди сюда», – подумал Фрид.
И она пошла, как будто он тянул ее за невидимую цепь, поплыла, едва касаясь мраморных плит. Ускользая от танцующих пар, снующих лакеев, проворных горничных, дюка, шла, пока не оказалась перед ним. Посмотрела стыдливо, смущенно, неуютно.
– Добрый вечер, сударыня, – сказал Фриденсрайх удивленно. – Я несказанно рад, что вы наконец соблаговолили вспомнить обо мне.
– Добрый вечер, господин фон Таузендвассер, – ответила Зита, не в силах потупить глаза.
– Почему вы не подходили ко мне целую ночь? Вы же, несомненно, понимаете, что я не могу угнаться за вами.
– Простите, сударь, но я не думала, что мое присутствие окажется вам полезным. Вашей благосклонности соискали столько именитых дам и благородных господ.
– Вы правы, госпожа Батадам. Моя благосклонность нынче в цене. Как жаль, что вас она оставляет равнодушной.
– Чего вы хотите от меня, сударь? – спросила Зита. – Мне показалось, что вы меня позвали.
– С чего это вам так показалось?
Зита сглотнула, не зная, что сказать.
– Не беспокойтесь, – сказал Фриденсрайх, – я понимаю, почему вы избегали меня. Мы столько времени провели в повозке, что теперь вам неловко глядеть на меня сверху вниз. Вы очень чуткая особа. В самом деле, верх неприличия – сидеть перед дамой. Я могу встать, если так вам будет проще.
– Не надо, господин фон Таузендвассер, – быстро проговорила Зита. – Не стоит. Сидите.
– Тогда и вы сядьте.
– Куда? – спросила Зита, ища глазами стул.
«Ко мне на колени», – подумал Фриденсрайх.
Задрожали ее собственные колени, в глазах зарябило, и сама она, как вода в озере под ливнем и ветром, помутилась, всколыхнулась. Стихийная сила этого человека была нестерпимой, непреодолимой, и больше всего на свете хотелось нестись от нее прочь, спасаясь и крича, но она не могла даже отступить на шаг назад.
«Ладно, – подумал Фриденсрайх, сжалившись над ней и призывая на помощь последние остатки воли. – Просто посиди рядом со мной».
Кликнул лакея и потребовал стул.
– Сядьте.
Фриденсрайх заставил себя отвернуться от нее. Она тоже глядела прямо перед собой.
– Я помогу вам, – сказал. – Что бы вы там ни пытались выяснить, я вам помогу.
– Но…
– Мне не важно, что вы скрываете. Я ничего не желаю знать.
«Я и так знаю слишком много», – подумал.
– Не бойтесь меня, – сказал. – Я не причиню вам зла. Во мне вы найдете лишь друга и защитника. Я не стану покушаться на вашу душу. Клянусь, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы держать себя в руках.
– Сударь…
Зита повернулась к нему, а в глазах ее застыла мольба. И трудно было сказать, о чем именно они его молили. Так было всегда. Они всегда молили о противоположных вещах.
– Лучше не смотрите на меня, Зита, – сказал Фриденсрайх, и тут же спохватился.
Но было поздно.
Зазвенели стекла, захрустели под каблуками. Вражеские сапоги топтали сад, вдавливали в землю упавшие с разрубленных деревьев яблоки и гранаты. Базилик, мяту, шалфей, лимонное сорго и кориандр. Вражеские палицы громили старые стены. Кружились по комнатам обрывки старых книг, выдранные листы, порванные переплеты.
Взгляд Зиты наполнился смертельным ужасом.
– Черт меня забери! – воскликнул Фриденсрайх. – Простите меня, ради бога.
И накрыл ее ладонь своею. Сжал пальцы. Зита ахнула, задохнулась, потерянным взглядом заглянула прямо в глаза человека, заставлявшего ее память звенеть. Страшные глаза, холодные, нездешние. Но рука его была тепла, прочна и тверда. Ласкова, бережна. Она хотела выдернуть руку, но вместо этого кисть сама собой перевернулась и замком вплелась пальцами между чужих. Которые и чужими вовсе не показались.
– Доверьтесь мне, – продолжил Фриденсрайх. – Да, я способен на глупые действия, но я всегда буду заботиться о вашем благе.
– Но почему? – одними глазами спросила Зита.
Он мог бы ответить: «Понятия не имею». Или: «Потому что я слишком долго относился к тебе с пренебрежением». Или: «По велению Рока».
Но вместо этого сказал:
– Я задолжал вашему народу. Я верну свой долг.
Глава XX. Легенда о маге
Разбрызгивалась музыка, из последних сил ударяли литавры, дребежали струны арф и мандолин, звенели бокалы, шуршали платья, но Фриденсрайх и Зита ничего не слышали, и будто невидимый купол накрыл их, отгородив от суеты.
Человеческое внимание ограничено, особенно если его приковывает объект, в который вкладывается изрядное количество одибила – животворящей душевной энергии. Во всяком случае, так утверждал доктор Сигизмунд Дёрф в своих трактатах.
– Что вы имеете в виду? – спросила Зита.
– Вы хотите моей правды, но доверие покупается только доверием.
– Вы торгуетесь со мной? – глаза Зиты помрачнели.
– В этой жизни ничего не дается бесплатно, – ответил Фриденсрайх, и тон его резко изменился, как если бы он решил вытянуть струйку одибила из Зиты.
Она моментально это почувствовала. Когда из вас вытягивается чужой одибил, вы ощущаете опустошенность. Особенно если это одибил человека, в которого вы влили свой. И это очень неприятно.
Хрупкий невидимый купол растворился в оглушающей музыке, в хрусте битого стекла, в пьяных криках, в дебоше, в дуэльных вызовах, в шепотах любовных признаний, в спорах о преимуществе мечей над саблями, в хлопках игральных карт, в чавканье жующих челюстей, в шелесте летней листвы за окнами Арепо.
Трое кавалеров дрались из-за Джоконды, повалившись на ковер у картежных столов, а дюк растаскивал их в разные стороны с помощью Йерве. Нибелунга шепталась с мадемуазель Аннабеллой и показывала пальцем на кучу малу.
– Вы слышите? – спросил Фриденсрайх.
– Слышу? – пробормотала Зита.
– Сигнал валторны строгой. Бал подходит к концу. Мне бы хотелось закружить вас в танце. Мне бы хотелось оторвать вас от земли, понести над землей, подарить вам крылья.
Под влиянием свежей струи одибила звуки снова стали далекими.
«Вы и меня поработить желаете», – подумала Зита.
«Нет, не желаю, – подумал Фрид. – Вы свободны».
– Когда закончится бал и гости разойдутся, приходите в сад за дворцом. Я буду ждать вас.
Сердце Зиты бешено заколотилось. Она не знала, как ответить на такое предложение, и не знала, было ли оно пристойным или нет. Зита не доверяла мужчинам. Одно дело сидеть рядом с ним в многолюдной зале, а другое… Зита не доверяла себе.
– Что вы смотрите на меня, как на упыря или вепря, – улыбнулся Фриденсрайх. – Я всего лишь хочу говорить с вами. Довериться вам. Придете вы или нет – на то ваша воля. Лучше всего остального я умею ждать.
– Вы бы лучше удалились на покой, – пробормотала Зита. – Поздно уже.
– Неужели я похож на человека, который может обрести покой? – улыбка превратилась в усмешку.
– Вы похожи на человека, которому нужен покой.
Замолчали. Глядели друг на друга. Зита не выдержала взгляда.
– Объявили последнюю фолию. Дюк Кейзегал желает танцевать с вами. Танцуйте с ним, а я погляжу.
– Что вы сказали? – не поняла Зита.
– Вы прекрасно танцуете. Танцуйте, сударыня. Раз я не могу танцевать с вами, позвольте мне хоть глядеть на вас. Кейзегал понесет вас над землей вместо меня.
Владыка Асседо и окрестностей возвышался над одибиленной Зитой. Человек неиссякаемой мощи и силы, которому все было дозволено. Хам и грубиян, судья и палач.
– Как ты вовремя подоспел, – обратился Фриденсрайх к другу и соратнику. – Дама изъявляет желание подарить тебе последний танец на этом нескончаемом балу. Госпожа интересовалась, помнишь ли ты, как танцуется фолия.
– Разумеется, помню, хоть этот танец и вышел из моды лет десять назад, – дюк окинул Зиту внимательным взглядом. – Похоже, Фрид, ты утомил мадам Батадам своей болтовней.
– В самом деле, – согласился Фриденсрайх. – Уведи даму от меня подальше, чтобы я не злоупотреблял ее вниманием.
– Вы бегаете от меня весь вечер, будто я прокаженный, – бесцеремонно заявил дюк. – Мой язык не так хорошо подвешен, как у господина маркграфа, но он и не жалит. Вам нечего меня бояться – я не стану брать вас силой, хоть и мог бы. Этой ночью я приду к мадам де Шатоди, так как ее кавалеры совершенно не умеют пить и вряд ли на что-то способны.
– Зачем тебе мадам де Шатоди? – спросил Фриденсрайх.
– Мне нужна женщина, – прохрипел дюк. – Йерве оторвал меня от Виславы три… нет, уже четыре дня назад. Я не железный, а вдовушка красива и не станет сопротивляться. Я слишком утомлен, чтобы уговаривать женщину. Я тоже человек. Мне нужен покой.
Зита хотела что-то сказать, но дюк схватил ее в охапку, приподнял над землей и понес в фолию.
Дюк был жилист, силен и тверд, как каменное изваяние. Дыхание его было горячим, проспиртованным, и вырывалось из ноздрей, как у боевого коня. Трудно было представить его танцующим этот медлительный танец, однако дюк оказался превосходным танцором, немногословным, и рук в перчатках не распускал.
Зита успокоилась, закачалась в неспешном ритме, и буря ее мыслей и чувств улеглась тихим штилем. Спустя несколько па Зита поняла, что несмотря на свою грозность, напускную разудалость и невежливость, дюк Кейзегал был ничем иным, как покоем. Покой был у него внутри. Большим кораблем был дюк, на чьей палубе никакие штормы не страшны, и все волны и валы разбиваются о широкие борта ничтожными помехaми. Он поддерживал ее ровно на такой дистанции, которую она была готова соблюдать.
Все теплые лиманы принадлежали дюку, и просоленный летний бриз, и песчаные золотые берега, заливы и лагуны, поняла Зита, чье сознание ускользало, и сам он был открытой гаванью, распахивающей объятие любой утлой шлюпке. Он укачивал ее.
Сама себе не веря, прижалась к дюку покрепче, положила голову ему на грудь, закрыла глаза и зевнула. Возможно, она даже заснула на несколько мгновений. Или на дольше.
Во всяком случае, она проснулась на широкой кровати. Теплый ветер, шепчущий из открытого окна, колыхал полог.
За окном было темно, глаз выколи.
Вскочила Зита с кровати. Сколько времени прошло? Луна висела высоко над землей и звала ее. Ее ждали. Ждали и ждали. Она заставила его ждать!
По непреклонному зову луны, дребезжащих струн, схватила Зита светильник, выбежала из незнакомой комнаты, помчалась по широким коридорам, освещенным канделябрами, наугад, по ковровой дорожке, по зову сердца и одибила, по велению прилива.
Добежала до первой приоткрытой двери, дышащей летней ночью, пролетела по ступеням в сад, благоухающий черемухой, акацией и сиренью.
Мчалась по дорожке, усыпанной гравием и опавшими лепестками, на огонек, трепещущий в гуще листвы.
Беседка, увитая плющом, пряталась в кустах шиповника. Фриденсрайх фон Таузендвассер сидел за столиком в кресле о четырех колесах. Теребил развязанные под горлом тесемки белой батистовой камизы, подперев голову другой рукой. Черные локоны, слегка тронутые лунным следом, падали на белую бумагу. Горели свечи на столе. Бутылка киршвассера стояла рядом с подсвечником, чернильница и гусиные перья в подставке, пузырек с изумрудной жидкостью.
Застыла Зита на пороге беседки. Затрепетало пламя в ее лампе. Заволновалось море. Закружилась голова.
Фриденсрайх обернулся.
– Я ждал вас.
– Простите, что так поздно… я не заметила…
– Ничего страшного, – улыбнулся Фриденсрайх. – Я никуда не спешу. Кейзегал вас убаюкал. Я видел. Вы заснули, и он отнес вас в апартаменты, которые приготовил для вас Шульц. Надеюсь, вы выспались. Бал давно закончился. Гости разъехались. Кое-кто заснул на полу. Проспятся, и завтра уедут. То есть, уже сегодня. Идите ко мне.
Она подошла. Как же иначе? Бал давно закончился, но музыка не прекращалась. Вальс в миноре. Тревожная мелодия для флейты и клавикордов с дождливыми каплями ксилофона зыбью пробегала по нервам.
Подошла, опустилась перед ним на вымощенный мавританскими расписными плитами пол беседки, как сидела в детстве у ног отца своего. Посмотрела снизу вверх.
– Встаньте, – сказал человек. – Что вы делаете?
– Чем ближе мы к земле, тем ближе к небу, – отвечала Зита. – Чего вы хотите от меня, сударь?
– Я хочу помочь вам. И я это сделаю. Но чего хотите вы от меня? – спросил Фриденсрайх. – А от себя?
Падали тяжелые капли прямо на сердце. Встревоженный мотив качал ее из стороны в сторону, как голую ветвь.
– Вы странный человек, – промолвила Зита. – Вы страшный человек. Я не могу сопротивляться вашей воле. Говорите, что надо вам от меня, и я исполню вашу волю.
– Зачем? – спросил Фриденсрайх.
Зита могла бы ответить: «Понятия не имею». Она могла бы сказать: «Потому что так меня приучили». Или: «Потому что так было всегда». А может быть: «Потому что такова воля Всевышнего». А еще она могла бы сказать: «Потому что от голоса вашего память моя воскресает, а ваше прикосновение дарует мне забвение». Но вместо этого, неожиданно для самой себя, она сказала:
– Потому что я доверяю вам.
– Но почему? – снова спросил Фриденсрайх.
«Потому что мы испили из одной чаши» – подумала Зита.
«То был всего лишь красивый жест» – подумал Фрид.
– Потому что ваш сын, от которого вы отказались, доверяет вам, – ответила Зита. – Кто я такая, чтобы опровергать его доверие?
– Мой сын юн и неопытен.
– Вы лжец, – Зита опустила глаза.
– О чем же я лгу? – спросил Фриденсрайх.
– О том, что вы утратили, – ответила Зита.
– Вы плачете, – сказал Фриденсрайх.
– Это плачете вы, – моргнула Зита.
– Не плачьте, – сказал Фриденсрайх. – Впрочем, плачьте, если вам так угодно. Я не властен над вами.
«Неужели?» – подумала Зита.
– Вы слишком много выпили, господин фон Таузендвассер, – еще мгновение, и ее поглотит бездна бездн. – Вы обещали держать себя в руках и не посягать на мою душу, но мы уже выяснили, что вы лжец.
– Вы правы, – согласился Фрид. – Я пьян, и зря вы доверяете мне. Только последний болван стал бы доверять водовороту в реке.
– Вы оскорбляете меня, – сказала Зита.
Фриденсрайх взялся за бутылку, приложился к горлышку.
– Вы не пили шестнадцать лет, – испугалась Зита. – К чему вам опять эта погибель?
– Все из-за вас, разумеется, – усмехнулся Фриденсрайх. – Я не мог отказать вам, и пригубил из благословенной чаши, а один шаг неизбежно влечет за собой следующий. Вы это хотели услышать?
– Что вам нужно от меня? – с грустью спросила Зита. – Вы говорите, что хотите мне помочь, а потом нападаете на меня, будто я ваш враг.
– Позвольте мне говорить.
– Говорите, сударь, – сказала Зита.
А подумала: «Ничего не желаю сейчас сильнее, чем слышать ваш голос».
– Когда-то я носил пулены из лошадиной кожи, – неожиданно признался Фриденсрайх. – Известно ли вам, целомудренной женщине, зачем дворяне носят эту чудовищного уродства обувь? За обеденным столом я был способен довести до исступления двух женщин сразу. Сотрапезницы, что сидели за столом напротив, рука об руку со своими мужьями, украдкой приподнимали юбки. У меня очень длинные ноги, сударыня. Я доставал до самых глубин, не сдвинувшись с места, вежливо беседуя с соседями, что сидели рядом со мной. Это искусство я довел до совершенства. Дамы платили друг другу за право занять место напротив меня. Их стоны заглушал смех, искусанные губы, изодранные в клочья салфетки. Зардевшиеся лица скрывали веера. Господь наградил вас смуглой кожей. Вы не умеете краснеть, и за обеденным столом супротив меня вам было бы легче других справиться с выдающим вас смущением. Я бы наградил вас своим пуленом. Вас одну, не взглянув даже на вашу соседку. А вы забыли бы о своей целомудренности, как предпочли забыть о том, что сотворили с вашим прошлым. Но некоторые вещи недоступны забвению.
– Вы сами виноваты, – лопнула в Зите напряженная струна. – Вы сами все это над собою учинили!
Вскочила с земли, но Фриденсрайх дернул ее за локоть и привлек к себе. Рукоять кресла послужила преградой, волнорезом для шквала. Но недостаточной. Она упала грудью на его плечо. Руки сами собой обвили его. Лоб потянулся ко лбу, губы – к губам. Зита в ужасе отпрянула. Опустилась на скамью, от греха подальше.
– Вы хотели знать, что я утратил. Что же теперь вы пугаетесь моих откровений? Откровения не даются даром, ни говорящему, ни слушателю. Вам ли этого не знать? Вы напоминаете мне о том, что я утратил, – значит, вы мне враг. Вы напоминаете мне о том, что я утратил, – значит, вы мне друг. Вы напоминаете мне о том, что я утратил, значит, вы – моя возлюбленная. Вот, я доверяюсь вам. Почему же вы вскакиваете?
– Простите, господин фон Таузендвассер, – задыхаясь, промолвила Зита. – Вы слишком долго молчали, а затем выслушивали других. Вам нужен слушатель, я поняла. Говорите, я буду вас слушать.
Фриденсрайх еле заметно кивнул. Отвел глаза, и яростный прилив одибила схлынул. Отлив обнажил голый берег, ощерившийся острыми скалами.
Когда сходит на нет влияние одибила, разум вступает в свои права.
Удивительной красоты человек сидел рядом с ней, пленник собственной слабости, пленник собственной силы. Пламя свечей подчеркивало его дерзкую безупречность. Но красота его была усмешкой. Горькой иронией Всевышнего. Она предопределила его судьбу задолго до того, как он был способен осознать, как использовать этот злой дар. Людям кажется, что наружность – печать Господня, признак высшей благосклонности. Красивые люди, обласканные вниманием, восхищением и щедрой любовью, ни в чем не знают преград, и до смертного одра не верят в свою финальность. Им кажется, что Всевышний бережет их для некой высшей цели.
Но он был красотой увядания, торжеством раскола, гибелью разума, мольбой о пощаде, потревоженной памятью, спаленным домом, отнятым детством, перебитыми корнями, изгнанием, скитанием, отчаянным поступком, горькой травой, потерей, утратой, горем, последним убежищем, порванным молитвенником, рогами жертвенника, запечатанными Вратами Милосердия. Кем бы он ни был, он всегда был внутри нее.
– Кто вы? – спросила так, на всякий случай, не ожидая услышать ответа.
– Фрид, – усмехнулся человек, не ведающий ни мира, ни покоя.
– Те, кто дали вам такое имя, не знали вас совсем.
– Вы правы, – снова согласился Фриденсрайх. – В наши тревожные времена родители часто умирают задолго до того, как успевают узнать своих детей.
– Вам повезло, – сказала Зита. – Вы еще успеете узнать собственного сына. Пусть же Отец Небесный однажды впишет вас в Книгу Судеб именно под этим именем: Фрид.
– То же самое говорил тот человек.
– Какой человек? – спросила Зита.
– Человек из вашего народа. Тот, перед которым я в долгу.
– Расскажите мне о нем.
– Слишком долго рассказывать, – Фриденсрайх снова припал к бутылке киршвассера. – Если я успею, однажды я расскажу вам все в подробностях. Он сохранил мне жизнь, чего бы она ни стоила. И продлил ее лет на шестнадцать. Разве я смел просить о большем?
Поставил полуопустошенную бутылку на стол. Протянул к Зите руки, и она снова подалась к нему безотчетно, влекомая новым шквалом одибила, но Фрид лишь развязал черную ленту, стягивающую над локтем широкий рукав ее блио. Собрал длинные волосы на затылке и лентой этой повязал. Бронзовый одинец тускло замерцал в правом ухе.
На кольце висела подвеска в форме граната с тремя зубцами. По периметру овала были выбиты старинные письмена. Фриденсрайх отстегнул серьгу, положил на открытую ладонь.
– Он утверждал, что эта безделица украшала подол ризы Первосвященника. Тут написано, как в Книге Судей: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Там рассказывается о том, как судья Гедеон построил жертвенник, и назвал его «Господь – мир». Помните, Зита?
– «Он до сих пор в Офре Авиезеровой», – сам собой вырвался из памяти библейский стих.
– Он отдал мне это украшение, потому что имя человеческое предопределяет судьбу. Так он говорил. Впрочем, в моем случае он глубоко заблуждался. Я возвращаю его вам. Оно принадлежит вашему народу.
Зита не посмела прикоснуться к святыне.
– Вполне возможно, что он лгал, и это всего лишь подделка, – подбодрил ее Фрид. – Вполне возможно, что он сам ее изготовил, – он был на многое горазд. Он смастерил для меня это кресло, чтобы я мог свободно передвигаться по Таузендвассеру.
Фриденсрайх нажал на какой-то рычаг, и кресло само собой, как по волшебству, отъехало от стола.
– И эти кандалы – его рук дело, – указал на железные оправы, сковывающие его ноги по всей длине. – Чтобы ноги меня держали. Он даже сделал мне специальное седло, которым я пользовался некоторое время, но больше не могу. Ему всегда хотелось подарить мне утешение. Он бился надо мной, но в основном бестолку.
– Что это за человек? – недоумевала Зита.
– Просто человек, – ответил Фриденсрайх. – Он вполне мог быть моим отцом. Или вашим. Он многому меня научил, но не успел поделиться всеми знаниями, ведь я утратил его до моего сорокалетия. Он говорил, что некоторые вещи постижимы лишь только после сорока. Я не согласен с ним. Некоторые вещи непостижимы никогда.
– Каждому человеку нужен наставник, – сказала Зита.
– Я в этом не уверен. Порой думается мне, что никакой наставник не способен оградить человека от любви к войнам. Шестнадцать лет я ждал врага, достойного противника. Я дождался, но ко мне явился друг, и он явился с миром. Я не знаю, что мне теперь делать. Я рожден и воспитан воином, и я не могу воевать. Мне не с кем воевать.
Взглянул на Зиту, и она увидела изъян в безупречной красоте. Неуловимо и неопределенно левый глаз Фриденсрайха отличался от правого. То ли цветом, то ли формой, то ли расположением косых ресниц.
– Что же вы делали в течение шестнадцати лет? – спросила Зита.
– Ждал, – повторил Фрид.
– Вы лжете. Самому себе.
– Войны внутренние заменили мне внешние битвы. Я боролся с самим с собой, с Роком, со своей предавшей меня душой и со своим бесполезным телом, – и это было больше похоже на правду.
– Нет, не то, – все же возразила Зита. – Душа не может предать человека. Раз вы решили лишить себя жизни, значит, на то у вас были причины. Иногда следует уничтожить себя, чтобы ожить. Душа это знает. Слава богу, что вы остались живы. Что вы делали в течение шестнадцати лет? Почему не позвали вашего друга и соратника?
– Я прятался от мира. От глаз людских. Я стыдился себя. Было время, когда я и представить себе не мог, что Фрид-Красавец, о силе и отваге которого слагали баллады, покажется в таком плачевном виде всему Асседо и окрестностям, включая остров Грюневальд, что на Черном море. Мне не хотелось быть посмешищем.
– А сейчас?
– Сейчас мне все равно. Я давно понял, что люди не способны разглядеть то, что спрятано за их собственным воображением.
Фриденсрайх печально улыбнулся, и она увидела щербинку на правом верхнем боковом резце.
– Что же вы делали все эти шестнадцать лет? – повторила Зита свой вопрос. – Почему вы не позвали дюка? Почему вы не желали встретиться с собственным сыном?
– Я горд и упрям. Мне не нужны милости с барского плеча. Я ждал, пока дюк не изменит своему решению. Я проверял, кто из нас сильнее. Как видите, я опять победил.
– Какие бредни, – с упреком промолвила Зита. – Какие ужасные глупости вы говорите, господин фон Таузендвассер. Я не верю ни единому вашему слову.
– Возьмите серьгу, – сказал Фриденсрайх, снова открывая ладонь. – Я дарю ее вам. Думается мне, это счастливый оберег, хоть я и не верю в сказки.
– Зачем вы лжете и увиливаете?
– Я не лгу, – левое веко Фриденсрайха предательски дернулось. – Правда бывает многоликой. Не ищите одну-единственную. Каждый человек состоит из противоречий. Люди неоднозначны, как и их мотивы.
– Нет, – уверенно сказала Зита. – Вы умнее меня, образованнее, и способны играть словами, как пуленами, доводя людей до исступления, но жизнь научила меня отличать правду от кривды. Чем вы занимались в течение шестнадцати лет?
Фриденсрайх улыбнулся.
– Вы очень любопытны, сударыня. Когда человек длительное время пребывает вдали от других, он обнаруживает в себе неожиданные склонности. Когда я мог, я посвящал все свое время и силы перу и бумаге.
– Вы писали? – удивилась Зита. – О чем?
– О дочери, которой у меня никогда не было и не будет, о двух городах, которых никогда не существовало, о временах, которые никогда не наступят. Я писал о том, о чем говорить не комильфо. Я находил утешение в иллюзии, что я способен к созиданию, а не только к разрушению. Вымысел целебен. Я не жил в этих городах, но я наблюдал за их жизнью, и в такие счастливые минуты мне казалось, что я свободен от самого себя.
– Что же вы сотворили? – спросила Зита с огромным интересом.
Взгляд Фриденсрайха затуманился, и стал еще более нездешним, если такое вообще было возможным.
– Одессу.
– Одесса… – протянула завороженная Зита.
– Благословен город Одесса. Господь добр к его веселым жителям. Железные кони несутся по вымощенным улицам града, не зная устали, звеня и громыхая. Огонь и свет добывается из воздуха. Вода и пища дается каждому без усилий, ведь мор, засуха и гиблые урожаи городу не страшны, как не страшны ему враги, которых у него нет, и нет необходимости окружать его стеной. Все пути к нему и из него открыты. Ни нищих нет в Одессе, ни обездоленных, а тот, кто болен, – тому находится лекарство. Страж города, идол над высокими ступенями, сбегающими к порту, привечает огромные корабли, которым не нужны паруса, и не нужна благосклонность ветров. В отличие от Асседо, в Одессе может произойти все что угодно. Никаких законов в ней нет, никаких ограничений, и за три часа пути каждый может переправиться из нее в Град Обетованный, стоит только пожелать.
– Но зачем покидать такое чудесное место даже ради Обетованного Града? – спросила Зита.
– Зачем? Я и сам не знаю. Не моя это воля.
– Чья же? – спросила Зита.
– Той, которую я сотворил. Я не властен над нею. Как не властен я над вами, хоть это и противоречит моим желаниям.
– Мне бы хотелось прочесть ваше творение. Мне бы хотелось познакомиться с дочерью, которой у вас никогда не было.
– Возьмите и прочтите, – сказал Фриденсрайх, указывая на кипу бумаг. – Сберегите их в память обо мне.
Зита положила ладонь на бумаги. От листов исходило мягкое тепло.
– Шестнадцать лет вы творили вымысел, – произнесла Зита в задумчивости. – Вы писали о том, чего не было никогда и не будет. Вы обрели смысл, цель и утешение. Но неужели не проще было бы вернуться в мир живых людей? Вас ждали. Вашего слова ждал дюк. Вас ждало все Асседо. Настоящее, живое. Неужели вы не заметили, как оно радо вам? Вас ждал ваш сын – живой и настоящий.
Фриденсрайх снова помрачнел.
– Я объяснил вам свои причины.
– Как могу я доверять вам, если вы ни слова истины не произнесли?
– Не доверяйте, в таком случае, – пожал плечами Фриденсрайх, злостно играя своим одибилом. – Воля ваша. И так и этак, я всегда буду на вашей стороне. Вы нужны мне по одной-единственной причине: хоть какой-то порядочный поступок я обязан совершить, пока не сойду в могилу. Вы – удобный повод хоть как-то уравновесить чаши моих весов на Страшном Суде. Мне бы не хотелось отправляться из ада прямиком в ад.
– Покажите мне свой ад, – терпеливо сказала неподвластная ему женщина. – Откройте мне правду.
– Зита, – сказал Фриденсрайх, и брови его опасно свелись над переносицей, глубокая вертикальная морщина пересекла чистое чело, – чего вы хотите от меня?
– Правды, – ответила Зита, сама не зная, зачем она так ей нужна. – Вы горазды на вымысел, ваша светлость, но с истиной вы не в ладах. Почему вы решились покинуть Таузендвассер именно теперь, шестнадцать лет прожив взаперти?
Опустошил Фриденсрайх бутылку киршвассера на еще одну четверть. Провел по губам тыльной стороной ладони.
Он был так дьявольски красив, что невозможно было представить его и ад в одном предложении. То есть, божественно красив. То есть, запредельно. Как дрожь перед чистым листом, готовым к чуду творчества. Как светлая печаль разлуки. Как теплое взбалмошное море Асседо, подсолнухи и солнечная степь, проносящаяся за окном поезда, когда стук колес, в такт биению сердца, обещает, что все впереди, стоит только начать жить. Как любимый герой из детских книг про плащи, шпаги, вечную дружбу, братство и поруку. Как кадры из старых фильмов, затертые видиком до дыр. Как само детство. Как сама Одесса. Как юность родителей на чёрно-белых фотографиях. Как их свадьба – с цветами, свидетелями и банкетом в ресторане «Волна». Как их первая любовь. Как ожидание первой любви. Как последний день зимы. Как первый день каникул. Как импортный пенал, наклейки и вкладыши из жвачек. Как когда ты выздоравливаешь от гриппа, и можно целый день валяться в кровати с книгой, и никто тебя не будит по утрам. Как новогодняя елка и подарки под ней. Как пятерка с плюсом в дневнике. Как викторина, в которой достается победа. Как площадка с горкой и качелями. Как когда тебя забирают первой из детского сада. Как мамина улыбка. Как папина похвала. Как бабушкин борщ. Как дедушкины плечи, на которых можно сидеть, пока он ищет тебя по всему дому, восклицая: «Где моя внучка?». Как запах свежих бубликов. Как теплое молоко. Как первый крик. Как безвременье материнской утробы. Как случайные совпадения, похожие на чудеса. Как все хорошее на свете. Как невинность и наивность предпубертата. Как нечто настолько намечтанное, что не могло в нем быть никакой смерти, никакой неудачи, ничего плохого, никакой скверны, никакой пошлости, никакого цинизма, никакого разочарования, ничего настоящего.
Но он требовал подлинности. А в настоящем всегда больнее, чем в воображении. Иногда настолько больно, что хоть криком кричи, призывай ад хоть тысячу раз, но от себя все равно никуда не сбежишь.
Снова достал Фриденсрайх бутылку киршвассера. Опустошил ее на еще одну четверть. Вытер тыльной стороной ладони губы.
– Правда проста, Зита. Очевидна и бесхитростна. Она всегда лежит на поверхности. Неужели даже вам она не видна? Мой сын, не различающий лиц, разглядел ее сразу. Вы желаете проникнуть в мою душу, вместо того, чтобы взглянуть на мое тело. Я предложил вам поиграть в войну, но вы отказались. Я предложил вам мир, но вы и его не взяли. Я предложил вам любовь, но она испугала вас. Зачем же вы теперь терзаете меня?
Глаза напротив замерцали и впились в Зиту, внедрились в ее горло, в мозг и в сердце.
Почувствовала, как сжались ее ребра в тисках боли. Как помертвел ее позвоночник. И как будто страшный удар молота обрушился на ее колени. Зита задохнулась от крика, который ей не удалось издать.
«Не может быть! Прекратите! Слишком жестоко!», – сорвалась мысль.
«Однако, это так», – ответил Фрид.
– Рок всегда усмехался надо мною. Я упал в ров. Я мог разбиться насмерть, но этого не случилось. Я мог сломать себе позвоночник, и остаться парализованным, бесчувственным к боли, но и этого не произошло. Я все чувствую, точно так же, как шестнадцать лет назад. Раны затянулись, но раздробленные кости болят всегда. Шестнадцать лет я мог так жить. Физическая пытка иногда даже служила мне спасением. Я был молод и все еще полон сил. Я научился терпеть. Тот человек научил меня некоторым методам. Я не мог позволить себе наложить на себя руки. Я не мог решиться. Видите ли, дело даже не в малодушии, а в суеверии. Рок воскресил меня, и я не смел посягнуть на его волю, ибо то, что находят грешники за пределами бренного мира, страшнее любого земного страдания. Меня спасал лауданум, но я всегда помнил, что им нельзя злоупотреблять, потому что это лишь временное средство, и когда влияние его иссякает, становится только хуже.
Зита глядела на него широко распахнутыми глазами, и страшное, гиблое, ледяное море швыряло ее в глухие пучины.
– Сейчас я вынужден об этом забыть. Я способен говорить с вами, сидеть здесь и улыбаться только благодаря маковым слезам. Прежде вымысел часто помогал мне. Иногда мне помогали настойки из лесных трав, иногда – сила воли и упрямство, иногда – скачка, горячая вода, иногда – милость Божья, иногда – ярость, иногда – цель ожидания, стремление сохранить человеческий облик, образ и подобие, воспитание, глупая вера в Рок. Иногда – черт знает что. Живые люди мне не были нужны, напротив, они бы навредили мне еще больше. Есть дни, в которые я не способен ни на что, кроме криков. Они проходят. Но потом возвращаются. Тишина моего замка помогала мне. Родные стены помогали мне. Прах предков в усыпальнице, их тени. Я не мог покинуть Таузендвассер, даже если бы очень захотел, потому что древний замок внушал мне веру и надежду на чудо, и даже та рухлядь, в которую он превратился, была предпочтительнее императорских покоев, ведь только в родном доме человек может быть самим собой, и крики его никого не испугают. Вам это прекрасно известно, Зита.
Ей снова захотелось закричать.
– Тише! – потребовал Фриденсрайх. – Не надо. Мне бы хотелось заставить вас кричать по другим причинам. Боль не лжет никогда. Разве я мог воспитать сына? Разве я мог дать ему то, что полагается каждому человеку по праву рождения, – любовь, заботу и внимание? Моих сил хватало на то, чтобы выживать, но больше ни на что. Мне это было очевидно и шестнадцать лет назад, в тот день, когда Кейзегал явился ко мне. Я должен был, был обязан заставить его забрать моего сына. Что за романтические намерения вы все приписываете мне, вместо того, чтобы узреть простоту очевидности? Зачем вы выслушиваете мою ложь, вместо того, чтобы посмотреть на меня? Черствые люди, занятые собою. Вы боитесь уродства. Вы гоните прочь мысли об ущербности, о скорби и упадочности. Отрицаете бессилие человеческое, ограниченность и божественное беззаконие. Вам проще обвинить меня, превознести меня, пожелать меня спасти и наречь чудовищем, чем узреть простую правду моей обреченности, гнили, что живет во мне, песочных часов неизбежной смерти, этой проклятой ловушки издерганной плоти, в которую я сам себя загнал, и некого мне винить, кроме себя самого.
– Фрид, – вскричала Зита, стремясь к нему через все преграды, и дело было вовсе не в одибиле, но докричаться не могла, – я слышу вас. Я понимаю! Вы ни в чем не виноваты. Вы просто были молоды.
– Ничего вы не понимаете, – сквозь стиснутые зубы процедил Фриденсрайх. – Шестнадцать лет я мог так жить. Я был силен. Я был упрям. Я был горд. Но больше не могу. Мне стало хуже. Сорок лет не проходят бесследно. Еще несколько месяцев, и все закончится. Дюк явился вовремя. Кейзегал всегда знал меня лучше всех. Я надеялся, что он убьет меня. Но не вышло. Я надеялся, что он поможет мне убить себя, но он воспрепятствовал мне. Не верьте мне, Зита, – я не хочу умирать. Я никогда не хотел умирать. Я никогда не помышлял о смерти. Я наивно полагал, что все мне позволительно, что Рок хранит меня, что игра со смертью – всего лишь игра, из которой я непременно выйду победителем, как выходил победителем в любой схватке. Но все это – сущие бредни. Я люблю жизнь, со всей ее бесцельностью, болью и неизбежностью. И с каждым днем я люблю ее все больше, несмотря на день ото дня растущий соблазн покончить с нею раз и навсегда. Не забавно ли это? Дюк забрал меня из северного замка, потому что пришло время. Время прощаться с жизнью. Прощаться с нею с миром.
– Вам не слушатель нужен, не друг, не враг и не любовница. Вам нужен лекарь, – поняла Зита.
– Никакой лекарь мне не поможет, – возразил Фриденсрайх. – То, что я над собою учинил, не подлежит исцелению. Я давно с этим смирился. Я старею, и каждый день ужаснее прошедшего. Не лекарь мне нужен, а волшебник. Маг. Чародей. Чудотворец. Колдун. Шаман. Алхи…
– Где его взять? – перебила Зита. – Разве существуют на свете колдуны? Где их искать, скажите мне, Фрид! Вам необходимо помочь.
Страшная усмешка исказила прекрасное лицо, и Зита увидела посмертную маску, в которое оно скоро превратится.
– Не стоит мне помогать, – сказал Фриденсрайх. – Гиблое это дело. Сущие бредни. Маги – выдумкa молвы.
– Что вам известно о них? – уцепилась Зита за последнюю надежду.
Фриденсрайх откупорил зеленый пузырек, капнул на язык три капли. Прикрыл глаза.
– Существует старинная легенда о маге, но верить ей – неразумно. Я не верю в сказки. К тому же, эта сказка слишком бесчеловечна, чтобы задумываться о ней всерьез, да и слишком бессмысленна, ведь, чтобы заручиться помощью чародея, человек должен принести пять нечаянных жертв.
– Нечаянных? – переспросила Зита в ужасе.
– Взыскующий помощи мага не должен знать, что совершает жертву. Как можно знать, не ведая, хотите вы спросить, и, не ведая, знать? Я и сам не понимаю. Дурацкая легенда. Басни из чердака.
– Каких жертв требует маг? – пробормотала Зита и волосы зашевелились на ее голове.
– Понятия не имею, – ответил Фрид. – И знать не желаю.
– Но почему? Какая разница, правда это или вымысел, если это ваш последний шанс?
– Вы непоследовательны, сударыня, – сказал Фриденсрайх. – Выбирайте: что важнее – правда или вымысел?
– Я не знаю, – призналась Зита.
– В таком случае, соглашайтесь со мною: человек есть противоречие.
– Я соглашаюсь с вами, – сказала Зита, изнутри сопротивляясь своим словам.
– Дело в том, что стоит нам задуматься о сказке, как сама жизнь слагается в вымысел, и кажется нам, что это не мы выдумали сказку, а сказка выдумала нас. Не магия это, а игры разума. Мы слагаем о себе мифы, но ни один из них не правдивее другого, и каждая история – лишь вариант того, что мы хотим поведать о себе случайному слушателю, попутчику в повозке. Мне хватило нечаянных жертв. Для меня не существует спасения. Я покинул Таузендвассер, потому что мне осталось всего лишь несколько лун. Я не мог отказаться от соблазна взглянуть на Асседо еще один раз. Моя родина дорога мне. Я знавал в ней немало светлых моментов, она была добра ко мне и щедра, она хранила меня всю мою шальную молодость. Я попытаюсь избавить от своих криков тех, кто мне дорог, благо, запасов лауданума мне вполне хватит на месяца три или четыре, и не осталось причин ограничивать его употребление. Прежде, чем покинуть зимой эту землю, мне захотелось вдохнуть летнего степного воздуха, взглянуть напоследок на море, отдать долги, увидеть старинных знакомых, и попрощаться, чтобы уйти с миром. Вот и все.
– Вы лжете, – произнесла неподвластная ему женщина, переборов одибил. – Вы не желаете знать эту легенду, чтобы принести пять нечаянных жертв, не ведая о том, что их совершаете. Вы не утратили надежду. Вы никогда не смирялись. Вы не готовы уйти с миром.
– Вы плачете, – сказал Фриденсрайх и сделал еще один глоток из зеленого пузырька. – Такова цена правды и доверия. Но они того не стоят. Лучше сберегите мой вымысел.
Собрал бумаги со стола и протянул их Зите вместе с бронзовым гранатом.
– Повесть окончена? – спросила Зита.
– Нет, – ответил Фриденсрайх. – Мне не успеть.
– Мы найдем чародея, – прошептала Зита. – Обязательно найдем. Вам нельзя покидать Одессу!
– Нельзя покидать Одессу, – повторил Фриденсрайх и улыбнулся. – Дайте мне вашу руку.
Она протянула руку. Горячие губы – наследие гонителей, обожгли смуглую кожу – наследие гонимого народа. Бились и хлопали вдали черные паруса, вскипало море, опрокидывалось в Зите.
– Мы выясним, что скрывается в подвалах Шульца, – сказал Фриденсрайх, – обязательно выясним. Тогда вы расскажете мне о том, что утратили вы. Но не сейчас. Поздно уже. Идите спать, сударыня. Ночь на исходе.
Он выпустил ее руку.
– А вы? – спросила Зита.
– С вашего позволения, я еще побуду в Одессе, – сказал Фрид, достал перо, обмакнул в чернильницу, и вывел на белом листе…
Глава XXI. Жизнь девственницы
Ливень шумел в саду с самого рассвета. Громыхал гром, вспыхивали фиолетовые молнии, буйная зелень стучалась в стекла. Гардины на приоткрытых широких окнах Голубой столовой вздувались, как паруса. Пахло влажной почвой, мокрой пылью и свежестью. Пахло тем временем года, когда начало осени больше похоже на конец лета, и что-то неуловимо меняется в воздухе, хоть и непонятно – что.
Хозяева и гости уже сидели за ломившимся от яств столом. Вышколенные лакеи, во главе c управляющим, вытянулись по струнке.
– Доброе утро, господа и дамы, – дюк обвел присутствующих благосклонным взором человека, чьи потребности полностью удовлетворены. Все, кроме одной. – Где Фрид?
Осторожно смахнул с бархатного рукава пурпуэна божью коровку. Та распахнула крылья, взлетела, приземлилась на палец Шульцу.
– В Арепо не принято будить гостей, – широко улыбнулся Шульц и прихлопнул букашку.
– Черт с ним, пускай дрыхнет. Надеюсь, в этот раз он не забыл запереть дверь на засов, – дюк окинул подозрительным взглядом уродливых дочерей Шульца.