Ментальности народов мира
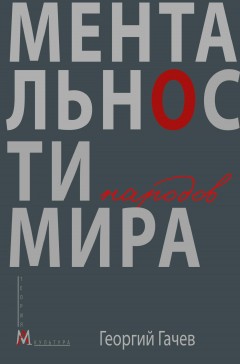
© Г. Д. Гачев (наследники), 2024
© Оригинал-макет, оформление. Издательская группа «Альма Матер», 2024
© Издательство «Альма Матер», 2024
От автора
Национальное – стало жгучей проблемой в современном мире. Политики разжигают национализм и торопятся практически «решать», не подозревая, с какой многослойной толщей бытия и культуры тут приходится иметь дело.
Наш подход – не прагматико-идеологический, но культурно-эвристический: понять национальное как особый талант зрения, в силу которого человек (ученый, художник…) из данного народа склонен открывать одни аспекты в бытии и духе, а выходец из другой традиции – иные. Наша цель – явить взаимную дополнительность, как бы разделение исторического и культурного труда между странами и народами, описать национальный мир и ум как инструмент с особым тембром в симфоническом оркестре человечества и так продемонстрировать богатый спектр в наличном достоянии современной цивилизации Земли. Возлюбленная непохожесть – этим дорожить надо, это наша общая ценность. Ценить надо то, что не я и не мы, а значит, знают и умеют то, что восполняет – мое уникальное тоже умение и понимание… Таков пафос сей книги. Она призвана содействовать взаимопониманию между народами и культурами.
Национальные образы мира я описывал почти 30 лет. В 1991 году я был приглашен в США прочесть в Весленском университете курс лекций на эту тему. Шестнадцать томов рукописей захватить с собой в Америку я, естественно, не мог, и когда мне надо было в трех-четырех лекциях описать Английский или Итальянский, или какой другой образ мира, я мог опираться только на память… Но это и хорошо: вспоминались только самые важные тезисы, идеи, образы. Так что забвение выполняло абстрагирующую, отсеивающую работу.
Во-вторых, лекции я читал на английском языке. Не владея им как родным, я был несколько стеснен в выражении мысли: не мог предаваться раздольной игре слов и образов… Но это и лучше: в результате текст – а я был должен писать свои лекции заранее, не надеясь на экспромт, – вышел более жилистым, мускулистым. На русском языке я такого сжатого курса лекций не смог бы написать: соблазнялся бы там и сям порастекатися мыслию по древу…
Когда же курс был прочитан и вот возникла идея дать его и для русской аудитории, я принялся – переводить себя… – на себя же! Предлагаемый текст – это как бы авторизованный самоперевод с английского. При этом иногда возникали нечаянно «англицизмы» – совершенно понятные неуклюжести, но они так освежительны, что я их не правил.
В курсе три части. В первой – поставлены общие проблемы и изложена техника, какою проникать в национальный мир и описывать национальный ум, «менталитет» (как ныне модно это обозначать. Во второй – даны «портреты» национальных миров. Для полноты картины, чтобы представить множество вариантов национальных миросозерцаний, я присовокупил сюда несколько своих опусов, в которых охарактеризованы культуры стран, которых я в лекциях не затрагивал. А третья часть курса – семинарий, практикум, упражнения в анализе разных аспектов национального: как оно сказывается в естествознании, в кино, в индивидуальности художника.
Почему я избрал именно термин «Национальные образы мира» для обозначения проблемы, подробно объясняется в первой части курса, посвященной общим вопросам. Но заранее должен оговорить его приблизительность и что границы его весьма расплывчаты. Вполне допускаю, что другие ученые могут предложить иные общие понятия (например, «национально-исторические особенности культур», «национальный менталитет» и др.) и работать с ними, исследуя аналогичный предмет.
Часть I. Общие вопросы
Лекция 1
Здравствуйте! Значит: желаю я вам здоровья, мой слушатель или читатель. Итальянец же бы вас приветствовал так: Come sta? = «Как стоишь?» Француз же бы поинтересовался: Comment çа va? = «Как это (нечто) идет?» Подобно и немец: Wie geht’s? = «Как идется?» Иудей сказал бы «Шалом!», что значит: «Мир!» Англичанин (и американец) бы спросил: How do you do? = «Как вы делаете?»
Уже в простом и повседневном акте взаимного приветствия люди разных народов выражают свои «символы веры», подчеркивают, что ценно для них в существовании. Для русских – здоровье, целостность, для англичан и американцев – работа, труд, для евреев – мир, для итальянцев – стабильность, статика, вертикальное измерение бытия, для французов и германцев – движение, динамика…
Таким образом, уже в повседневной речи мы разговариваем на языке сверхценностей, используем философские идеи и принципы, но не осознаем того, употребляя их бессознательно. И я призываю вас быть внимательными к привычкам будничного словоупотребления. Многие фундаментальные категории и понятия там залегают, подразумеваются. Если мы осознаем их, это даст нам важное средство проникновения в арсенал архетипов и принципов, в шкалу ценностей, что формируют национальную ментальность данного народа, его культуру. Корни слов в особенности содержат ключи к основополагающим идеям, и в них надо вслушиваться острым слухом, испытывать их и допытываться.
Я называю мою тему – «Национальные образы мира». Или – «Этнические картины мира» (Ethnic Pictures of the World) – так перевели в Америке в 1969 году мою первую статью на эту тему: «Национальные картины мира», опубликованную в журнале «Народы Азии и Африки», 1967, № 1. Или – «Национальные ментальности». Я предполагаю (еще до исследования предмета, так что это – гипотеза), что каждая национальная целостность: народ, страна, культура – имеет особое мировоззрение, уникальную шкалу ценностей. Я не стану настаивать на строгом определении терминов: «национальный», «этнический», «региональный» и т. п. Они практически переплетаются, их границы размыты. Но и того смутного представления о них, которое каждый имеет, будет достаточно для нашей цели и работы. Предаваться изощренным предварительным дискуссиям по уточнению терминов – эта софистика была бы тратой времени: в ней завязнешь до дела самого. «On s’engage et puis on voit», – говаривал Наполеон. «Надо ввязаться в дело, а там видно будет». А дело наше – конкретные описания, сопоставления и толкования различных национальных целостностей: Россия, Америка, Греция, Франция… Одни из них, как Россия и США, – сверхнациональные образования, а Древняя Греция существует в настоящее время лишь как культурный феномен, но термин «национальное» в состоянии обнимать и покрывать все эти реальности.
В предпринимаемой нами работе есть серьезная интеллектуальная польза: понимание того, как одна идея, та же вещь может представляться и пониматься различным образом, вариантно, – это расширит умы, освободит их от стереотипов. Есть также и этическая, моральная ценность в такого рода исследовании: если я буду осознавать ограниченности своего кругозора и понимания (не только как мои личные, но и как проистекающие от моего членства в данной национально-культурной целостности), я буду с большим уважением относиться к другим народам, которые могут видеть и понимать вещи и идеи, которых я не понимаю.
Есть даже своего рода психотерапия в такого рода медитациях. Ведь каждый человек обеспокоен насчет своей «идентичности»: куда себя отнести, к какой группе? Каждый принадлежит к той или иной этнической группе или есть дитя смешения народов, живет или на родине, или в другой стране, на «чужбине». «Кто же я такой? – это первый и главный вопрос при пробуждении ума или рефлексии. – Русский, англичанин, грузин, еврей, американец?» А если американец, то какого происхождения: ирландского, польского, итальянского, китайского?.. «Познай самого себя!» – древняя сократова заповедь каждому человеку. Но реализована она может быть только в процессе познания окружающего мира. Это двуединая задача и работа: познавай себя и познавай мир.
Для меня – я должен признать это сразу – проблема национального самоопределения была одним из главных стимулов, побудивших меня заняться темой «Национальные образы мира». Мой отец – болгарин из-под Родопских гор на Балканах. В 1926 году он прибыл как политэмигрант в Советский Союз – «обетованную землю», как это казалось издалека социалистам-романтикам. И действительно: вначале отец смог развернуться как философ музыки, литератор. Он писал о Вагнере и Декарте, о Бетховене и Стендале, переписывался с Роменом Ролланом, защитил диссертацию и издал книгу «Эстетические взгляды Дидро»… Но в 1938 году он был арестован как «враг народа», сослан на Колыму, где и умер… Учась в Московской консерватории на музыкально-научно-исследовательском отделении, он встретил там еврейскую девушку из Минска, которая стала его женой и моей матерью. Я родился в 1929 году в Москве, так что моя родина – Россия (или Советский Союз как ее временное продолжение), а родной язык – русский. Так кто же я такой? Какова моя «национальная идентичность»? Должен ли я и могу ли я считать себя членом болгарской целостности, или еврейской, или русской и следовать какой-то определенной (и какой?) традиции, системе ценностей – считать ее своею, примыкать к какому-то стилю в мышлении?.. Но ведь я не совпадаю, не совмещен («конгруэнтно», как говорят в математике при наложении треугольников…) ни с одной из них. Я – смешанный. Я имею отношение ко всем им, но не полностью, а частично. В той же математике в теории множеств есть такое явление, как «пересечение множеств».
Заштрихованная область – это моя личная «земля», персональная «почва», которая стала основанием для моих исследований различных национальных образов жизни и миросозерцаний. Перед аналогичной задачей – самоопределения в национальном отношении – стоят многие. И я надеюсь предоставить некую интеллектуальную терапию, излечение от тревог и беспокойств своему слушателю и читателю…
Раз уж я начал исповедоваться, то – еще одно признание. Все хорошее в этой жизни, что положено человеческому существу, я испытал: и любовь, и семью, и красоту в природе и в искусстве, причастился к сокровищам культуры, испытал наслаждение свободной мысли и радость творчества… Только вот мира не видел, не мог путешествовать в другие страны: не посылали, не пускали, да и денег не было. У нас ведь, в Советском Союзе, за «железным занавесом», только «проверенным товарищам» дозволено было выезжать… Я очень страдал от этой невозможности. Даже такой эпизод был в моей жизни, когда я, тридцати трех лет от роду, будучи кандидатом наук и научным сотрудником Института мировой литературы Академии наук, бросил все и нанялся плавать матросом в Черноморском пароходстве в надежде попасть в загранплавание и увидеть таким образом мир. В течение двух лет (1962–1963) работал моряком на Черном море, но мне не открывали визу… Я вернулся в Институт и принялся читать о разных странах и культурах, описывать их, сравнивать. Теперь я понимаю, что мои описания национальных образов мира стали моим способом путешествовать – умом и воображением. На несколько лет я зарываюсь в ту или иную страну: в Индию, Германию, Америку и т. п., читаю о природе, истории, обычаях, кухне, религии, изучаю литературу, философию, науку и технику, проникаюсь национальным языком и его логикой – и в результате пишу портрет этой национальной целостности. Таким образом я удовлетворял свою потребность видеть мир в течение 30 лет. Много таких портретов мною написано, целая серия в 16 томах. Некоторые уже начинают публиковаться, но большинство – еще у меня в рукописях. Некоторое резюме этих исследований и «дайджесты» национальных портретов и будут мною предложены в этих лекциях.
То, что я исповедуюсь в личных мотивах своих научных исследований, нарушает принятый в науке этикет, согласно которому всякие чувства, психологию, авторскую субъективность следует оставлять за скобками, а подавать надо объективные результаты, – а что нам до твоих эмоций и прочих слез и соплей!.. Но ведь всякая научная теория имеет личностное происхождение, и отдать себе в этом отчет важно не только для честности мысли, но и для ее глубины и именно объективности. Ведь при открытых картах идет тогда научная игра, и слушатель и читатель может видеть мои ограниченности и где меня заносит страсть в односторонность идеи, и имеет возможность со стороны меня судить и выправлять мою мысль. Да и вообще такая «отчетная» авторская мысль прозревает вещи и сцепления, которых не зрит мысль безотчетная. Потому я именую такое мышление ПРИвлеченным (ATtract) – к ответственности, в том числе и передо мной как человеком живущим, в отличие от мышления Отвлеченного (ABStract), которое почтенно и ритуально в науке. А культурологию, которую я развиваю, я называю ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИЕЙ.
В экспериментальной физике XX века столкнулись с тем, что прибор влияет на получаемые данные опыта: потоки элементарных частиц, пролетая в поле прибора, испытывают из-за него отклонения, и надо делать поправку на вторжение прибора в опыт. Ну а в гуманитарной науке что прибор? А вот я – такой-сякой человек, подверженный страстям, комплексам и настроениям, которые гнут мысль сегодня в этом направлении, а завтра, встань я с другой, там с левой ноги, – в ином. На все это и надо делать поправку – и хорошо, когда сам это делаешь или по крайней мере не умалчиваешь, а вносишь в текст, а читатель уж да смекает и судит сам…
Итак, эти мои портреты национальных целостностей неизбежно субъективны, это МОИ ОБРАЗЫ о национальных образах мира разных стран и народов. Читатель пусть сомневается, критикует, моя мысль да провоцирует его собственную, порождает творческую активность его ума – чего же более может ожидать автор от своего текста? У меня нет претензии и амбиции дать точное понятие (это и невозможно в подобных материях), но стремлюсь дать идею, представление об избранном предмете, раскрыть его проблемность.
В последние годы я наконец получил возможность повидать некоторые из стран, которые я перед тем описывал в своей манере «интеллектуальных путешествий» (как у Стерна – «сентиментального путешествия» жанр). С удовлетворением я обнаружил, что мои основные интуиции оказались верными. Я внес, разумеется, некоторые поправки в свои описания под влиянием конкретных впечатлений и наблюдений. Но, к своему удивлению, я не нашел в душе того творческого импульса, который двигал моим умом, когда я должен был работать только внутренним видением умозрения, когда я мог за один год (зимой 1975–1976 гг.) написать тысячу страниц об американском образе мира – книгу, которую бы я, если издавать, озаглавил: «Америка глазами человека, который ее НЕ видел».
Так я осознал, что мой интерес и азарт заключается не в том, чтобы ЗНАТЬ точно, но в том, чтобы, не зная, – УГАДАТЬ правдоподобно. Вот что возбуждает творческую силу во мне. ЭРОС УГАДЫВАНИЯ – вот что вдохновляет и ведет в такой работе. Живые впечатления этому даже мешают. В отличие от журналиста, который в своих очерках описывает множество любопытных особенностей и курьезных деталей, я стремлюсь докопаться до некоего единого принципа, что лежит в основании всего сооружения национальной жизни, цивилизации, составляет его динамическую душу, «энтелехию» (= «целевую причину»), которая, по Аристотелю, в начале и в конце данного организма, целого, и одушевляет развитие и ведет как бы спереди, из будущего, и проследить затем ее разветвление в многообразии фактов здешней жизни и культуры. Платон полагал, что наше познание есть в сущности ПРИПОМИНАНИЕ того, что душа врожденно знала, но забыла среди забот и впечатлений повседневной жизни, а вот в сосредоточении умозрения может восстанавливать это знание. Подобным образом и наш разум обладает способностью реконструировать различные миропонимания как возможности и вариации Мирового Духа, а также и нашего личного сознания с Ним…
То, чем я и мы будем заниматься, – это не «национальная проблема», не «национальный вопрос» – эта болезненная, мучительная и неразрешимая дилемма (ПОЛИ-лемма, лучше сказать, ибо множество в ней поворотов…), что обуревает фанатиков и доводит до головной боли политиков во все времена, в том числе и нынешнее. Для меня это не проблема, которую надо разрешать бинарным: «или – или» способом, но – гносеологическая радость, благословенное изобилие интеллектуальных вариаций, в каких можно представлять идеи и творить вещи. Индивидуум, выросший в атмосфере определенной национальной культуры, одарен ею талантом особого видения явлений бытия – даже в физике, не говоря уж об искусстве и поэзии. Национальная природа и дух питают интеллект и воображение своих детей, снабжают особыми архетипами, оригинальными интуициями, неповторимыми образами, странными ассоциациями. ЭВРИСТИЧЕСКАЯ сила национальной ментальности: дар открывать и изобретать особым образом – вот что меня интересует более всего.
Я осознаю, что много возражений можно выдвинуть против моего подхода, и я сам лучше всех мог бы оспаривать свои же построения. Мне возражают: так ли уж различны умы народов? Разве не все мы одинаковые человеческие существа, способные понимать все? Разумеется, все равные и равноценные. Но взгляните на инструменты оркестра. Они все – музыка, все исполняют ее. Но один – флейта, другой – скрипка, труба, фагот, арфа… Каждый обладает своим тембром и добавляет свою краску в симфонию Вселенной. И следует ли нам обижаться на другой инструмент из-за его неравноподобия мне: валторне, например, на фортепиано? Напротив, восхищаться надо, обожать его особый тембр и талант, то особое знание и умение, которыми он одарен, а я их лишен, не умею так. ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НЕПОХОЖЕСТЬ! Вот что да будет наш пафос в исследовании национальных особенностей.
Отличия народов друг от друга с самой древности занимали умы. Для первобытного племени другое – это уже не «мы», что у славян, например, в отношении германцев высказалось: они – НЕМЦЫ, то есть то ли «не мы», то ли «немы» = не умеют говорить по-нашему. Все человечество в примитивном сознании совпадает с нашим племенем, этносом, а прочие – это уже «нелюди», часть природы. (Этноцентризм и национализм у современных людей – рудимент такого воззрения.) С развитием контактов и в ходе истории стали понимать, что другие этносы – это тоже люди, но только иные. Путешественники, торговцы стали описывать разные страны, так что именно в книгах по землеописанию – географии находим характеристики народов как обитателей своих (нам чужих) стран. Знаменита и интересна в этом отношении «География» Страбона: она сводит и обобщает знания античности о странах и народах Европы, Азии и Африки. Но до того в книгах по истории эти данные можно было встретить, в частности, в «Истории» Геродота. И у философа Платона в его диалогах, например в «Государстве» и «Законах», есть наблюдения и размышления об образах жизни и понятиях разных общественных групп, народов и соответствующем им устройстве государств.
В Новое время классические сочинения, близкие к нашей теме, следующие. Джамбатиста Вико – «Основания новой науки об общей природе наций» (1725), Монтескье – «О духе законов» (1748), Гердер – «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791), Гегель – «Философия истории» (лекции в 1820-е гг.), Данилевский – «Россия и Европа» (1869), Шпенглер – «Закат Европы» (1918–1922), Тойнби – «Исследование истории» (1934–1961). Собрали богатейший материал и расширили наши представления о менталитете народов мира исследования по первобытной культуре – Тэйлора, Фрезера, Леви-Брюля, Леви-Стросса, Е. М. Мелетинского. Науки, занимающиеся предметами, входящими в круг наших интересов, – это этнография, лингвистика, семиотика, социокультурная антропология, культурология и др. Назову также авторов, труды которых имеют непосредственное отношение к тому, чем мы занимаемся: Л. Н. Гумилев, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, С. С. Аверинцев, А. Я. Гуревич и другие.
Лекция 2
Нас интересует не национальный характер, а национальное воззрение на мир, не психология, а, так сказать, гносеология, национальная логика, склад мышления: какой «сеткой координат» данный народ улавливает мир и, соответственно, какой Космос (в древнем смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в созданиях искусства и теориях науки. Этот особый «поворот», в котором предстает бытие данному народу, и составляет национальный образ мира.
Плодами истории являются как цивилизация, общая для всех и способная переноситься и строиться, так и культура, которая вырастает. Нельзя построить дерево. (Хотя тут же ловлю себя на слове и возражаю: а по-немецки «дерево» = Ваит, от глагола bаиеп = «строить», так что как раз «построенное» оно буквально и значит! И вот уже задача для будущего распутывания…) Цивилизацией современные народы сближены, культурами различены, и в этом, с одной стороны, возможность взаимопонимания, а с другой – красота разнообразия.
Но с чем постоянно сталкиваемся в общении? Все произносят одни и те же слова – и на политических конференциях, и на международных научных симпозиумах, а ведь люди из разных культур разумеют под ними очень разные вещи. Знаки – те же самые: «бог», «права человека», «справедливость», «закон», «время» и «пространство», «секс», «хороший вкус», «художественное» и т. п., но понимание, комплексы представлений и идей, что залегают под этими знаками, различны, а иногда и противоположны. И как могут быть одинаковыми представления, например, о «свободе» у англичанина, который датирует традицию личных гражданских свобод еще с «Великой хартии вольностей» XIII века и для кого «свобода» значит self-madeness, самостроительство и самоответственность, сдержанность и самообуздание, способность владеть собой и условиями своего существования, – и у русского, или, как говорят ныне, «россиянина», который только вышел из патерналистских режимов империи и социализма и который может понимать свободу прежде всего как развязывание внешних уз и удержей, как волю вольному и что теперь все позволено?.. Или о «рыночной экономике»: как могут вкладывать одно и то же понятие в эти слова американец, у которого его цивилизация уже при ее основании почти четыре века назад строилась на этом принципе свободными индивидами и с тех пор постоянно развивалась в одном этом направлении, совершенствуя этот тип производства, – и тот же самый россиянин, кто после почти века коллективно-социалистической экономики и воспитания находится сейчас в понимании о том, что есть рынок, даже не на нуле, а в минусе?.. Но и напротив: понятия о «братстве», «товариществе», «самопожертвовании за родину» – тут русский американцу сто очков вперед даст. Или в «беседе по душам» и о «высших материях», о «смысле жизни», не считаясь со временем, не переводя его в деньги…
Беда же – в том, что об этой разности разумеемого и подразумеваемого под одними и теми же терминами и словами в большинстве случаев и не подозревают. Чтобы мнимое взаимопонимание максимально приближалось к действительному, надо делать поправку на национально-историческую систему понятий и ценностей, т. е. учитывать, что представитель другого народа может видеть мир несколько иначе, чем я.
Но как? Что видит он в мире такого, чего я не вижу? И от чего это зависит? Вот в чем загвоздка. Если удалось бы как-то прояснить этот вопрос, в наше распоряжение поступил бы словно некоторый «коэффициент», который облегчал бы контакты между народами и культурами.
В общем виде решение проблемы национальных мировоззрений ясно: интернациональное и национальное находятся в единстве, определяемом единством мирового исторического и культурного процессов. (Хотя сразу сомнение возникает: есть ли на самом деле такое «единство» или это – старомодное гегельянское представление?) Однако, как только мы пытаемся более конкретно определить, в чем именно заключается национальное своеобразие данной целостности, культуры, нас сразу подстерегает ряд опасностей.
Это, во-первых, произвол, импрессионизм и необязательность суждений. Эту опасность можно постараться предотвратить с помощью сравнительно-исторического подхода. Во-вторых, затрагивание национальных чувств, обычно очень щепетильных к попытке определения, т. е. ограничения своего мира и понятий (Спиноза говорил: Omnis determinatio negatio est = «Всякое определение есть ограничение», потому что оно исключает другие связи данной вещи, идеи с прочими). Здесь единственное спасение – доброжелательность и объективность анализа – при той предпосылке, что каждый народ воспринимает и понимает все бытие в целом и ничье видение не выше и не ниже, а все неподменимы и необходимы человечеству. Могут быть различия в историческом уровне развития культуры, народа, но не в их возможностях.
Но одно дело – иметь общее убеждение, что все народы воспринимают единый мир, но по-разному его представляют, а другое – видеть, как это по-разному. И вот, чтобы изучение национального своеобразия протекало напряженно и дало больше результатов, исследователю, по-моему, полезно исходить из, так сказать, ПРЕЗУМПЦИИ НЕПОНИМАНИЯ как рабочей гипотезы. В самом деле, если я, придя в другую страну и знакомясь с новым человеком или идеей, заранее полагаю, что здесь встречу то же самое, что я уже знаю, но с некоторыми нюансами, – я слишком самоуспокоен, мой мозг ленив и самодоволен и, естественно, подсунет мне привычную схему мира, и я так и доложу, что здесь все то же самое, лишь свою расцветку дают да орнаменты вышивают по одной и той же канве и одному рисунку главного; ничего существенно интересного и особенного нет, значит, и поучиться здесь нечему. Но если я войду с трепетным ожиданием встретить неведомое, парализую свои привычные схемы, попробую превратить свой ум в tabula rasa (чистый лист), чтобы новый мир там беспрепятственно писал свои письмена, и буду вслушиваться – о! тогда больше гарантии, что я постигну здешний образ жизни и мыслей. Сказав себе: «Я не понимаю», – ученый всегда в итоге работы добывает более глубокое знание, чем сказав себе: «Я понимаю». Так что «презумпция непонимания» не только не ставит преграды реальному пониманию между народами, которое и так осуществляется жизнью, но имеет целью расширить это понимание, чтобы оно было более сознательным.
Главная проблема: есть ли у каждой национальной целостности некая устойчивая физиономия, структура мира и мышления, относительно не зависящая от времени, – или все они на одно лицо, а разнятся лишь тем, что одни находятся на более ранней, а другие – на более поздней ступени исторического развития? Конечно, и национальное находится во времени (вместе с Землей и жизнью на ней), но его период обращения, его «год» – иной, чем год исторический. При том, что все народы под одним солнцем и луной и почти одинаковым небом ходят, вовлечены в единый мировой исторический процесс (и этот покров, крыша их объединяет и приравнивает друг другу), они ходят по разной земле и разный быт имеют, из различной почвы вырастают, жизненными темпоритмами различены. А отсюда ценности, общие для всех народов (жизнь, свет, дом, семья, слово, бог и т. п.), располагаются в разном соотношении. Эта особая структура общих для всех элементов (хотя и они в каждом национальном мире понимаются по-разному, имеют свой акцент) и составляет национальный образ, а в упрощенном выражении – модель мира. Это можно рассматривать как определение.
Лекция 3
Рассмотрим теперь элементы разнообразия. Что более важно и как бы врождено данному народу в его культуре?
Пространство или Время? Для германцев – Время роднее. Согласно Канту, Время есть априорная форма чувственности человека, a Innere, внутренняя жизнь души, – привилегированная ценность в германской шкале сверхидей. Sein und Zeit – «Бытие и Время» – философский труд Мартина Хайдеггера. Для русских же Пространство более свойско. Недаром в нем тот же корень, что в слове «страна». Англосаксонское уравнение: «время = деньги» не могло бы прийти в голову русским. Ну а в Соединенных Штатах как? Страна столь же обширна, как и Россия. Но англосаксы высадились сюда с принципом Труда и Времени как его мерой. Так что отношение Пространства ко Времени, т. е. Скорость здесь важнейшее: отсюда быстрота, успех – ценности.
Или возьмем проблему Вертикальной или Горизонтальной преимущественно ориентации в мире. Для России, которая «бесконечный простор» (Гоголь), горизонтальные идеи: Даль, Ширь, Путь-Дорога – превалируют. Германские же архетипы: Tiefe (Глубь), Höhe (Высь), Stammbaum (генеалогическое Древо), Haus (Дом) видятся априори в каждом существовании, т. е. вертикальный акцент.
То же самое – в Италии, где «комната» – ul, что значит буквально «стоянка» (ср. французское logement = «лежанка»), а в приветствии, как уже говорилось выше, спрашивают: Соте sta? = «Как стоишь?» Однако здесь обнаруживаются различия уже в вертикальной ориентации. Италия – космос нисходящей вертикали, а Германия – восходящей. В итальянской архитектуре купол, арка есть небо, опускающееся на землю. В германской кирхе готический шпиль есть усилие земли проткнуть небо, как и Вавилонский столп. В немецком языке характерны восходящие дифтонги: auf, aus, ein, а в итальянском – нисходящие: ia (mia), ua (quanto), ue (questo). В Италии Галилео Галилей развил в механике теорию «свободного падения тел». И в итальянском мелосе часто встречается мелодия типа «вершина-источник», ниспадающая секвенциями, как арки в палаццо (неаполитанская тарантелла, Санта Лючия, ария Чио-Чио-сан и т. д.). В германской музыке усилие к восхождению, завоеванию выси (ср. кульминации бетховенских разработок) знаменательны. Сравните аналогичные по настроению предсмертный дуэт Аиды и Радамеса в опере Верди и «Смерть Изольды» у Вагнера. В первом – плавные ниспадания, во второй – восхождение из глубины в бесконечную высь.
Соотношение Мужского и Женского начал (китайские Ян и Инь) специфичны в каждом национальном космосе. Россия = «мать сыра земля», ее главная река Волга – «матушка» и кукла здесь – «матрешка». В Германии – отчизна Vaterland (в России – Родина-мать), и ее главная река Рейн – Vater Rhein, «отец Рейн».
Существуют страстные отношения между странами в историко-космическом Эросе, во взаимовлечении-отталкивании их историй. Германия выступала как мужское начало в отношении к России, как и Англия – к «сладкой Франции» (douce France) с ее Девой Жанной д’Арк. Вообще страны романско-католического Юга с их культом Матери-Девы выступают как женские в отношении к германским, англосаксонским, протестантским странам Севера, где утрачен культ Богоматери. Зато возрастает в удельном весе ипостась Святого Духа в Троице, а Бог акцентирован не как Отец, а как Творец, чем освящает принцип Труда, «ургии» там. В Америке Соединенные Штаты – мужское начало по отношению к романско-католической Латинской Америке, имеющее там свой гарем малых стран. Однако в наше время вдруг маленькая Япония вонзается в обширные и рыхлые Штаты, как Давид контра Голиаф… Китай – мужчина при Индии-женщине и т. п.
Растительный или животный символизм – тоже важный аспект в различении национальных миросозерцаний. Для кочевых народов, где человек – кентавр на коне, священны животные: Конь, Верблюд, Лев, Овца. Так это для арабов, тюркских народов: наши казахи, киргизы… Вспомним образность киргизского писателя Чингиза Айтматова. И на юге Европы: в Греции, Италии – животные интимнее душам народов. Греческие боги Олимпа – животноподобны, с эротическими страстями, и все разнообразие мира порождено, согласно «Теогонии» Гесиода, в бесконечных соитиях титанов, богов и богинь. В Платоновом «Тимее» Бог сотворил Космос как совершенное животное; «гилозоизм» там распространен – учение о живой материи. В Риме священна Волчица, сосцы которой вскормили братьев Ромула и Рема, и в первой песне Дантова «Ада» три хищника символизируют человеческие страсти. А вот в России, Польше, Германии превалирует растительная символика: лес, дерево, трава, лист, цвет, зерно. В Англии и Франции равномерны животная и растительная символика: собака, волк, лиса, птицы, цветы, сады. В Соединенных Штатах фавориты – хищные животные: Белый Клык у Джека Лондона, Спрут и краб у Норриса и Драйзера, Акула в «Старике и море» Хемингуэя, Кит в «Моби Дике» – сии океанные обитатели Атлантики, которую пересекать приходилось иммигрантам и которые залегли архетипами в их подсознание. Но главный символ там, конечно, – Машина. Автомобиль – творение искусственное. И там выведен новый кентавр – man-in-a-car = человек-в-машине.
Культуры и миропонимания различаются тем, как они понимают происхождение мира и всего в нем. Порождены они Природой или сотворены Трудом? Генезис или Творение? В Старом Свете Евразии цивилизации развивались в каждой стране от натуры к культуре постепенно, но и тут свои акценты. Для миросозерцания Эллады типичен взгляд на все как на порождаемое: Теогония и Космогония. Для иудеев характерен креационизм: Творение мира Богом за 7 дней. Эти принципы я обозначаю терминами ГОНИЯ и УРГИЯ. Первое от греч. gonē = рождаемое, того же корня, что и «ген», и обозначает то, что порождено природой, возникает естественно. Второе – от греческого суффикса деятеля ourgos, означающего «труд», «работу», как в слове «демиург» (творец, труженик, ремесленник) или в моем имени «Георгий», которое означает «земледелец». «Ургия» – это искусственное сотворение, создание трудом, понимаемое как первоценность в сравнении с бессознательным рожанием Природы.
В Германии «ургия» преобладает. Немцы знамениты в труде и чувстве формы (они просто не умеют работать плохо) и в инструментальной, «ургийной», не вокальной музыке, которая более натуральна, «гонийна». Ургия тут перехватывает и продолжает гонию. Даже слово «дерево» – Baum (как уже говорилось выше) означает вместе и нечто растущее, и «построенное»: это причастие от глагола bauen = «строить». И «крестьянин» по-немецки Bauer = буквально «строитель», конструктор на земле.
Для русского сознания происхождение вещей – вообще не столь важный предмет для мысли; гораздо важнее – зачем все? для чего? Но если уж делается выбор, то склонны, скорее, к «гонии»: Бог его знает, как все возникает, может быть, рождено Матерью-Землей…
В Англии обитает self-made man = «самосделанный человек», и там спрашивают: How do you do? = «Как ты делаешь делание?», с двумя do, выражая пристальный интерес к тому, как ты строишь свою жизнь. И даже в молитве Господней, там, где по-русски просто «Да будет воля Твоя», в английском переводе Thy will be done = «Твоя воля да будет сделана». То же по латыни: Fiat voluntas Tua и по-французски: Que ta volonté soit faite – ургийный подход. А вот по-гречески: Genetheto to thelema sou = «Пусть родится воля Твоя», от «генезиса», «гонийный» вариант. По-немецки же Dein Wille geschehe = «Твоя воля да произойдет», случится. Употреблен глагол geschehen – того же корня, что и Geschichte = «история», и Schicht – «шихт», слой в шахте. Так что идея «глубины», Tiefe, тут залегает, а «история» = «сослойность» буквально. Взгляд народа горняков-трудяг, адептов вертикали бытия.
Ну а в Соединенных Штатах высадился self-made man, самосделанный человек, и построил себе self-made world, самосделанный мир. Тут абсолютное преобладание принципа «ургии».
Могут быть отмечены национальные варианты религиозного чувства, национальные образы Бога. И в христианстве догматические различия коррелятивны национальным: не случайно географическое распределение зон православия, католицизма, протестантизма и его разных течений, – тут созвучие с национальным Космосом и Психеей… Рассмотрим, например, символ Троицы: каков удельный вес Отца, Сына и Святого Духа в разных мирах? В России Троица, хоть и введена Сергием Радонежским как национальное средоточие, все ж для народного чувства слишком абстрактно-математична эта идея, и воспринимается тут милый суффикс «ица», который сразу повлек ее во Богородицу (Георгий Федотов исследовал эту миграцию Троицы в Богородицу в народных духовных стихах). И Богородица тут оттеснила в культе все прочие ипостаси христианского Божества: Бого-Матерь естественно сблизилась с «матерью сырой землей» и «Матерью Родиной», «Матерью Россией». Так что в благотворной, но и в опасной близости здесь оказались христианское и патриотическое чувства (одно может приниматься за другое). И в Богоматери-Деве акцент на матери, а не деве.
В католических странах на Юго-Западе роль Бога-Сына возвышена в силу принципа filioque («и из Сына» исходит Св. Дух). А в восточном христианстве православия – только из Отца исходит Св. Дух. Это очень многое значит: Отец, старое, традиция – сильнее нового, молодого. Ведь что есть возвышение Сына на Западе? Это сопрягается с культом нового, молодого, динамического в Западной цивилизации. Здесь ценятся – «новелла» и «новел» (роман), «новости», мода, прогресс. Это соответствует Эдипову комплексу, что есть мотор Западной цивилизации (Сын убивает Отца и женится на Матери = на Жизни, на реальности…).
В Италии пара: Мать – Сын превалирует в религиозных чувствах, но «мадонна» слишком введена в меру человеческого существа, умалена ее сакральность: не Бого-Матерь она, а как mamma mia. То же самое и Бог-Отец секуляризован здесь: папа – как Его инкарнация. В Польше Богоматерь воспринимается как Прекрасная Пани, скорее как супруга польского народа, и она почитается как Королева Польши, соскальзывая с Богова на Кесарев уровень. Матка Бозка Ченстоховска носит ожерелье, как колье. Мицкевич уподобляет польский народ Христу, и они соперничают в претензии на любовь Марии.
Реформация в германском регионе Севера Европы аннигилировала теплое почитание Матери Бога (как слишком земное и телесное), умалила роль Сына, но возвысила образ Святого Духа. Но и Злой Дух появился тотчас, как alter ego Святого (блестящий Люцифер в «Авроре, или Утренней заре в восхождении» Якоба Беме, и в «Потерянном рае» Мильтона, Фауст и Мефистофель и т. п.). А что означает акцентация Духа? Мастер своего дела исполнен уверенности в своих силах и в себе как сотрудник Бога в продолжающемся Творении. Его «Я» выходит на прямой контакт с Богом, как это произошло на Пятидесятнице, когда Бог в ипостаси Святого Духа излился на лысые головы апостолов и они принялись спонтанно глаголати языками разными. Отсюда – разнообразие сект и толков в германских и протестантских странах: баптисты, методисты, пуритане, мормоны, квакеры… Отсюда и принцип плюрализма и терпимости к разному в Англии и США. В этих странах нет тенденции к монизму и унификации, как в России и даже в Германии (Гегель – монизм Абсолютного Духа, Бисмарк – объединение Германии и т. д.).
В США эти английские принципы плюрализма и терпимости прогрессировали далее. В этой стране предельной «ургии» Бог чувствуется прежде всего как Творец, а все натуральные идеи: «отец», «мать», «сын» потухают здесь без любовно-природной пищи. Только у негров живая теплота к Богу, и Иисуса они именуют «брат» («brother Jesus»). Англосаксонский и американский вариант христианства имеет ветхозаветный акцент, приближается к иудейскому образу Бога как духа и Творца (но не Отца). То-то и имена ветхозаветные так распространены в Англии (Исаак Ньютон, Адам Смит, Давид Рикардо, Урия Гипп у Диккенса, Ребекка Шарп у Теккерея и т. п.). Между прочим, не нашел я следов дьявола (Сатана, Люцифер…) в американском религиозном чувстве. И это понятно: дьявол, демонизм – аристократические идея и образ, и много его в феодальной Европе изысканных проявлений. А плебеям-пуританам, высадившимся в Америке, достаточно суеверий и ведьмовства (процесс «Салемских ведьм»…). Однако ныне уже и сатанинские секты возникают там, но тоже плебейски массовые, как эзотерические общины, варварски суеверные…
Продолжая перебирать элементы разнообразия, задумываемся над тем, какой из основных вопросов существен для нации. Что это за вопросы? Что? Почему? Зачем? Как? Кто?..
Что это есть такое? – главное вопрошение в греческом умозрении: вопрос о бытии и его членораздельности формой.
Почему? – вопрос важнейший для немцев, их интерес направлен к происхождению, к причинам (причинению = мастерению) вещей. И они ищут причины в Глубине: в основании, в фундаменте (Кант полагает фундамент для здания метафизики, Маркс в германской традиции мыслит о базисе и надстройке, Шеллинг ищет «основу в Боге» и т. п.), в глубинах прошлого, где корни древа бытия залегают. Warum? = Was um? = «Что вокруг?» Мир предполагается состоящим из двух частей: «Я» и «Не-Я» (как это в философии Фихте), субъект – объект, Haus – Raum (Дом – Пространство).
Для французов тот же самый вопрос «почему?» звучит как pour-quoi? = «для чего?», т. е. «зачем?». Цель важнее Причины. Сущность бытия полагается лежащей где-то впереди, в будущем. Отсюда французские теории прогресса (Руссо, Кондорсе), эволюции (Ламарк, Тейяр де Шарден), социальные утопии (Сен-Симон, Фурье, Конт).
Между прочим, польское «почему?» звучит как dla czego? = «для чего?» тоже. И есть взаимное притяжение и сродство между Польшей и Францией через голову Германии – в политике и культуре; напомню о Шопене и Жорж Санд; культ прекрасной дамы и пани, куртуазность, католицизм и т. д.
А вот для англичан и особенно для американцев главный вопрос будет «Как» – How? Как вещь работает? Как сделана? Принцип «ноу-хау» (Know how) распространился по миру отсюда. Бесконечное количество книг про How to: «Как что сделать?», «Как добиться успеха?», «Как приобретать друзей и влиять на людей?» (стиль Дэйла Карнеги) выходят в Штатах как бестселлеры.
Ну а что же будет основной вопрос, интересующий русских в бытии? Под каким модусом-соусом рассматривается всякое существование здесь? О, это самое трудное: определить то, что близко, в чем обитаешь, как трудно определить себя самого. Может быть – «Кто?», «Кто виноват?» – знаменитый вопрос герценовской повести. И стиль взаимных подозрений: кто ты? каков? «А ваши кто родители?» (Маяковский к убийце Пушкина в «Юбилейном»)… Анкеты, вопросники, расследования твоей подноготной в отделах кадров и КГБ. Автобиографии, что пишем… И сейчас мы снова вопрошаем: кто виноват в наших бедах? Кто бес, искуситель, враг? Но есть и благородный, и возвышенный аспект в этом интересе к «кто?». Это принцип Личности. Это гуманизм русской классической литературы, ее интерес ко внутренней жизни души, духа (Толстой, Достоевский…).
А может быть – «На кой?» Этот народный вариант вопроса «зачем?», но без позитивного интереса и к «за», и к «что», как бы наперед будучи убежден, что и не стоит усилия делать и интересоваться – все равно не выйдет. Так что уж лучше и не делать ничего…
Но в последнее время, когда будто выбивается из-под тебя платформа, на коей стоял, расползается земля, тает льдина, где Космос твой, где прописан ты и язык, и труд твой, а именно: российская (и советская) цивилизация, – вслушиваясь в свое мироощущение, на своем опыте, словно в доказательстве от противного состояния, убеждаешься, что основной вопрос в России – «Чей?» Оказавшись теперь «ничей», человек ощущает, будто стержень и тягу, и смысл жить из-под тебя выбивают. Недаром и фамилии русские все поссесивны, родительны: Иван-ОВ, Пушк-ИН… Человеку тут потребно знать-чувствовать свою принадлежность к какому-то целому больше него: роду, Родине, Идее, Богу… В разреженном Космосе и сыро-мерзлом, в бесконечном просторе России он не может самостоять совсем один, но в некоем «мы»: дома-семьи, села, страны. «Мы – псковские!..» Человек в «Философии общего дела» Н. Федорова определяется как «Сын человеческий» и в братстве – по родству. И патриотизм здесь – живая пуповинная связь. Понимаешь слова песни: «Была бы только Родина!..» – тогда я прикаян, на месте, при пространстве-времени. Даже в песенке милой детской про чибисят: «Ах, скажите, чьи вы?..» – тот же основной вопрос ставится. А если и могли обличать русскую и советскую цивилизацию и хорошо творить культуру блудные сыны бессемейные (там Чаадаев, Лермонтов, Тургенев, Маяковский, Мандельштам…), то это потому, что крепко стоял Отец (дворянская цивилизация, российско-советская) и при нем – Сын послушный (крестьянин, служивый, солдат, чиновник, партаппаратчик…), и было блудному куда возвращаться, припасть-каяться и где тельца на радостях подадут… Так что на привязи памяти ЧЕЙ ОН себя и Блудный сын (шалун, блатной, люмпен, диссидент…) осознавал, содержим был и содержателен мог быть… Но теперь у нас, кажется, и ни отцов, ни сынов послушных, а – из одних сынов блудных, люмпенов, уповаем страну, хозяйство, культуру построить. А «патернализм» и «инфантильность» – эти ругательные слова фигурируют вместо «патриотизм» и «сыновство»… Но проблема есть: «речь не мальчика, но мужа» – когда на Руси раздастся?..
Попробуем теперь вычленить символическую фигуру, эмблему, модель мира. То, что предложу, конечно, – субъективно, плод моей интуиции. Но она опирается на некую частотность и существенность объективную, так что не случайна…
Шар-круг с центром и диа-метром – модель Космоса у греков: в виде Сфероса представляли Бытие Эмпедокл, Платон, Архимед, Плотин…
Дом – модель мира для немцев. Все видится как структура (мир – как миро-здание) с разделением на внутреннее, где «Я», и внешнее, где «He-Я», т. е. диалог: Haus – Raum = Дом – Пространство.
Арка – модель мира для Италии: купол Неба, нисходящий на Землю.
Крест Декартовых координат с синусоидой на нем – для Франции: симметрия, дуализм, баланс между экстремами противоположностей, между прямой мужской линией и женской кривой, волной.
Корабль-остров с мачтой = «самосделанным человеком», self-made man – схема Бытия для Англии: вглядитесь в эмблему фунта – £.
Менора, семисвечник – эмблема Еврейства: столь малое основание – сцепление с Землей («минус-Космос» еврейства в диаспоре) и разветвленное развитие в воз-духовной сфере Психо-Логоса.
Путь-дорога от порога в бесконечность по горизонтали равнины – русский образ мира: реактивно, ракетою «от самой от себя у-бе-гу!..»
Эмблема доллара не случайна и многозначна в США. Тут вертикаль небоскреба со Змием, обвивающим Древо. Если же положить эту фигуру, то получим автобан с развилками в форме «спагетти», – типичный американский пейзаж в этой Фордом выделанной стране для «человека-в-машине» (man-in-a-car)
Чаша вверх и вниз дном – для Болгарии. Горы Балкан, где гайдук Ботева, человек воз-духа и песни, – и долина-ложбина, где уют дома, «къща», и ввинченность в землю и земное, практицизм.
Липа Кохановского – для Польши. Стихия влаго-воздуха, лик Пани сверху, ниже человек-факел, шляхтич Кордиан (у Словацкого), а под ним – Хам, «хлоп», улитка Слимак (у Пруса), но кем незыблема земля Польши.
Конечно, все эти элементы: Пространство и Время, вертикальное и горизонтальное измерения, ориентировки, мужское и женское, растительный и животный символизм, «ургия» и «гония», основные вопросы и прочее существуют в каждом национальном образе мира. Можно присовокупить и другие важные элементы, по которым различаются национальные миросозерцания. Например: в физике и математике представление мирового пространства как континуума, со страхом пустоты (как у француза Декарта) – или дискретным, как в германском регионе. Или в строении вещества и света: корпускулярные теории отмечаются в германских странах (Ньютон, Планк), а во Франции – волновые (Декарт, Френель, де Бройль) и т. п.
Итак, ВЕЗДЕ ВСЕ ЕСТЬ, но в разных пропорциях. Эти соотношения и акценты нам и следует выяснять.
Лекция 4
Первое, оче-видное, что определяет лицо народа, – это ПРИРОДА, среди которой он вырастает и совершает свою историю. Она – фактор постоянно действующий. Тело земли: лес (и какой), горы, пустыня, тундра, вечная мерзлота или джунгли, климат умеренный или с катастрофическими изломами (ураганы, землетрясения, наводнения, засуха, пожары…), животный мир, растительность – все это предопределяет и род труда, которым здесь надо заниматься населению (охота, бортничество, кочевье, скотоводство, земледелие, мореплавание, торговля, промышленность…), и образ мира: устроен ли Космос как мировое яйцо, мировое древо (ясень Игдразилль в скандинавском эпосе); каковы тут священные животные: Конь, Олень, Верблюд у киргизского писателя Ч. Айтматова, из народа кочевников в недавнем прошлом, или тело Кита дает модель миру, как Левиафан (для англосакса Гоббса) или Моби Дик (для американца Мелвилла). Здесь коренится и образный арсенал национальной культуры (архетипы, символы), метафорика литературы, сюжеты искусства – все весьма стабильные. Например, горы выступают как мировые координаты в искусстве народов Кавказа (Эльбрус, Казбек…) и для греков = «горцев» буквально (Олимп, Ида, Парнас…), и в Индии: священная гора Меру в Гималаях, что послужила богам мутовкою во время пахтанья Мирового океана, в результате чего образовалась, свернулась Земля. Для русских в Космосе равнины архетипичны: «бесконечный простор» (Гоголь), ширь, даль, ровная гладь, «ветер, ветер да белый снег» (Блок), «разливы рек ее, подобные морям» (Лермонтов), «за далью даль» (Твардовский), Путь-дорога и роль образов движения тут: «Медный всадник» (Пушкин), «Русь-тройка» (Гоголь), «Железный поток» (Серафимович), «Бронепоезд 14–69» (Вс. Иванов), «Броненосец «Потемкин» (Эйзенштейн) и т. п.
Природа определяет и цветовую символику. Например, для народов экваториальной Африки недействительны индоарийские соответствия: добра, идеала, истины – цвету белому, а зла, «низменного», лжи – цвету черному, так что выражение типа «черная неблагодарность» там будет восприниматься как противоестественное, как оксюморон, вроде «благодетельное зло», а восклицание Отелло «Черен я!» может быть понято не трагически, а одически, как самовосхваление.
Итак, первое, очевидно напрашивающееся соображение: национальное в народе есть как бы почва его исторического развития, ему предшествует, в то время как история есть выравнивание народов. Следовательно, чтобы доискаться до национального, надо погружаться в древность, в «доисторическую» эпоху народов, а жизнь национального в последующие века есть сохранение «завета», так что радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о консервации, о замедлении исторического развития, ограничении влияний со стороны и контактов с другими культурами. Так, русский мыслитель конца XIX в. Константин Леонтьев предлагал «подморозить Россию», чтобы удержать ее в состоянии «цветущей сложности», которой она достигла к этому времени.
Однако изучение быта и мышления, мифов первобытных народов, проделанное наукой XX века (Тэйлор, Фрэзер, Леви-Брюль, Леви-Стросс и др.), обнаружило следующее парадоксальное соотношение: чем глубже погружаться в древность народов и их воззрений, тем более на одно лицо начинают они выглядеть. Сходные орудия производства: топор, игла, колесо; аналогичные системы кровнородственных отношений; однотипные мифы о происхождении неба, земли, солнца, человека и т. п. Разнообразие, выходит, не на этом, древнейшем, уровне начинается, и, может быть, именно история создает лицо народа?
Действительно, фундамент истории есть история его труда по преобразованию природы, среди которой он живет. Это двуединый процес: человек пропитывает окружающую природу собой, своими целями, осваивает ее – и одновременно пропитывает себя, всю свою жизнь, быт (дома из камня или дерева, или из песка; одежда, пища из чего?), все свое тело и опосредованно душу и мысль – ею. Приспособление природы к себе есть одновременно гибкое и виртуозное приспособление данного коллектива людей к природе. Так что КУЛЬТУРА есть прилаженность – человека, народа, всего натворенного ими, выплетенного за срок жизни и историю, – к тому варианту ПРИРОДЫ, который ему дан (и которому он придан, человек и народ, как соответствующая ему порода существ) на любовно-супружескую жизнь в браке и на взаимопроникновение. И как жена – не рукавица, не скинешь, так и природа – народу: нельзя ее произвольно сменить без потери народом своей субстанциальной сути. Национальный Космос есть ПРИРОДИНА Народу. Культура же есть разработанная за жизнь человека и за историю народа техника, инструментарий любви, объятий Народом Природины своей и всего разного, что на ней. Нарты, юрта, домна, трактор, самолет – все это способы общения и взаимопроникновенного сожительства в любови.
Итак, если Культура есть любовь Народа к Природе своей в супружестве Истории, то Природа ему выходит – и мать, и жена, и дитя родимое, взращиваемое и воспитываемое. По древним мифам, Земля (Гея эллинов) рождала себе Небо (Уран) в супруги, который таким образом оказывался и сыном, и мужем. Народ же есть при Природине своей ей сын и муж, и родитель. Ибо возделанная Природа есть уже чадо, «инобытие» Народа, зеркало его души, материализация его духа и характера. Через Труд Народ-сын становится супругом и отцом Природине своей. Культура же лежит-простирается как овеществление и одухотворение их совместной семейной жизни.
Выходит, национальное есть итог исторического развития народа. Человек современный более национально своеобразен, чем древний. Достоевский – более русский, чем князь Игорь, Генри Форд более американец, чем Джордж Вашингтон, генерал де Голль более француз, чем рыцарь Роланд и т. д. Следовательно, радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о прогрессе, об интенсивном развитии производства и техники, о цивилизации и культуре, о максимальном общении с другими народами, ибо лишь в ходе контактов и сравнений обнаруживается и шлифуется свое – то, чего нет у других.
Таким образом, в ходе своей истории каждый Народ не только обретается в диалоге с Природой своей страны, так сказать, в вертикальном измерении, но и вступает на поверхности Земли в горизонтальные контакты с другими странами и народами – в торговле, войнах, дипломатии, в культурном обмене. Пока народ существует изолированно, он не имеет возможности иметь национальное самосознание. Оно начинается лишь в актах сравнения с другими народами, которые предлагают собой многостороннее зеркало данному народу для многогранного познания самого себя в рефлексии.
История – род трения. Когда мы трем кусок дерева или камень, мы полируем их, делаем их поверхности ровными и гладкими. Но когда я растираю живое тело, я не только «полирую» кожу, но и делаю массаж внутренним органам и сосудам, стимулируя собственную энергию организма. Подобно и национальные организмы в ходе мировой истории формируются, отливаются в самосознающие личности: все не только «самосделанные», но и «другими-сделанные».
Самое увлекательное в исследовании – это уловить и определить особенные национальные черты в современных произведениях и развитых личностях, которые все многосложны и многоуровневы и денационализированы под влиянием мировой цивилизации в той же мере, в какой они цветуще национальны. Как же уловить национальное в таких явлениях?
По крайней мере три точки опоры для этого необходимы: архаика (миф, фольклор, эпос, сага, Библия, «Илиада»…), классика (Данте, Шекспир, Декарт, Гёте, Толстой, Мелвилл…) и современность (Феллини, Джойс, Сартр, Т. Манн, Цветаева, Фолкнер…). Движение мысли по этой орбите может дать известную гарантию, что мы не примем за существенные черты национального миропонимания то, что ему случайно или чуждо.
В охоте за национальным самосознанием народов важно находить его в различных сферах жизни, культуры: в языке, кухне, играх, физике, поэзии… Проецируя одно в другое и обнаруживая соответствия элементов на различных уровнях внутри каждого национального образа мира, мы отыскиваем «инвариант» и обретаем для него род «реле», контролирующий механизм, который может подтверждать или отвергать наши гипотезы и положения. Поэтому наше исследование должно преодолевать рамки современной детальной специализации в культуре, быть энциклопедическим, имея своей целью – реконструировать целостность национального бытия. Границы между различными областями жизни и культуры должны размываться, а предметы сопоставляться не в их традиционных связях (поэзия – с поэзией, механика – с механикой…), но все может рассматриваться в терминах всего другого: нисходящие дифтонги итальянского языка отражаются в теории свободного падения Галилея (я уже подчеркивал их соответствие), а германское блюдо «шницель» (от schnitzeln = «резать») перекликается с теориями немецких мыслителей о дискретности вещества (кванты Планка).
Лекция 5
Итак, объект наших реконструкций – национальное Целое. Однако сомнение и скептицизм преследуют меня снова и снова – как извне: в возражениях других людей, так и изнутри, в моем самокритицизме и рефлексии: как это возможно вычленить некое «национальное Целое» из универсальной мировой цивилизации с ее всепроникающим и нивелирующим излучением?
Да, очевидно, что в ходе мировой истории и особенно в XX веке все народы сблизились и стали унифицироваться в быту (у всех телевидение и авто…) и в мышлении (интернационализм и математизация в науках, компьютеры…) – и тем не менее в своем ядре каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняется особый климат, пейзаж, национальная пища, этнический тип, язык… – ибо они постоянно подкармливают и воспроизводят национальную субстанцию, особый склад жизни и мысли. Соответственно Единое материальной вселенной (Космос) или Духа (Логос) приобретает специфический образ у каждого народа. Инвариант Бытия видится каждым в особой проекции, в особом варианте, – подобно тому, как единое небо видится сквозь атмосферу, которая обусловлена разнообразием поверхности земли. И тот «Космос», который я для каждого национального мира описываю, прежде всего понизовый: земляной, а не звездный.
В качестве эпиграфа к настоящему исследованию хорошо подходит изречение Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный» (фрагмент 95). Так что национальные образы мира – это как бы сны народов о Едином. Зачем же заниматься снами? А чтобы не принимать их за действительность, отдавать себе отчет в ограниченности и локальности наших даже самых общих представлений: об Истине, о Боге; даже в математике наблюдаемы национальные акценты. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных «снов» есть надежда и до истинной реальности докопаться. Сквозь варианты – к Инварианту!
Реальна опасность, что в будущем национальные культуры могут сливаться в океане универсальной цивилизации Земли, однако в настоящее время они еще в полном цвету, и я вижу свою задачу в том, чтобы описать их в этом состоянии, когда народы и культуры, может быть, поют свою лебединую песнь. Я портретирую нации – как личности.
Национальные культуры подобны деревьям, что растут в течение веков и тысячелетий. Их уподобление друг другу и унификация по меркам и стандартам цивилизации происходит на верхнем уровне, с вершин деревьев. Могу даже схемой это представить:
Но ствол и вся ткань – различны. И до сих пор текут национальная кровь и сок из корней, подпитывая национальную плоть.
Национальные культуры и цивилизация XX века – суть сообщающиеся сосуды. Причем культуры – вертикальны, а цивилизация действует по горизонтали нынешнего состояния мира сего. Все существа и вещи возникают вертикальным путем – через страсть Эроса (Труд – тоже его ипостась); но готовые изделия поступают в обмен в ходе торговли по расчету, где работает уже рассудочный, но импотентный создать живое и новое – Секс (процедура сечения, вивисекции всего: «разделяй и таким образом властвуй»). Родники и фонтаны национальных культур втекают в общий резервуар цивилизации XX века, что содействует распространению их творений. Но творить цивилизация не может. Она – рынок для уже рожденного и созданного. Культура = жизнь и творчество.
Искомую национальную целостность я определяю как Космо-Психо-Логос. Подобно тому, как каждое существо есть троичное единство: тело, душа и дух, – так и всякая национальная целостность есть единство местной природы (Космос), характера народа (Психея), склада мышления (Логос). В Космо-Психо-Логосе три элемента (уровня) национальной целостности находятся в отношении и соответствия (тождества друг другу), и взаимной дополнительности (противоположности и уравновешивания). В описании и анализе тут требуется тонко работать – ассоциируя и расчленяя, дифференцируя.
Эта концепция напоминает гипотезу Сепира – Уорфа. Действительно, они, как и многие другие лингвисты в XX веке, сопоставляя структуры, грамматику и лексику различных языков, описали много характеристических особенностей национального мышления. Но их анализ исходит только из языка, тогда как сам язык вплетен в целостную ткань национального Космо-Психо-Логоса и отражает его жизнь.
Природа каждой страны – это не географическое понятие, не «окружающая среда» для нашей эгоистической человеческой пользы, но мистическая субстанция – ПРИРОДИНА (мой неологизм: Природа + Родина в одном слове). Мать-земля своему Народу, кто в отношении ее одновременно и Сын, и Муж – как в древнегреческой мифологии Гея (Земля) рождает себе Урана (Небо), который ей и сын, и супруг.
Что же тогда История? История – есть супружеская жизнь Народа и Природины за смертный срок данного национально-исторического организма. Культура же – чадородие их брака.
Ныне ахнули: что сделали с природой! – и возникло слово «экология». Но оно, научненькое, – тоже гуманистично-эгоистично: станем жалеть природу, как рачительный хозяин жалеет кобылу: не загоняет конягу вусмерть. Нет – вернуться к благоговению перед Природой как сокровищницей сверхидей тайного разума – вот что надо. Природа – это текст, скрижаль завета, которую данный Народ призван п(р)очитать, понять и реализовать в ходе истории на своей земле.
Тут является новый актер в национальной космо-исторической драме – Труд, который – создатель Культуры на этой земле. Труд работает в соответствии, в гармонии с Природой – и в то же время восполняет искусством то, чего не дано стране от естества. Например, в Нидерландах («низкой земле» буквально), где Природа отказалась дать достаточно земли своему Народу, последний расширил себе территорию по вертикали и по горизонтали благодаря труду.
Другой пример Россия. Она – страна равнин и степей, без значительных гор, так что Природа как бы отказала ей в вертикали бытия. И вот, как бы в компенсацию за это отсутствие, в России в ходе истории выстроилась искусственная гора гигантского Государства с его громоздким, многоэтажным аппаратом, и жизнь страны обрела таким образом вертикальное измерение.
Уникальный случай являет собой Еврейство. В то время, как другие национальные целостности сочетают Космос, Психею и Логос, этот народ смог существовать в ходе истории без своей Природы. Благодаря этой уникальности (в частности) они – «избранный народ». Еврейский вариант я определяю как «Психо-Логос минус Космос». И как в математике минус, отрицательное число есть не просто отсутствие, но значащая величина, так и «минус-Космос» есть весьма значащее отсутствие. Те субстанции и энергии, которые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях (уходят в возделывание земли, постройку городов, тратятся в войнах с соседями…), здесь удерживаются в Психее и в Логосе, делая их необычайно активными и дифференцированными. «Тора» – их терри-тора. Природа Еврейства – это его народ. Космос оказался как бы вдавлен в этнос. Главная заповедь здесь – жить, выжить: «Быть живым, живым и только до конца», – как это выражено Пастернаком. И, кстати, когда в России после разделов Польши оказались миллионы евреев, тут же возникло метафизическое «влеченье – род недуга»: минус-Космос привился к такому сверх-Космосу, как Россия. И этот восторг – в Левитане-пейзажисте, а у Пастернака – так просто плотоядная влюбленность в русскую природу…
Если национальный Космо-Психо-Логос может быть понят как Судьба данному народу, то Труд, история и культура могут быть поняты как его Свобода. Или, точнее, – как Творчество в силовом поле между полюсами Судьбы и Свободы.
Тут важнейший пункт и акцент. Все бытие человека и человечества совершается между Предопределением (природа, тело, этнос, смертный срок, традиция…) и Свободой (личность, дух, воля, творчество…). И то, что я взялся описывать: национальный Космо-Психо-Логос, – это, в общем, зона Судьбы. Я пытаюсь понять волю объективного бытия – до моего входа в мир, предданность, как бы Ветхий Завет каждому народу. Но так же равномощно действует и Новый Завет – Свободы, Личности – в каждый данный миг, и будущее созидается в их диалоге. Но Новый Завет пишется по скрижалям Ветхого, и резец Свободы гравирует по табло Судьбы. Последнее (как бы ПРЕД-определение) я и усиливаюсь рассчитать. А значит: только один аспект и сторону каждой национальной целостности. Об этой ограниченности открыто заявляю у врат предстоящего путешествия, и о ней не надо забывать при каждом ходе мысли и положении.
Мой подход – КОСМОСОФИЯ, то есть «мудрость Космоса» (по аналогии с «историософией», которая – «мудрость Истории»). Слово «космос» берется в первичном, эллинском смысле: как «строй мира», гармония, но с акцентом на природном, материальном.
Лекция 6
Самая трудная задача – определить логику мышления другого народа, национальный Логос. Это была моя первая цель, когда я начал думать над национальными аспектами Бытия более чем 30 лет назад. Тогда у меня не было еще терминов: «национальный образ», «национальный Космос», но я отважно и опрометчиво атаковал «национальные логики»… Теперь-то это – не первая, а конечная цель моих исследований в национальной области. И в ходе их я вынужден был удовлетвориться более умеренными задачами и понятиями. Сама история моего наступления и отступления на этом поприще показательна и может выявить дополнительные аспекты и трудности в проблеме.
В этом пункте я должен сделать еще одно признание. Я не чувствую себя уверенно в точных науках, в математике, в рассудочной логике, но своей стихией более ощущаю созерцание, медитацию, интуицию, воображение. Однако, как это часто бывает, я в молодости испытывал некий комплекс неполноценности в отношении вещей и занятий, к которым у меня не было больших способностей, и с тем большим рвением я принялся изучать философию. С 1955-го по 60-е годы грыз я Гегеля под руководством нашего замечательного философа Эвальда Васильевича Ильенкова (1925–1979), еще и Канта, Фихте, Шеллинга, осиливал их эзотерический язык, философский жаргон, технические термины, осилил, полюбил и смог созерцать великолепные здания их философских систем – гармонические, как и современные им симфонии венской классики: Гайдна, Моцарта, Бетховена… И все же нечто вроде интеллектуального бунта поднималось тогда во мне: неужели мне в России середины XX века, чтобы понять сущность Бытия, смысл Жизни, Истину и проникать в смыслы всего, обязательно ум двигать именно по этим траекториям – немецкой классической философии, этого великолепного, но все же готического собора? Так ли уж всеобща и универсальна эта претендующая быть таковою логика и систематика? Не лежит ли на ней локальная печать именно германского склада мышления? Менее ль глубоки и менее указуют путь к Абсолюту Платон и Декарт, чей стиль столь прозрачен и естествен? И так ли уж вообще чист Чистый Разум?… И зародилось предположение, что у каждого народа, каждой культурной целостности есть свой особый строй мышления, который и предопределяет картину мира, что здесь складывается и сообразуясь с которою и развивается здешняя история, и ведет себя человек и слагает мысли в ряд, который для него доказателен, а для другого народа – нет.
Национальных логик, однако, мне выявить не удалось: не по зубам орешек. Принялся я было сравнивать в лоб логику с логикой: Аристотеля с Кантом, Декарта с Бэконом и т. п. – все работают вроде однотипной формальной логикой (силлогизмы, анализ – синтез, индукция – дедукция…), доказывают свои положения и строят систему; отличия же могут быть объяснены разностью и исторических эпох, и индивидуальных миросозерцаний.
Тогда я отступил и с философского синтаксиса перешел на лексику, что проще. Вслушиваясь в термины философии, науки, обнаруживаешь, что в их корнях залегают метафоры, образы, и они не могут не изгибать мысль ученого и философа (осознает он это или нет) в своем силовом поле и не излучать-изливать интуиции, диктовать их ему. Но чтоб уловить их, узнать, различить, надо читать тексты не в переводах, а на национальных языках. Ибо перевод текста с языка на язык = перевод с космоса на космос: незаметно подставляются совсем иные (в)идеи. И наоборот: то, что кажется таким неестественным в переводе (как мне показался сперва неким эзотерическим жаргоном язык германской классической философии), оказывается таким простым, очевидным и легко понимается – в родном языке.
Например, изучая философию Декарта, русский узнает, что у него две субстанции предполагаются в Бытии: «протяжение» и «мышление». Отчего, почему, какая связь? Никакой логики в этой паре. Но вот открыл французский текст – и что же? Там EX-tension и EN-tendement. Оба – от латинского tendere или французского tendre, что значит «тянуть». Так что – ВЫтяжение и Втяжение, как вы-дох и в-дох. Материальный мир = такт выдоха Бытия, саморасширение Духа. Мышление = такт вдоха Бытия, его вбирание в себя, аннигиляция пространства в точку и вообще в имматериальность. Как все просто стало – и проступила, очевидна стала интуитивная основа их спаривания – этих «субстанций» Декартом. И – красиво: выявились симметрия и баланс, что есть эстетический критерий во Французстве, и он метит собой дуализм Декарта, тогда как германский вариант дуализма – это уже анти-номия = «противозаконие», противоположность. И это тоже очевидно в терминах немецкой философии. «Предмет» по-немецки – GEGEN-stand, т. е. «противостой», а значит, – враг, противник, которого надо осиливать Волей – сие Пред-ставление (имею в виду главные идеи-термины философии Шопенгауэра, чей главный труд – «Мир – как Воля и Представление»). Тут же припоминается и WIDER-spruch – «противоречие», что führt = «ведет», по Гегелю, в развитии всякого явления. А из пространственных координат-ориентировок в мире Вертикаль акцентирована: «стояние» в Gegen-STAND и в Vor-STELL-ung – «представление», тогда как у Декарта-француза, скорее, горизонтальный вектор превалирует в его «тянутиях», как и в русском «пред-мет» (калька с латинского ob-jectum от iaceo – «метать»). Вот сколько разных интуиций содержится подспудно в элементарном и основном термине научной и философской рефлексии – «предмет». Еще: германский Gegen-stand, как «противо-стой», подразумевает закрытое пространство: субъект и объект стоят напротив друг друга, как стены в германском Haus = доме, что есть модель мира во Германстве. Латинское же ob-jectum, как и наш «предмет», предполагает операцию метания, бросания, которой нужно открытое пространство.
Произнесешь термин «Пространство» на разных языках – и уже множество интуиций захороводилось вокруг слова, как мошкара. В русском – страна, сторона, отсыл в бок, в ширь-даль, в родимую сторонку, где «мое дело – сторона», так что мое – это «моя страна». Латинское spatium (откуда и французское espace и английское space) – от глагола spatior = «шагать» (ср. немецкое spazieren = «гулять»). Spatium – есть пространство, творимое и меряемое шаганием, т. е. дискретное, рубленое, а не плавное, жидкостное, континуум, как Декартово extension = «тянутие», «вытяжение». Так что образ, содержащийся в термине, обязывает к определенному внутреннему созерцанию, представлению: в spatium – шагать, переступать твердотельно через пустоту, что вполне родно для римски-итальянского ощущения мира, как состоящего из атомов в пустоте (космос Лукреция): твердые тела-камни-индивидуумы в Галилеевом сухом безвоздушном пространстве, без сопротивления среды (что важна, напротив, во французском влаго-воздушном, континуальном космосе)…
А вот немецкий термин для «пространства» – Raum – со значением «пусто», «чисто»; ср. räumen – убирать (комнату), очищать (улицу от снега), уносить (мусор), отодвигать, устранять; освобождать (это я по словарю уточнил значения). Так что германское чувство пространства есть как бы «от-странство», у-странение, а не рас-про-стран-ение – протяжение – растекание некоей полноты – жидкой среды (как у француза Декарта).
Кстати и о терминах для Времени. В русском оно – от «вере-мя» = веретено, вращать, идея круга-цикла. А в немецком Zeit – от ziehen = «тянуть». Так что германская интуиция для Времени аналогична французской – для Пространства: непрерывность, континуум…
В терминах застыли также характерные действия. Так, для понятий «разум» и «рассудок» у немцев – Ver-stand (буквально: «об-стой», опять вертикаль акцентирована) и Ver-nunft = «об-н-ятие». А «понятие» = Begriff = «об-хват».
В термине «Материя» – Мать слышится на многих индо-европейских языках – материнское начало, женское в Бытии – то, что обожествлялось как Великая Матерь в культах древних, Мать-земля… Дух же – Свет, Небо, мужское начало. «Идея» = ВИДея: то, что связано со светом, тогда как МАТЬ = ТЬМА: из перестановки тех же слогов составлены оба слова, и это важно для русского понимания этой философской категории: Материя = МАТЬМА и ТЬМАТЬ…
А акценты в терминах для понятия «Истина» проницательно промедитировал еще Павел Флоренский в трактате «Столп и утверждение истины». Греческое aletheia значит буквально «несокрытость», слово того же корня, что и «Лета» – река забвения. «Несокрытое» = что ОЧЕ-ВИДНО, на свету, зрению, как и ВИДЕИ Платоновы. В латинской veritas (французская la vérité) аспект ВЕРЫ слышится, что есть прерогатива религии. Так что в западном мире наука – в опасной близости к религии, и между ними постоянны трения от этого. Русская же ИСТИНА = «естина»: то, что «есть»: в ней акцент Бытия слышится, и пред-положен онтологизм русского мышления: всерьез брать и буквально – построения разума, а не условно, гносеологически, как это более принято в западной традиции… Английское Truth от true = «верный» – друг, «лояльный» – к закону… Немецкая Wahr-heit – от индогерманского корня, означающего «нужда», «забота». Истина как необходимость, нужда – наставник человека во Германстве; она побуждает к труду. И недаром «Нотунг», Notung (от Not – «нужда») – так многозначительно назван меч Зигфрида в «Кольце нибелунга» Вагнера. И т. д.
Итак, чтобы восстановить прерванный обильными примерами ход рассуждения, – в охоте за национальными логиками как особыми способами связывания понятий, идей, то есть за философским синтаксисом, я стал вникать в более мелкие элементы, в морфологию – в строение самих понятий, терминов – и обнаружил, что в глубине самых отвлеченных терминов, обозначающих самые абстрактные понятия и идеи разума, залегают образы, простые, даже примитивные, жесты, акты, действия (шагать, тянуть, брать, хватать, бросать, стоять…) и прочее, понятное и ребенку, и простолюдину каждого народа в его языке. И это очень важно понимать, ибо мышление, Логос национальный – это не только операция рассудочного связывания понятий и идей по правилам логики, но и воображение, созерцание, медитация…
И вот следующий шаг в восхождении на национальный Логос был – уловить интуиции, созерцания, видения под системно-рассудочными выкладками философов и ученых. Они проступают в наглядных примерах, сравнениях, иллюстрациях, к каким прибегают мыслители, чтобы пояснить свои логические построения. Шар, Сферос выступает как модель мира, априорная для ума эллинов (Пифагор, Архимед, Плотин, Птоломей…). Если что приведено к шару, кругу или выведено из них, то ты на пути истинного понятия. И споткнулся эллинский ум-разум как раз на проблеме квадратуры круга. Квадраты же и прямоугольники – интимны для мастерового Германства, чья основополагающая всемодель мира – Haus, Дом, структура многоэтажная, из уровней, клеток и ящичков, куда можно разложить все по полочкам, дискретно, аккуратно. Кант в своей «Критике чистого разума» закладывает ФУНДАМЕНТ для будущей возможной Метафизики (так он формулирует свое намерение и предприятие) и строит ЗДАНИЕ Разума – постоянны у него эти образы, вдохновляющи. По германской интуиции, развернутой Кантом же в его «Всеобщей естественной истории и теории неба», Вселенная = Миро-ЗДАНИЕ. По Шеллингу, даже Бог = Дом: он предполагает «Основу в Боге» (в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы»). И Карл Маркс, выросший в лоне-купели германского Логоса, увидел структуру Общества, состоящую из базиса и надстройки, – явно модель Дома витала перед его умом. И по Хайдеггеру, Язык = Дом Бытия.
Кстати, когда я применил слово «предприятие» к затее Канта, я поймал себя за руку, воспомня, что по-немецки я бы должен тут употребить слово UNTER-nehmen, а по-английски UNDER-taking, – в обоих случаях приставкой unter (under) акцентируя ПОД, низ, вертикаль Бытия, тогда как русское слово имеет в созерцании – ПЕРЕД, то есть горизонталь. И так на каждом шагу мышления язык направляет наши мысли, но мы большей частью не отдаем себе отчета в этих его управляющих импульсах. Однако мы в нашем предприятии: осмыслении национальных образов мира – должны особенно приглядываться и прислушиваться именно к таким безотчетным и неосознаваемым движениям ума и слова, выражения.
Другой частый образ в германском умозрении – Растение, Дерево – в том числе и Мировое, и «генеалогическое» – Stamm-baum, которым лингвисты объясняют родство языков индогерманских (индоевропейских). А Гегель свою «триаду» – главный инструментарий в каждом построении – поясняет так: зерно = тезис; стебель = антитезис, первое отрицание; колос = синтезис, отрицание отрицания: то же зерно, но «сам-сто». Зерно, прекрасно круглое само по себе, будучи посеяно, гниет, становится безобразным, вытягивается – умирает, но дает жизнь Стеблю. Потом Стебель, дав жизнь Колосу, становится не нужен, «снимается» в Колосе, содержится в нем «в снятом виде». Но Колос – есть то же Зерно – на высшей стадии развития. Имея эту последовательность образов-идей в уме на заднем плане, легко станешь понимать все изощренные построения и объяснения Гегелем явлений и процессов и в природе, обществе, истории, сознании, искусстве и т. д.
Для сравнения: в эллинской мысли убедительны для них аналогии не с растениями, а с животными, и боги там – зооморфны. Так что какой символизм преобладает: растительный или животный в национальных картинах мира – надо нам тоже вглядываться и черпать оттуда важные характеристики.
Для Английского Логоса характерные понятия, в которых постигается Бытие. Это СИЛА: «Знание = сила» – утверждение Бэкона; в механике Ньютона идет исследование и измерение разных сил: действие и противодействие… – и по силам, исходя из них, объясняются движения тел (тогда как Декарт обходится в своей физике, системе мира без применения силы, а с помощью разного вида движений объясняет все); это БОРЬБА (Дарвин, Спенсер – «борьба за существование»); это КОНКУРЕНЦИЯ, соревнование, состязание (Адам Смит и Давид Рикардо в политэкономии этим объясняют бедность или богатство стран); это СПОРТ (бокс, футбол, волейбол, баскетбол – прежде всего в Англии развились)… И в теории английского историка XX века Тойнби главная пара понятий: ВЫЗОВ и ОТВЕТ (Challenge and Response) – из той же оперы борьбы, силы, состязания…
Таким образом, каждому народу и его мыслителям как бы ВРОЖДЕНЫ Бытием определенные идеи=видения, интуиции, схемы, модели, в которых ему свойственно представлять все явления. Применить если термин Канта – «априори»: что нечто предшествует акту познавания, – то налицо, существует ОБРАЗНЫЙ АПРИОРИЗМ. Он залегает под рассудочным априоризмом (с чем имеет дело Кант в своей «Критике чистого разума») и понуждает выкладки логики так, а не иначе располагаться – подобно тому, как железные опилки в электромагнитном поле разбираются по его силовым линиям. Но это силовое поле – уже сверх или под логикой: оно истекает из всего бытия данного народа, включая и особый склад природы (материю, вещество), быт, язык, историю (культуру), этнос и характер (психику).
Таким-то путем и вышел я к тому, чтобы произвести понятие НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС. И чтобы проступила национальная логика, надо целостность бытия одного народа сравнивать с аналогичной целостностью другого. На этом фоне и национальные логики – как верхушки сих айсбергов – различимы и понятны станут. Таким же способом и «национальный характер», и «национальный дух» – эти трудноуловимые сущности, обычно импрессионистически описываемые, – можно посадить на более объективные основания: тип природы, культуры, языка и пр.
Я могу представить это даже чертежом:
В этом представлении я следую античной традиции. Аристотель полагал, что в человеческом существе присутствуют три души: разумная (расположенная, по современным представлениям, в голове, но он помещал ее в сердце), чувствующая, эмоциональная, афективная – душа воли и энергии (расположенная в груди) и душа животная (расположенная в животе и гениталиях). Все эти души и уровни взаимно коррелируют, так что особенности ума могут быть лучше поняты, когда ум рассматривается в связи со всей статью данного существа, и не надо пытаться напрямую сопоставлять только логику с логикой, на чем я обжегся на первых порах своего исследования.
Такова история моей атаки на «национальные логики» и отступления к более умеренному термину «национальные образы мира». Он более смутен, расплывчат, но и более широк и гибок.
Лекция 7
Опасение возникает: можно ли объять необъятное? Особенно в наш век научной специализации, когда стиль мышления поощряет узкий профессионализм? Не лучше ли сконцентрироваться на едином национальном образе мира, например русском, но представить его наивозможно исчерпывающе?
Да, но каким же образом выявить то, что специфически национально в данном обороте мысли у писателя или философа, если не отдавать себе отчета в других возможных способах смотреть на вещи? В сознании нашем должен содержаться максимум вариантов: миропредставлений и путей исторического развития народов; тогда отчетливее определится единственность и незаменимость русской картины мира и особенность пути в данном космосе, в России. И именно чтобы увидеть наше не только изнутри, но и со стороны, надо отдаляться, отстраняться и делать заходы в иные народы и мировоззрения. И русская версия бытия проступит не только там, где исследуется Толстой, но и там, где анализируются «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, – рикошетом отбрасываются в таком случае лучи познания – как самопознания всегда. Таким образом, целью познания других образов мира является самопознание того, на котором мы стоим и изнутри которого смотрим на мир. Отсюда следует, что предмет наш в общем ограничен, а не необъятен, а именно: раскрыть в его богатстве смыслов русское мировоззрение.
Каким инструментом, на каком языке проделывать это исследование? Один путь – выработка нейтрального языка, условной знаковой системы, которыми можно было бы описать разные модели. Другой путь – локальные сопоставления одного образа с другим. В первом случае – слишком редкое решето, через которое все проскочит и нуль останется, все одинаковыми завыглядят; во втором – частое сито, через которое можно цедить бесконечно долго и улавливать лишь единичные особенности, без гарантии их принципиального значения. Мне вообще-то более по душе второй путь: восписать пестроту каждого образа и толковать смыслы деталей, микроэлементов быта и языка, которые ведь сочатся философическими значениями, но они обычно проглядываются мимо. На этом пути хорошо работает взаимное удивление языков, их взаимное «дразнение» – те заусеницы, которыми культуры задирают друг друга при контакте, что особенно видно при переводах: в осадок и остаток выпадают некие «непереводимости»… А в них-то – и вкус!..
Конечно, строящиеся на локальных наблюдениях более общие соображения могут иметь лишь характер гипотез. Но это не страшно. Ибо конечная цель изучения национальных образов мира – не в том, чтобы натвердо закрепить какой-то аспект видения мира за данным народом (всякое утверждение здесь может быть лишь примерным), но в том, чтобы разглядеть многовариантность мироздания, используя в качестве точек наблюдения разные национальные космосы, откуда прозрачнее проступают те или иные грани бытия.
Вот, кстати, вглядимся в употребленные только что термины. «Бытие», «миро-здание», «в-селен-ная», «космос» – как раз пример упомянутого «дразнения» языков, которые обозначают самое всеобщее «это», икс – в том повороте, в каком данному народу натуральнее представлять его себе. Очевидно, что идея «бытия» органичнее в немецком мировоззрении, хотя бы потому, что слово das Sein проще, народнее, употребительнее, чем в русском, где естественнее звучит «в-сел-енная» (даже в песне встречается). Представление об «этом» как о «миро-здании» чужеродно звучало бы в мировоззрении кочевого народа.
Таким образом, само наше затруднение: интерференция национальных миров – открывает и выход. Столкновение национальных образов мира извлекает искры, которые освещают и тот, и другой: совершается обоюдопознание. Нельзя, например, при рассказе на русском языке, в орбите русского же образа мира, об английском образе мира – полагать, что мы познаем только то, что у нас является предметом; в той же мере при этом познается и та точка зрения, с которой мы рассуждаем, – сам русский образ мира. Мы познаем его как бы рикошетом, глазами англичан, т. е. обретаем добавочное зрение, каким получаем возможность видеть уже собственные уши. Преодолевается «само собой разумеющийся» порог нашего познания – тот запрет самопознания, что имеет в виду поговорка «не видать тебе этого, как своих собственных ушей»…
Итак, искры взаимоудивления – вот свет, что проливается на наш предмет, в котором должно происходить исследование. Достоинство этого света – в том, что он не извне приходящий, а излучается, генерируется самой нашей проблемой: непрерывно самопорождается столкновением национальных миросозерцаний… Так что у нас как бы свой источник света есть: свой «движок», портативная электростанция…
Отсюда следует, что нашей проблеме внутренне присущ сравнительный способ исследования. Компаративистика!..
Однако при двустороннем контакте мы имеем еще свет бесцветный. Нации же составляют спектр человечества. Сравнение, значит, должно быть многосторонним, перекрестным облучением. Причем каждый новый изученный и описанный национальный тип культуры становится прожектором-объяснителем всех предыдущих: вносит поправки к предыдущим тезисам, бросает на них новый свет и добавляет им в доказательности. Каждый одновременно – и объект, и инструмент анализа. Но также и ранее описанные образы мира со своих сторон его, новенького, облучают, наваливаются мять-тузить-объяснять. Веселая работа! «Куча-мала»! Так что, когда к 5 уже описанным национальным образам мира добавляется еще 2, то тут не сложение понятий происходит в понимании и тех и этих, а умножение, иль даже возведение в степень: не 5+2, но 5×2, но 52 – т. е. не 7 и не 10, а 25 «битов информации» (как выражаются в теории последней); иль «на порядок выше» становится общее понимание.
Национальный характер народа, мысли, культуры – очень хитрая и трудно уловимая материя. Ощущаешь, что он есть, но как только пытаешься его определить в слова, – он часто улетучивается, и ловишь себя на том, что говоришь банальности, вещи необязательные или усматриваешь в нем то, что присуще не только ему, а любому, всем народам. Избежать этой опасности нельзя, можно лишь постоянно помнить о ней и пытаться с ней бороться, – но не победить.