Удар изнутри в 30-е годы в России. Часть II
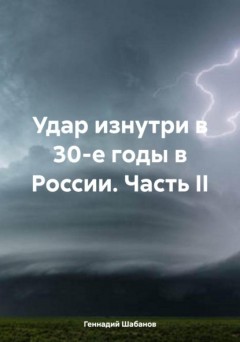
VII
Л. Троцкий, в своей книге: «Преданная революция: что такое СССР и куда он идёт?», с видом беспристрастного наблюдателя, предрекал неизбежный провал коллективизации, провал к которому он приложил все усилия и все возможности тайных троцкистских организаций, имеющихся в России:
«Реальные возможности коллективизации определяются прежде всего наличными производственными ресурсами, т.е. способностью промышленности снабжать крупное сельское хозяйство необходимым оборудованием, машинами и инвентарем. Колхозы строились на инвентаре, пригодном в своём большинстве только для парцелльного (раздробленного на мелкие участки) хозяйства. В этих условиях быстрая коллективизация принимала характер экономической авантюры».
И. Сталин и советское правительство понимали, что для успеха коллективизации в ближайшие 4-5 лет требуется осуществить строительство крупных специализированных заводов для выпуска сельскохозяйственных машин и оборудования, создать необходимую производственную базу колхозов и совхозов.
С огромным напряжением сил были построены: Сталинградский тракторный завод – в 1930 году (выпускал тракторы СТЗ-15/30), Харьковский тракторный завод – в 1931 году (выпускал тракторы ХТЗ, подобные тракторам СТЗ), Челябинский тракторный завод – в 1933 году (выпускал гусеничные тракторы С-60), Ленинградский завод «Красный путиловец» – с 1934 года выпускал трактор «Универсал» с керосиновым двигателем и металлическими колесами. «Универсал» был первым отечественным трактором, экспортируемым за границу.
В дореволюционной России производства комбайнов не было. В СССР комбайностроение началось в 30-х годах. В 1930 году на заводе «Коммунар» (г. Запорожье) начался выпуск комбайнов «Коммунар». В 1931-32 годах на заводе «Ростсельмаш» начался выпуск прицепных зерноуборочных комбайнов С-1. Они пропускали через молотилку 2.5 кг зерновых в секунду и убирали, кроме зерна, подсолнечник, кукурузу, просо и другие культуры. В 1932 году производство этих комбайнов было организовано в Саратове.
За предвоенные годы комбайновые заводы СССР (в основном «Ростсельмаш» и запорожский «Коммунар») дали сельскому хозяйству почти 200 тыс. комбайнов, что сыграло огромную роль в механизации уборки урожая.
Благодаря этим успехам, отсталое, раздробленное сельское хозяйство стало превращаться в передовое и механизированное.
В 1934 году были отменены хлебные карточки и надежды троцкистов на массовые выступления рабочих и колхозников против советской власти оказались иллюзорными. Большинство крестьян понимало необходимость коллективизации, они не ставили в вину И. Сталину голод 1932 и 1933 годов. Также как не ставили в вину и В. Ленину голод в Поволжье в 20-е годы.
Крестьяне не видели в голоде ничего удивительного, голод был естественной составляющей русской деревни. Не удивляла крестьян и массовая гибель людей от голода. Воспринимать высокую смертность, в том числе и высокую детскую смертность, как трагедию, как русские, так и украинские крестьяне стали только при сталинской Советской власти.
К этому времени заговорщики уже больше не надеялись заручиться поддержкой народа. Они видели, что под руководством И. Сталина в СССР успешно строится не ленинский социализм, а жизнеутверждающая форма сталинского государственнического капитализма.
Троцкисты окончательно убедились в том, что И. Сталин бесповоротно отказался от воплощения в СССР постулатов марксистско-ленинского учения и, самое главное, продвижения мировой революции. Л. Троцкий, понимая, что его планы становятся неосуществимыми – из-за границы настойчиво требовал форсировать начало террора в СССР, в первую очередь, против И. Сталина и С. Кирова.
Н. Бухарин, Г. Ягода и Я. Енукидзе выступили против этой идеи. Г. Ягода заявил: «Я самым решительным образом не допущу совершения разрозненных террористических актов против членов ЦК и не позволю играть моей головой для удовлетворения аппетита Троцкого».
Я. Енукидзе сообщил Г. Ягоде, что на представительном совещании оппозиционеров, «правые» с большим трудом смогли заблокировать решение о проведении террористических актов против Сталина и Ворошилова, но санкционировали теракт против С. Кирова в Ленинграде.
Л. Каменев настойчиво говорил о необходимости террористической борьбы и прежде всего убийстве С. Кирова,подчёркивая, что это есть лишь начало пути для прихода троцкистов к власти, цинично заявляя, что «головы отличаются тем, что они не отрастают».
С этой целью в июне 1934 года Л. Каменев, по поручению «Объединенного троцкистско-зиновьевского центра», ездил в Ленинград, где вёл переговоры об организации террористического акта против С. Кирова с руководителем одной из ленинградских террористических групп – М. Яковлевым.
Личный секретарь Г. Зиновьева Н. Моторин признавался: «Зиновьев указал мне, что подготовка террористического акта должна быть всемерно форсирована, и что к зиме Киров должен быть убит. Он упрекал меня в недостаточной решительности и энергии и указал, что в вопросе о террористических методах борьбы надо отказаться от предрассудков».
Троцкисты и зиновьевцы, считая террор альфой и омегой своей борьбы, по прямым указаниям Л. Троцкого, которому они подчинялись беспрекословно, организовали и осуществили 1 декабря 1934 года, через подпольную ленинградскую группу зиновьевцев и непосредственно – Н. Николаева, убийство С. Кирова, члена Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930 года, а с 1934 года секретаря ЦК ВКП(б).
Кроме убийства С. Кирова, заговорщики планировали осуществить теракты против: Ворошилова, Орджоникидзе, Жданова, Косиора и Постышева.
Начиная с 1934 года, в прошлом председатель Петроградской ЧК – И. Бакаев, террорист И. Рейнгольд и начальник охраны Л. Троцкого в 1922-1925 годах – Е. Дрейцер, в соответствии с решениями «Объединенного центра», пытались совершить покушения на И. Сталина.
Для этого были необходимы материальные средства и оружие. Группа троцкистов в г. Горьком пыталась осуществить ряд ограблений кассиров в Арзамасе и сельсоветах Ардатовского района. Но эти ограбления не удались.
На одном из совещаний центра Л. Каменев дал поручение заместителю председателя Госбанка СССР Г. Арткусу перевести на нужды центра 30 тысяч рублей – через картографический и хозяйственный тресты, которые возглавляли активные зиновьевцы – по 15 тысяч рублей.
И. Бакаев не только руководил подготовкой террористических актов против И. Сталина, он лично выезжал на пункты наблюдений – вдохновлял людей. Летом 1934 года были получены важные результаты о поездках и путях передвижениях И. Сталина. Один раз, с группой террористов, И. Бакаев сам выехал на машине с целью совершить террористический акт, но им помешала охрана И. Сталина.
Покушения на И. Сталина предпринимались неоднократно. В 1935 году Берман-Юрин и Фриц Давид хотели убить Сталина на VII конгрессе Коминтерна, но у них ничего не вышло: первого просто не пустили в здание, а второй, хотя и прошёл со своим браунингом в зал, но не смог подойти к И. Сталину на расстояние выстрела.
VIII
После расследования убийства С. Кирова и показаний Н. Николаева, вскрылась подпольная ленинградская группа зиновьевцев, и для НКВД создалась возможность всеобщего разгрома всех контрреволюционных организаций. Тем не менее, Г. Ягода всё же сумел направить удар только на троцкистов и зиновьевцев (правда, не на всех), полностью прикрыв организацию правых дело «Клубок» и военных.
Г. Зиновьева и Л. Каменева обвинили в подготовке убийства С. Кирова и арестовали 16 декабря 1934 года.
15-16 января 1935 года по делу бывших руководителей, так называемой, «ленинградской оппозиции»: Г. Зиновьева и Л. Каменева, был проведен первый большой московский процесс; тогда перед судом предстало 19 обвиняемых. Согласно обвинению, зиновьевцы несли моральную ответственность за убийство С. Кирова: Г. Зиновьев получил 10 лет, Л. Каменев – 5 лет тюремного заключения, на свободу они больше не вышли.
Позже Г. Зиновьев и Л. Каменев признались в непосредственной подготовке убийства С. Кирова. К обвиняемым добавилась группа троцкистов, возглавляемая И. Смирновым.
После того как вскрылись новые обстоятельства убийства С. Кирова, Военной коллегией Верховного суда СССР 19-24 августа 1936 года был проведён первый публичный процесс (процесс 16-ти) по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра». Согласно предъявленному обвинительному заключению, обвиняемые, выполняя прямые указания Л. Троцкого, создали тайный террористический центр, который действовал в СССР с 1932 года.
В суде председательствовал В. Ульрих. Сторону обвинения представлял А. Вышинский. На судебном процессе обвиняемые были немногословны. На вопросы прокурора отвечали положительно. Главные фигуранты дела признались, что действовали по инструкции Л. Троцкого.
Сложной задачей оказалось получение признательных показаний от И. Смирнова и С. Мрачковского (начальник строительства БАМа), которые были широко известны в партии своими героическими биографиями.
С. Мрачковский вырос в семье народовольцев, а И. Смирнов – член партии с её основания, командовал во время гражданской войны армией, разгромившей Колчака.
На протяжении нескольких месяцев И. Смирнов и С. Мрачковский упорно отказывались от любых признаний. По словам А. Вышинского весь допрос И. Смирнова от 20 мая состоял из слов: «Я это отрицаю, ещё раз отрицаю, отрицаю».
Следователем по делу С. Мрачковского был назначен начальник иностранного отдела НКВД А. Слуцкий. В начале допроса С. Мрачковский заявил А. Слуцкому: «Можете передать Сталину, что я ненавижу его. Он – предатель. Они приводили меня к Молотову, который тоже хотел подкупить меня. Я плюнул ему в лицо».
В ходе дальнейших допросов, превратившихся в политический диалог между следователем и арестованным, А. Слуцкий предъявил С. Мрачковскому показания других обвиняемых в качестве доказательства того, насколько «низко они пали, находясь в оппозиции советской системе». Все допросы проходили в спорах о политической ситуации в Советском Союзе.
В итоге С. Мрачковский согласился с А. Слуцким в том, что в стране существует глубокое недовольство, которое, будучи направляемо изнутри партии, может привести советский строй к гибели; и в то же время не существует и достаточно сильной партийной группировки, способной изменить сложившийся режим и свергнуть И. Сталина.
– Я довёл его до того, что он начал рыдать, – рассказывал А. Слуцкий, – я рыдал с ним, когда мы пришли к выводу, что всё потеряно, что единственное, что можно было сделать, это предпринять отчаянное усилие и предотвратить тщетную борьбу лидеров оппозиции со И. Сталиным.
После этого С. Мрачковский попросил дать ему свидание со И. Смирновым, его близким другом и соратником по фронтам гражданской войны. Во время этого свидания С. Мрачковский сказал: «Иван Никитич, дадим им то, чего они хотят. Это надо сделать». Свой рассказ о допросе С. Мрачковского А. Слуцкий завершил словами: «Целую неделю после допроса я не мог работать, чувствовал, что не могу дальше жить».
К этому времени Г. Зиновьев, проведший полтора года в тюрьме, находился в состоянии глубокой депрессии. Начиная с весны 1935 года, он неоднократно обращался с письмами к И. Сталину, в которых, в частности, говорилось: «В моей душе горит одно желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это… Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели же Вы не видите, что я не враг Ваш больше, что я Ваш душой и телом, что я понял всё, что я готов сделать всё, чтобы заслужить прощение, снисхождение».