Журнал «Парус» №66, 2018 г.
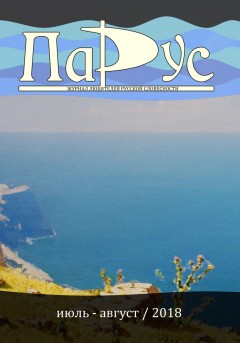
Цитата
Иван БУНИН
В ОТКРЫТОМ МОРЕ
В открытом море – только небо,
Вода да ветер. Тяжело
Идет волна, и низко кренит
Фелюка серое крыло.
В открытом море ветер гонит
То свет, то тень – и в облака
Сквозит лазурь… А ты забыта,
Ты бесконечно далека!
Но волны, пенясь и качаясь,
Идут, бегут навстречу мне
И кто-то синими глазами
Глядит в мелькающей волне.
И что-то вольное, живое,
Как эта синяя вода,
Опять, опять напоминает
То, что забыто навсегда!
1903–1905
Художественное слово: поэзия
Евгений РАЗУМОВ. На ангелов смотрит душа
***
На дачу – навьюченный не «Солнцедаром»,
но: вервием, ботами, новым гвоздем —
идешь ты, и солнце проснулось недаром —
работать пора. Значит, вместе идем.
Туда, где уже появилась редиска,
а скоро потянется к ней огурец.
Туда, где Вселенная – вот она – близко.
А думам о смерти, пожалуй, конец.
Ведь сказано кем-то (еще Достоевским,
еще Иоанном) про то, что зерно
должно умереть на юру деревенском,
чтоб хлебушком стало пшеничным оно.
Пожалуй, затем и придуманы боты
и прочий под небом земной инвентарь,
чтоб что-то осталось потом от работы,
от жизни твоей, как заведено встарь.
А дача?.. Сараишко просто под небом.
Чтоб думать оттуда о той простоте,
которая зернышко делает хлебом,
с которою звезды не тонут в воде.
***
Ю. Бекишеву
«В этом перечне природы где мои стоят калоши,
Юра?..» – Бекишева спросишь в огороде босиком.
Даже пугала не носят больше наши макинтоши.
Под веселой стрекозою. Под веселым мотыльком.
Мы из прошлого из века снова вынесли скамейку
побеседовать, погладить тети Таина кота.
И плевать уже, наверно, нам на ржавую на лейку,
из которой раздается – вроде эха – пустота.
Нам бы шорохи послушать муравьиного масштаба,
из которых прорастают человеческие дни
с этой лейкой, папиросой, колуном, словечком «кабы»,
человеческой слезою (кепкой ты ее смахни)…
Там – наверное, разгадка этой каменной планеты,
где стоит скамейка эта, где присела стрекоза
рядом с Бекишевым Юрой – поглядеть в глаза поэту.
Не смахни ее случайно, кепкой вытерев глаза.
***
Внуку Саше
Всех бронзовых жуков по имени бронзовка —
раз: не переловить, два: незачем. Ага?..
День. Улица. Фонарь. Аптека. Остановка.
Автобус № 7 «Для сердца курага
полезна», – телефон чревовещает. Точка,
откуда горизонт уже не виден, но…
Ведь надо как-то жить. (Считает оболочка
потрепанной души, глядящая в окно.)
Во имя внука?.. «Да», – мне говорит будильник.
И чайник на плите поддакивает: мол,
у Ромы нет отца. Глазами в холодильник
смотрю, смотрю, смотрю… Пилюли. «Простамол».
Я – дедушка? «Ага, ага», – кивает кепка.
«А Саша, Саша где?..» – почти немой вопрос.
«Уехал, – говорит для ползунков прищепка,
для трусиков его. – А может быть, подрос».
А как же мы с котом?.. А паровозик этот?..
Куда ему ползти, забыв радикулит?..
И вообще: ЗАЧЕМ КУДА-ТО ВНУКИ ЕДУТ?!.
Ведь это не карман – болит, болит, болит…
А (думаю) душа, где обитают внуки —
и Саша, и Роман. С пелёночек. Не плачь,
небритая щека!.. Заштопай Роме брюки.
Купи велосипед (или хотя бы мяч).
***
Ближе к осени природа
совпадает с человеком,
у которого не мысли —
тоже листья в голове.
«Накормлю себя сегодня, —
лист кленовый, – чебуреком».
«Почему, – береза это, —
жизнь кончается в траве?..»
А вокруг – шмели и пчелы,
яблоки и то, что вишней
заготовлено в компоте
Марьивановной в саду.
Под скворечником без птицы
я и сам какой-то лишний.
«Это – август, – понимаю, —
что бывает раз в году».
Надо к этому привыкнуть —
шарканью по листопаду,
где когда-то начинались
эти пчелы и шмели,
и смеялась в небо Маша
(хохотала до упаду),
и во мне, наверно, мысли
тоже ландышем цвели.
Надо истоптать ботинки
на периметре природы.
Надо улыбнуться кепке,
что повешена на гвоздь.
Надо убедиться: были
до-потопные народы.
Надо Землю пересыпать —
всю – в кармашек или в горсть.
***
Стрекоза пролетела, а с нею – и лето.
Башмаки не успели поспать на траве.
Всё тащили куда-то. Всё шаркали где-то.
Всё бродили, как мысли в его голове.
Там другая трава обступала босые
очевидно-тела в очевидно-раю.
Это было когда-то, но с ними – впервые.
«Перед кем до сих пор, – он подумал, – стою?..»
Там была пустота с очертанием тела.
Он нагнулся поднять одежонку с травы.
И тогда стрекоза сквозь него пролетела,
а за нею – и лето. И лето, увы.
Он подумал: «А ладаном пахнет ромашка?..»
На вопрос не ответила даже пчела.
Липла к телу последняя в жизни рубашка.
Пустота с очертанием тела была.
***
А.А.
Бросить все и – к черту на кулички!
Или Бог за пазухою ждет?..
Только соль в кармане, только спички,
только хлеб – от костромских щедрот.
Но сначала – дописать рассказец,
где она – последняя – в окне.
Чтоб сбылось. Чтоб светом – для подглазиц,
что слезами омочил во сне.
Но сначала – залатать ботинок
(подвязать хотя бы бечевой).
Вышел к Богу (как бы) как бы инок,
а пришел… юродиво-седой.
Кто-то пальцем у виска покрутит:
Дескать, у Толстого моду взял.
Кто-то скажет: «Что-то скажут люди-т?..»
(Из-под пледов, из-под одеял.)
…Он стоял, и странная улыбка
по седой стекала бороде —
будто в ухе заиграла скрипка
той, что ходит (как бы) по воде.
***
От корки до корки прочту Пастернака.
«Изменится что-то?..» – подумает кепка.
Зевнет возле будки цепная собака.
Чего не хватает?.. Посмертного слепка.
Где лавром утыканы уши, должно быть.
Должно быть, поэта такого-то. «Глупо», —
из зеркала глянет песок или копоть,
которой даны были детские губы.
Когда-то. При жизни еще Пастернака,
в двухтомник которого вдета закладка.
Порви эту кепку, цепная собака!..
Забудь обо мне, огуречная грядка!..
Я тоже копался в земле и Шекспире.
В земле и Шекспире искал я ответы
на то, почему в переполненном мире
должны поселяться еще и поэты.
Они – не отсюда. Им тесно в калошах,
которые топают по перегною.
На ангелов смотрит душа на прохожих.
Молчат. А вчера – говорили со мною.
Ольга КОРЗОВА. Над вечной, как небо, рекой
***
Отчего ускользает главное?
Как за ниточку ни держись,
над пригорками, над дубравами
поднялась, улетает жизнь.
Мы глядим, заслонясь ладонями,
чтоб никто не заметил слёз.
Шар цепляется ниткой тоненькой
за сучки, за стволы берёз,
и сжимается сердце горестно:
Боже мой, сколь далёк и мал!
Если б сбросил немного скорости
и подольше бы не пропал…
***
Заснеженным лугом иду не спеша,
и мёрзнет во мне, и болеет душа,
и в сумерках тает дорога.
Здесь раньше ругались за каждую пядь,
а нынче и стога нигде не видать.
Луга без единого стога…
Репейник хватает меня за рукав:
«Зачем ты бредёшь между высохших трав?
Зачем не даёшь нам покоя?»
Разжав его пальцы, спускаюсь к реке
с немою тоской постоять на песке,
но скрылся песок под водою.
И стынет – не может застынуть река,
и грозно глядят на меня облака,
повиснув над полем вчерашним.
Лучиной сгорают деревни во мгле.
Мы лишние люди на лишней земле.
И горько, и больно, и страшно…
ПОЛОВИНА ЗИМЫ
Половину зимы
проживу, будто сонная птица.
Лишь встряхну головой —
и опять окунусь в забытьё,
оттого что метель
подступила и в окнах клубится,
оттого что молчит
заплутавшее слово твоё.
Половину зимы —
будет время – наверно, не вспомню,
словно снег никогда
над моею судьбой не летал
и не пряталась я
в тишине цепенеющих комнат
за работу, за книгу,
за женский пустой сериал.
Половину зимы —
да к чему мне её половина? —
если где-то в лесу
притаилась под снегом трава,
и о родине грезит
отчаянный клин журавлиный,
и грустят на реке
в ожиданье весны острова.
***
Как вязок зимний быт…
В шуге застряла лодка,
и лёгкое весло
сломать не может лёд.
Затворницей живу,
а зимний день короткий
меж сонных берегов
плывёт себе, плывёт…
Я на него гляжу,
глядеть не успевая,
пока бреду с ведром
среди моих синиц,
пока топчу тропу,
пока слеза живая
нет-нет и упадёт
с заснеженных ресниц.
Как сладок зимний быт…
Просторы избяные
гудят печным теплом,
разреживая тьму.
И просто, и светло
живу в глуби России,
и радуюсь снегам
и твоему письму…
***
Будешь в землю положено, злое зерно,
и во тьме, средь тончайших сплетений,
растворишься, смешаешься с ними в одно,
станешь тенью, печальною тенью.
И лежать будешь долго, без думы, без сил,
без надежд на своё воскресение,
монотонно, как дождь, что вчера моросил
или нынче. Осенний, весенний…
И, пресытившись тьмою и этой водой,
ледяной, до уныния пресной,
ты потянешься к свету, росток молодой.
А взойдёшь ли? – Ещё неизвестно…
***
Не верилось, а всё-таки пришло.
Кричит кукушкой, зреет земляникой,
утят окрепших ставит на крыло,
цветёт ромашкой, пахнет мёдом диким.
Короткое, желанное, постой!
Дай надышаться вольною прохладой,
пропасть на миг – навек – в траве густой,
с дождём пройтись по высохшему саду.
В лесную даль лукошком помани —
грибов набрать, малины, зверобоя,
почувствовать, как безмятежны дни,
когда они наполнены тобою.
***
Вхожу я в дом, где нынче только гость,
а в доме знаю каждый скрип и гвоздь,
и трещинка на погнутой стене,
наверное, тоскует обо мне.
На лестнице перила льнут к рукам.
Бежит слеза по веку – по векам
оставленным… Отброшенным, как сор,
в эпоху разрушительных реформ.
***
Ночник материнский и лампу отцову
в субботу зажгу я опять.
Их свет, точно отблеск далёкого слова,
которого не разобрать,
пока не послышался звук из заречья,
пока на другом берегу
хромой перевозчик с котомкой заплечной
устало стоит на снегу.
Пока он цигарку свою не потушит,
пока не откроет замка
и ржавой тоской громыхнёт в мою душу
старинная цепь челнока,
пока я люблю, вспоминаю и плачу,
пока ожидаю восход,
помедли, весло, потому что иначе
кто лампы в субботу зажжёт?
РОМАНС
Отчего мне так душно? —
Конечно, окошко закрыто,
и задёрнуты шторки. —
Никто не нарушит покой.
Ночь давно отошла,
но её грозовые копыта
ещё цокают тихо
над вечной, как небо, рекой.
Нужно было рвануть
вслед за ней. —
И куда привела бы?
Да и время ушло —
все порывы мои позади.
Только голос любви —
отголосок, стихающий, слабый,
бередит иногда,
но уже замирает в груди.
Распахнуть ли окно,
чтобы запахи
летнего сада
взбудоражили дом,
всколыхнули его
забытьё? —
Но внутри тишина,
и былого тревожить
не надо,
и во сне называть
невозможное имя твоё.
***
Сама себе кажусь большим кустом,
задумчиво бредущим через поле.
Остановлюсь, вздохну о прожитом.
О том, что стало тихо нынче в школе,
закрыт большой сельповский магазин.
Хоть флаг ещё торчит над сельсоветом —
дверь заперта. И сколько лет и зим
в деревне жизнь протеплится? – Об этом
не знает куст. Да и к чему кусту
тревожиться и будоражить память?
Иду вперёд, цепляя пустоту
для всех ветров открытыми корнями.
Влад ПЕНЬКОВ. Жемчуг обречённых
РУССКОЕ
1
Перевернётся новая страница
замысловатой повести недлинной,
и то, чего так сердце сторонится,
вонзится в сердце лапкой голубиной.
И вынет сердце. Запахи аптеки
смешаются со сквозняком извечным,
которого не ведали ацтеки —
благоуханным и бесчеловечным.
Немного праха и немного духа —
им лучше по отдельности, наверно.
И быстро перекрестится старуха-
сиделка. Набожно? Скорее, суеверно,
пока приоткрываются Сезама
прекрасные и страшные ворота
на яркой репродукции Сезанна.
Но это не её уже забота.
2
Жили-были, горевали
и садились в поезда,
целовались на вокзале,
целовались навсегда,
не пропойцы, не убийцы —
дети русские зимы.
Жили-были натуфийцы.
Жили-были так же мы.
Ничего не остаётся,
кроме «Ты меня прости».
Над вокзалом голос льётся —
«с тридевятого пути…»
3
Заболело утром сердце и
стало капельку страшнее —
на италии-флоренции
я гляжу со дна траншеи,
посветлеет в полдевятого —
за стеною то же самое:
«Я убью тебя, проклятого!»
Сложно жить с Прекрасной Дамою.
Проще с кошкой или птичкою
и привычкой к одиночеству —
самой вредною привычкою,
но бросать её не хочется.
И смотреть оттуда – с донышка —
вот Флоренция, вот семечки —
Беатриче с нежным горлышком,
певчим горлом канареечки.
4
мавритания, испания,
где угодно побывай —
многоскорби многознание
испекло нам каравай,
антарктида, эфиопия,
хочешь – вглубь, а хочешь – вдаль,
так и этак встретишь копию,
и в глазах её – печаль,
кампучия, каталония —
всё в одном твоём лице,
кататония, эстония,
с померанией в конце.
5
Выпей с горя керосину,
а не сладкого вина.
Выпей горькую осину,
керосин допив до дна.
Да, хотелось о высоком.
Так его и попроси —
керосинового сока,
сока едкого осин.
Всё другое – против правил.
У всего – не тот размах.
Жил-да-был художник в Арле,
тоже керосином пах.
А ещё вокруг – болотца,
пусть вода не глубока,
но водица пахнет оцтом —
для последнего глотка.
6
Иван Венедиктович
День опять не ходит прямо,
снова ставит мне в вину
трагифарс и мелодраму
и пристрастие к вину.
«У кого-то ночью чёрной…»
День бывает почерней.
Свищет с ветки обречённой
обречённый соловей.
Не бывает жизни ладной
и «нетрудной смерти» нет.
Только лёгкий и прохладный —
самый-самый вечный – свет.
7
Пятый томъ
Горше, чем горчица,
музыка-старуха.
Буду горячиться,
словно Пьер Безухов,
буду за свободу,
буду кушать кашу,
тасовать колоду,
целовать Наташу.
Музыку не слушать,
ребятишек нянчить,
утром кашу кушать,
наливать в стаканчик.
Может быть, уеду.
Может быть, останусь —
ревновать к соседу
ту, что мне досталась.
Слышать в час вечерний,
на закате, что ли —
музыку-свеченье,
слаще всякой боли.
ЭТРУССКОЕ
Н.
1
Мирт, кипарис, гранат.
Сосна, рябина, клён.
Закат, закат, закат
эпох, миров, племён,
особенно – звезды,
особенно – сердец.
Тирренской бороды
всё тяжелей свинец,
всё ниже голова
и флейта солоней,
как будто бы слова,
а где же соловей?
Я вскину руки так,
как танцевали вы,
идущие во мрак
на фоне синевы.
Как день с утра глубок
(и как неуловим
вечерний голубок,
заплакавший над ним).
Из улетевших птиц —
его последний час,
последний взмах ресниц
его этрусских глаз.
2
И тех и эту, может быть, – и ту,
я всех любил – и жалобней и звонче,
чем женщину, держащую во рту
серебряный старинный колокольчик.
Но вышло, что любил её одну.
Любил, люблю – неточные глаголы.
Люблю, и вместе мы идём ко дну,
так и пошли, из древней выйдя школы.
Нас там учили разбирать цвета
на запахи, на звуки и на строчки,
что основная музыка проста —
все будем умирать поодиночке.
Куда-то проплывали облака,
стекала кровь по лезвию минуты,
и не давалась юноше строка,
а девушки давались почему-то.
Слепые губы тыкались в плечо,
и замирало сердце в перегрузке.
И плакали светло и горячо
над этим счастьем мудрые этруски,
и плакали откуда-то со дна,
куда я не стремился, но откуда
пришла строка о том, что «всё – она,
и всё – её серебряное чудо».
В густой траве сверкал стеклянный бок,
этруски обнимались после смерти, —
и каждый был хмелён и одинок,
и говорил: «Я не один. Не верьте».
КАК БУДТО
У жизни – козья морда,
а ты вполне хорош,
бедняга Квазимодо,
но сгинешь ни за грош.
Горгульи смотрят хмуро,
глядят со всех сторон
и веруют в натуру
бастардов и ворон,
желают навернуться
канатным плясунам,
а те свистят и гнутся,
взлетают к небесам —
обычные подонки.
Чудны Его дела!
Душа их, как пелёнки,
то смрадна, то бела.
Их ждёт внизу плясунья,
она им дорога,
на ней не шубка кунья,
не шёлк, не жемчуга.
Но что тебе-то, братец —
горбун, горгулий брат!
Есть лишь она и платьиц
волшебный аромат,
есть небо для влюблённых
и для любви – земля
и жемчуг обречённых —
пеньковая петля.
Пускай слюну и скалься,
мычи, шепчи, гляди,
скреби мохнатым пальцем
по впадине груди —
там сердце есть из мяса,
там небо и т.д.
И вот ты плачешь басом —
в Париже и везде.
Елена АЛЕКСАНДРЕНКО. Познать свою дорогу
***
Разорву паутину,
Сплетенную ложью и гневом.
Нарисую рябину
Под теплым безоблачным небом.
И найду те слова,
Что от слез прорастут в белом поле.
Может, тем и жива,
Что люблю одинокую волю.
ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ…
Никакого мне дела нет
До пустой молвы…
Буду жить я тише воды,
Ниже травы.
Буду слышать лишь,
Как вода поёт,
Как трава растёт,
Как трепещет лист.
Как земля моя
Шумный дождик пьёт,
Как речной перекат речист.
Затаюсь вот так
И услышу вдруг,
Что не слышит никто нигде,
Как бренчит серебром паутин – паук,
О чём рыба молчит в воде.
До людской молвы
Мне и дела нет —
Всё никчемная болтовня…
Сквозь лучи травы
Протекает свет,
Как молчание, сквозь меня.
ЛАНДЫШ
Тропинка, солнце и лоза
Спускаются к реке.
В тени жемчужная слеза
Дрожит на стебельке.
То первый ландыш задышал,
Всплакнув в лесной тиши.
И ветер аромат смешал
С теплом моей души.
ОДУВАНЧИК
Одуванчик весь бел, на него только дунь —
Разлетятся пушинки, как снег, на траву.
Птицы в юной листве воспевают июнь,
И мечтательно бабочки в небо плывут.
Земляничные ветры навстречу летят
И несут теплых ягод божественный вкус…
И обрызганный солнцем встревоженный сад
Полон света и душу волнующих чувств.
ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ
Так трудно прикипеть к порогу
Тебе, познавшему дорогу
И волю вольную полей,
И зов осенних журавлей.
Когда уходит день вчерашний,
Как трудно быть тебе домашним
И грусть водить на поводке,
И жить в уюте и тоске.
Ах, это все необъяснимо!..
Как хочется порою дымом
Скользнуть в спасительный проем,
Смешаться в небе с вещим сном,
Осилив путь далекий Млечный,
Познать свою дорогу в Вечность.
Художественное слово: проза
Георгий КУЛИШКИН. Домашнее хозяйство
Рассказ
– На что вы живете? – спросил прокурор пристрастно.
– Кручусь… – ответил Хаймович.
– Что значит – кручусь? Ну, покрутились бы вы вокруг меня – и что?
– Вокруг вас? Что вы! И вы бы имели, и я бы имел, и все были бы довольны!
Этот нестареющий анекдот Василий Степанович держал при себе как словесную трудовую книжку, описывая им при случае род своих занятий.
Когда на пятнадцать частей разломилась армия великой страны и сделались в одночасье никому не нужными тысячи и тысячи служак, наш герой, выведенный в отставку, испытал затяжную гнетущую растерянность. Ни умения в руках, ни знаний, способных обеспечить куском хлеба. Но врожденная неподатливость к унынию не позволила Василию Степановичу замкнуться и опустить руки. Все они, служаки, оставленная не у дел военная косточка, невольно тянулись друг к другу, поддерживая связь, и стоило кому-то одному поймать удачу, как он тут же скликал своих, на кого мог положиться.
Однокашник нашего героя, с которым вместе, бывало, напропалую бедокурили в училище, ловко, совсем как они в юности на подножку трамвая, запрыгнул в политику. И вдруг, пожалуй, что неожиданно и для него самого, заделался городским головой.
Василий Степанович был призван одним из первых. Перечень возможных вакансий не имел конца. И широта ли выбора была тому виной, или потому, что всё предлагаемое доставалось как бы на дармовщинку, однако ни к чему не потянулась душа. Несколько дней Василий Степанович так и эдак пробовал прислушаться к себе и в итоге пришел к убеждению, что его давнишний, по сути, детский еще выбор армейской службы, как и первая половина жизни, – были ошибкой. Сейчас, не по своей воле отлученный от армии и так долго просуществовавший никем, он с удивлением открыл в себе, что ему не хочется снова идти кому-то в подчинение и кем-то командовать. До того не хочется, что сама уже мысль о бесспорно завидном служебном положении воспринималась отталкивающе неприятной.
И он отказался. И это – что он не пошел под начало друга юности – сохранило их отношения в прежней ничем не обременяемой простоте. Василий Степанович, как и прежде, был участником всех отмечаемых новым градоначальником семейных торжеств, без церемоний наведывался к тому домой или на службу. И вскоре знакомые нашего героя стали обращаться через него с просьбами к первому лицу города.
Ничто сомнительное или способное поставить друга перед затруднением категорически не принималось Василием Степановичем. Но даже самой незамысловатой бумаженции, подписанной наверху, требовалось для ее следования по всем нижестоящим инстанциям «приделать ножки». Понимая, что, сказав А, нельзя не сказать и Б, наш герой взял на себя и эту задачу. Перезнакомившись постепенно с ответственными людьми в подразделениях городского управления, он зачастую мог уже не беспокоить Самого, а утрясать дело с непосредственным исполнителем.
Исподволь разъяснилось, чьи услуги какого количества денежных знаков могут потребовать, и появление Василия Степановича в том или ином кабинете, само собой разумеется, стало вызывать в сердцах обитателей кабинета самое искреннее и доброе расположение.
Незаметно и очень скоро образовался круг просителей, стремительно расширяющийся и объединяемый крепнущим день ото дня доверием к Василию Степановичу. Узаконить постройку, оформить аренду или приобретение участка, подключить к энергосетям, к воде, газу, канализации… Это сделалось профессией нашего героя, не отягощенной никакими юридическими формальностями. Каждый клиент становился его приятелем, которому он помогал, – да, не бескорыстно, однако и с увлеченностью откровенно дружеской. И почти всякий из тех, кому посодействовал Василий Степанович, располагал возможностями в чем-то своем, чем, естественно, приумножались и возможности самого Василия Степановича.
В кафе за чашечкой любимого, способствующего поддержанию здоровья, зеленого чая принимались просьбы, там же сообщалось об исполненном. Жизнь, через край заполненная хлопотами, приносящими удовлетворение и выгоду всем причастным, – вот что безоговорочно было принято его душой. Именно в этом он, пусть и с серьезным запозданием, но так удачно нашел, наконец, себя. Это ничем не напоминало работу или службу, – он словно бы катил, оседлав время, как верхом на потоке спускаются ради развлечения туристы по горной реке.
Лишь изредка, подобно крошке, затерявшейся в постели, укалывала его назойливая мысль об эфемерности всего, им обретенного. И возникало желание вложиться во что-нибудь осязаемое. Во что? Думалось, что этим мог бы стать дом. И сад.
Супруга, сын и недавно пополнившая их семью невестка горячо одобрили идею. Дети, для которых недавно была куплена простенькая квартирка в родном подъезде, выразили желание жить совместно с родителями в большом будущем доме на своем отдельном этаже. Это вошло в такое трогательное созвучие с его собственным, пусть и абстрактным, представлением об истинной семье, что Василий Степанович с этого момента с наслаждением стал погружаться в неотличимые от мечтаний планы.
С учетом известных обстоятельств, ему не стоило излишнего труда и затрат выхлопотать у города привлекательный участок. Денег под рукой на всю постройку, конечно, не было. Да и сколько их в конечном итоге потребуется, вряд ли кто-нибудь мог определить тогда. Но на фундамент нашлось – и, послушав специалистов о том, что основание должно отстояться, в первый сезон Василий Степанович вывел нулевой цикл. Что называется, вылез из земли.
Всё складывалось как нельзя лучше. Заработанное позволило во второй сезон поднять стены и накрыть их крышей. А в третий – заняться отделкой.
Когда к исходу четвертого теплого времени года заканчивали мостить плитку на подъездах к гаражам и по дорожкам будущего сада, во дворе уже топал и бойко лопотал внук.
Устояв перед натиском молодежи, непременно желавшей заполнить участок декоративной заграничной ерундой – всякими там туями, кактусами и прочим, глава семейства, утверждая, что отечественные фруктовые деревья и кусты ягод ничуть не менее красивы, чем мексиканские сорняки, настоял на персиках, сливах, яблонях, грушах, черешнях и далее до полного перечня, включившего облепиху, смородину, поречку и малину. А землянику подсадил прямо в траву, рассчитывая скашивать газоны попозже или не везде.
Не последним доводом в спорах с младшими была картинка, предвосхищавшая, как внук съедает снятую с ветки вишенку или абрикос, лакомится виноградом. Эти же мечты навели главу семейства и на мысль о домашних яйцах, гарантированно не отравленных никакой «химией» и лекарствами.
Василий Степанович влез в компьютер, интересуясь устройством птичника для курочек, особенностями ухода и кормления. И был тут же наповал сражен фразой, утверждавшей, что курочка-несушка есть созданная самой природой живая фабрика, перерабатывающая все кухонные отходы и излишки в превосходный диетический продукт.
По чертежам, отысканным в том же «инете», он из остатков стройматериалов своими руками смастерил для будущих живых фабрик сухой и теплый домишко – с насестом, светлым окном и закрепленными на стенах гнездами для кладки. А еще – с вентиляцией, которая состояла из трубы, помещенной в трубу. Причем наружная была продырявлена с четырех сторон отверстиями, через которые ветер любого направления нагнетал вовнутрь свежий воздух, создавая давление и вытесняя скопившиеся в домике газы через трубу внутреннюю.
На рынке, где в открытых коробах продавались миловидные детеныши домашней птицы и посаженные в клетки взрослые особи, Василий Степанович, продвигаясь по ряду, присматривался к продавцам. У него был навык – принимая новобранцев, сразу угадывать по внешности добросовестных ребят и отличать разгильдяев.
Глаза сами остановились на пожилой женщине – полноватой, опрятной, с естественными, без обмана крашений, светлыми, как соль, сединами, от которых, казалось, исходит сияние, осенявшее всю ее благообразную фигуру. Когда, подойдя, он обратился к ней и увидел встречную улыбку, ему подумалось, что таких, вот именно таких бабушек изображают, иллюстрируя сказки.
– Я, знаете ли, полный профан, но решил ради внука завести курочек-несушек…
– Вы обратились как раз по адресу, – откликнулась она с эталонным по правильности выговором – то ли диктора, то ли актрисы, то ли знающей себе цену школьной учительницы. Она сидела на чем-то, чего не было видно из-за ее свободного длинного платья. В лучшем случае, это был табурет, а скорее – какой-нибудь ящик. Но перед глазами была только она – чистенькая, ухоженная, и ни о каком ящике не хотелось и думать.
– Вот отличные курочки, – она указала на второй ярус принадлежавших ей клеток. – Они уже взрослые, поживут у вас с месяц, успокоятся, и снова станут нестись.
Разнотонно-коричневые куры высовывали головы из клетки, впритык касаясь частокола прутьев лысыми в этих местах шеями.
– Покупать уже облезлых, плешивых… – сморщил Василий Степанович левую сторону носа.
– Вы и вправду не разбираетесь в предмете. Они линяют, совершенно естественный процесс. Но если вы хотите курочек, которые несутся, – это то, что вам нужно. Именно то.
– Да? – спросил Василий Степанович кисловато.
– Да, – подтвердила она слегка разочарованно, с уходящим желанием убеждать.
– А эти? – кивнул он в сторону юных красавиц, обитавших этажом ниже, – беленьких с черными проблесками, как на шерстке горностая.
Она глянула непонятно: то ли разочаровавшись, то ли пожалев. И спросила:
– Вам нужна красота или польза?
– А это что – несовместимо? Мне всегда казалось, что красивое – первый признак лучшего.
– Сказано – мужчины! – обронила она себе в колени. А когда подняла взгляд, в нем будто бы возник, но тут же и спрятался плутишка. – Хотите этих – берите этих.
– А почему вы сразу предлагали тех? – поинтересовался Василий Степанович, заподозрив, что бабушка хочет сперва продать то, что поплоше.
– Эти моложе, им еще месяца три или четыре дозревать.
– Зато как радуют глаз!
– Радуют, – согласилась она. – Но четыре месяца будете кормить вхолостую.
– Покормим! – не унывал Василий Степанович. – А как называется порода? Уж больно хороши!
– Адлеровская серебристая.
– Точно! Они не белые – серебристые. И черные перышки тоже отливают серебром.
– Берете?
– Беру!
– А сколько?
– Вот чего не знаю, того не знаю. Давайте, как в картах – двадцать одну.
– Солидно! – заметила она. – У вас большая семья?
– Да нет, семья как семья. А сколько двадцать куриц могут дать яиц?
– Если бы взяли «облезлых» – полтора десятка в день. А эти – не знаю.
– Ну, нам лишь бы внуку яичко на завтрак. Беру!
– Красивых?
– Красивых!
Домашние, когда глава семейства выпускал на молодую травку контрастно узорчатых, отливающих серебром птичек, реагировали с вполне предсказуемым восторгом. Невестка, подобно папарацци, вдохновенно щелкала айфоном, чтобы тут же рассылать знакомым снимки и видео всё увереннее разгуливающих у кустов и молодых деревьев экзотически прекрасных новобранцев двора.
А внуку хотелось дотронуться до диковинной живности, которая не давалась, ловко уворачиваясь и отбегая, чтобы, оказавшись на безопасной дистанции, вновь величаво прогуливаться, презрительно поглядывая на дитя человеческое посаженным сбоку глазом.
Словом, это была не ферма, а нечто наподобие затеваемого домашнего зоопарка, отчего душа Василия Степановича веселилась с удвоенным пылом.
Взрослея, птицы хорошели не по дням, а по часам. Алые гребешки набухали зубчатыми коронами; разновеликие перья, словно бы каждое по отдельности завитые книзу, вместе складывали гармоничнейшие в их кажущемся беспорядке, переливчатые кисти хвостов.
Частенько адлеровские серебристые переругивались одна с другой, а то и затевали драку. Норовистость характеров Василий Степанович трактовал кавказским происхождением, на которое чуть позже стал списывать и манеру птичек перекрикиваться по утрам.
С нетерпением и как нечто чудесное всё семейство ожидало, когда же они начнут нестись. Даже время от даты покупки отсчитывали, как родители отмечают, начав днем рождения, возраст своих детей.
Но вот миновали и три месяца, и четыре (после которых это с гарантией обязано было случиться), но ничего не происходило. Спустя полгода, а там и восемь, девять месяцев цветущие день ото дня ярче и ярче красавицы погуливали по двору по-прежнему вхолостую. Лишь аппетит разыгрывался у них всё азартнее. Завидя корм, регулярно подносимый к месту приема пищи, они мчались, как угорелые, из всех углов обширного двора, усердствуя при этом не только лапами, но и крыльями, еще на дальних подступах расталкивая соперниц и отклевываясь от них.
В переносных деревянных кормушках, смастеренных Василием Степановичем по чертежам из справочной литературы, сметалось всё подчистую, сколько ни давай добавки к рациону, обозначаемому в пособиях. И скашивать во дворе было уже нечего – густо взошедшая по весне газонная травка была склевана серебристыми вся налысо, как и те листья на кустиках и деревцах, до которых пернатые питомицы смогли дотянуться.
Зато мощеные дорожки сада и полы беседки всплошную были укрыты похожими на известь кучками – белыми с темным вкраплением, сходными по расцветке с экстерьером заведенной в хозяйстве птицы.
Трудно сказать, как долго длилось бы это, но однажды на огонек заглянула пожилая соседка, имеющая некоторое представление о содержании несушек. И прямо-таки восхитилась, каких красивых петушков выкармливают хозяева.
– Курочек! – уточнил Василий Степанович.
– Ну, что вы, это петушки! – оспорила соседка. И уверенно назвала несколько отличительных признаков.
В семье незлобиво посмеивалась над Василием Степановичем, и сам он с веселым изумлением пофыркивал в усы, вспоминая рынок, себя и благообразную бабушку, обладавшую, как оказалось, и юмором, и характерцем.
С лапшой молодая петушатинка пошла за милую душу. Очень хороши оказались также различные супы и бульоны, да и холодец.
Правда, ощипывая забитых петушков, мучились всей фамилией. Торчащий из кожи очин ни за что не хотел сдаваться. Женщины оставались без маникюра, у мужской половины не хватало терпения выдергивать колкие щетинки, выскальзывающие из пальцев. Василий Степанович додумался посетить магазин медтехники, где приобрел три разной величины пинцета. Инструменты несколько облегчили труд, но всё же данная рационализация кардинально не решила проблемы.
В конце концов, смирив гордыню, сходили на поклон к той же знающей соседке. Последовав ее житейскому опыту, впредь окунали лишенного головы петушиного недоросля ненадолго в ведро с кипятком, после чего перья переставали фанатически цепляться за тушку и отделялись от нее почти без усилия, оставляя цыпленка чистым, как с магазинного прилавка.
У соседки же получили телефончик одного добросовестного и осведомленного в предмете человека – дабы не обмануться еще раз. Будущей весной предполагалось обзавестись не просто несушками, но такими ударницами, которые мечут яйца со скорострельностью пулемета.
Созвонившись в нужное время, к знатоку предмета Василий Степанович уже не решился ехать в одиночку, взял для моральной поддержки супругу. Путь предстоял не сказать чтобы очень дальний, однако сразу же за городской чертой скользнул в сторону от магистральных направлений. А там дорога, проложенная еще во времена Союза, мстила проезжающим безбожно за то, что ее бросили без призора, и стряхивала с себя машины на окаем полей, заставляя тащиться по голому грунту в продавленных предыдущими горемыками колеях, в непредсказуемых рытвинах, коварно заполненных водой.
Едва не у каждой развилки путники уточняли по связи маршрут и добрались, слав те господи, до сельца на пригорке. Оно состояло из нескольких домиков, зачем-то притулившихся один к другому так тесно, что ни у кого из владельцев не осталось достойного двора.
Радушный хозяин вышел встретить. С высотки проселок просматривался, как на ладони, и хозяин сигналил показавшимся вдалеке гостям поднимаемой рукой. Это был крепыш-пенсионер с располагающе-приятным здоровым цветом лица и веселыми глазами, в которых поигрывало некое наплевательство к собственной персоне, – по той, возможно, причине, что в этом крохотном сельце совершенно не для кого было ни причесывать волосы, ни начисто выбривать щеки. А уж тем более – обращать внимание на недомытые руки, которым после возни с живностью предстояло еще заниматься рассадой, копкой огорода, починкой загороди и бог его знает чем еще. Судя по всему, у хозяина не было ни нужды, ни охоты и переоблачаться раз за разом из рабочего в чистое.
Не приглашая приехавших, а лишь заманивая их жестом руки, он повел в дом – по шаткому крылечку, выводящему на некое подобие веранды. И там стал, с увлечением комментируя, показывать гостям, желающим приобрести курочек, проращиваемые черенки винограда. Названия сортов, красовавшиеся на подвязанных бирках, звучали и роились в воздухе, а свойства той или другой лозы излагались крепышом столь аппетитно, что Василий Степанович просто не смог не купить полтора десятка уже выбросивших листья саженцев. Затем гости вместе с хозяином оказались во дворе и выслушали, имея перед глазами наглядный пример, какую яму следует выкопать под каждый виноградный корень, как приспособить к делу пластиковую трубу, через которую полив станет прежде достигать дна и лишь оттуда проникать выше. А также о том, какой толщины слоями щебня, керамзита и гумуса следует заполнить яму.
Хозяин говорил увлеченно и, пожалуй, долго бы еще углублялся в детали, если бы Василий Степанович не напомнил об изначальной цели визита.
– Но это нам придется в магазин… – сбитый с пути, по которому только-только раскатился, заметил бойкий говорун с озабоченностью, которая могла соответствовать лишь новости, впервые им услышанной.
– Далеко?
– Не! Оно, сказать, в соседнем районе, но мы – прямиками!..
«Прямики» перерезали поле и запрыгивали на асфальт, с которого, поблуждав у лесополосы, перебирались на гравийку. Не раз и не два Василий Степанович имел повод порадоваться, что добираются они не на чем-нибудь, а на проходимом, четыре на четыре, мощном «японце».
По обновленной дамбе и берегу водохранилища, облюбованного яхтклубом, промчались одним духом – ровной, как яичко, трассой. В мимолетящих поселках там и сям бросались в глаза добротные, напоказ дорогие строения.
– На чем же тут народ так поднимается? – поинтересовался Василий Степанович.
– Тут? Да это дачи! Деньги – они в городе, а тут поднимешься, как же!
Провожатый, спасибо ему, не умолкая, рассказывал о себе. Без этого, вдохновляемого, должно быть, наличием свежих ушей словесного потока, наверняка наших путников одолела бы скука и раздражение из-за страха засесть где-нибудь в местных грязях безвылазно. Нынешний спец по курочкам, как можно было понять из его рассказа, занимал в свое время заметное место среди районной верхушки. И сыпал, сыпал, повествуя о былых своих карьерных чудесах, именами, которые, как ему казалось, не могут не знать его спутники. Тем более что те вовсю поддакивали, выказывая наружный интерес и сочувствие, как будто и впрямь доподлинно знали, о чем и о ком идет речь.
– Осточертело, – завершил пенсионер свой рассказ, будто бы и оправдываясь, но всё же и с заметным облегчением. – Вечно угодничаешь, вечно этой самогонкой давишься. И не с кем бы хотелось, а с кем тебя должность приневоливает. А теперь вот жинкиных батька-маму похоронили и законопатились у них на отшибе. Самим не начальствовать и начальников не знать!
О, последнее желание было весьма знакомо Василию Степановичу! Очень и очень знакомо!
– А може, оно и от старости… – предположил провожатый раздумчиво. – Кто его разберет…
В одном из поселков, которые из-за удаленности от города уже не украшали дома дачников, путешественники свернули на полянку, что зеленела сбоку от продуктовой лавки. К ней, полянке, обращено было крыльцо насвежо выбеленной мазанки, с козырька над которым в качестве рекламных флагов свисали пустые грязновато-белые мешки с фирменными синими штемпелями производств, изготовляющих комбикорма.
– Мироныч! – приветливо и панибратски, словно ровеснику, прокричал сквозь открытую дверь молодой голос – и на крыльце появился розовощекий парнишка лет семнадцати с виду. За ним, ступая уточкой, вышла юная, с лицом веселушки-школьницы, супруга, явно на сносях. В поселке не заметно было ни души, и они обрадовались знакомцу, неожиданно появившемуся из навороченного, хоть и закиданного безбожно грязью из-под колес, джипа, зарулившего невесть какими судьбами на их пустырек.
– Из города к вам – покупателей! – с интонацией приветствия отозвался Мироныч. – Курочек хотят присмотреть и, если что, то и корма.
Молодые, спустившись по хлипким дощатым ступеням и держась рядышком, привечали улыбками и кивками подходившего Василия Степановича и его жену, задержавшуюся было в машине, но тоже решившую выйти. Поздоровавшись, хозяева повернули к соседней мазанке – давно не подновляемой, облупившейся, без окон и, как показалось, без двери, лишь с покосившимся проходом вовнутрь. Снизу проход был заслонен щитком шириною в две доски.
– Вот, пожалуйста! Как знали, что для вас – с утречка с фабрики подкинули! – жизнерадостно заметил парнишка, приглашая заглянуть в проем.
Из-за отсутствия окон внутри мазанки было сумеречно, и картина прояснилась для Василия Степановича не сразу, а по мере привыкания глаз. На земляном полу угадывалась подстилка из соломы – затоптанная и почти утонувшая в жиже помета. Переминавшиеся с ноги на ногу курицы стояли так тесно одна к другой, что не могли перемещаться. Лишь передние потеснились от заглянувших людей, вжимаясь в толпу сородичей и глядя с испугом и недоумением.
Василий Степанович непроизвольно зажмурился, не поверив в первую секунду увиденному: курицы все до единой были абсолютно голыми. Ни перышка. И худющими, как в Бухенвальде.
– О, господи! – вымолвил он.
– Вы не того… не как его… – успокоил, беспечно улыбаясь, юный торговец. – Они в новое перо вобьются! А яйцами вас так просто забросают!
– Да-да, – подтвердила девчушка, вот-вот готовая стать мамой. – Три недели у них стресс из-за переселения, а потом… Можете записать: двадцать четвертого числа начнут вас радовать!
– Но что же они такие заморенные? Кожа да кости!
– Дак не мясная же курица – несушка! – наставительно заметил Мироныч. – Я так вам скажу, чтобы понятнее. Ребята берут их на фабрике для кого? Для тех, кто живет в округе. Тут не базар, тут не обманешь. На фабрике порода особенная, и умеют их там раскочегарить. Которая дома выросла, никогда так нестись не станет. Почему их народ и разметает. А то, что бы нам стоило – своих наплодить.
– А фабрике, в таком случае, зачем отдавать? – сомневался Василий Степанович.
– Фабрика самую силу из них уже выкачала, меняет на молодых, – поведал Мироныч. – А нам они еще года два послужат лучше любых домашних! И выходит, что все при своем интересе.
Василий Степанович как к человеку, за которым решающее слово, обернулся к жене.
– Возьмем, Вась! У них глаза, как у сироток детдомовских. Возьмем!
Дома младшие с вытянутыми физиономиями взирали на отпускаемых из короба куриных зомби, неприкаянно озиравшихся и не знающих, куда ступить. Они, худышки, занимали так мало места, что из упаковки, в которой некогда приобреталась микроволновая печь, Василий Степанович, словно фокусник, доставал и доставал птичек – одну за одной.
Впрочем, на следующий день невестка уже без устали фотографировала худышек. Развалясь в самых бесстыдных позах, обнаженные курицы грелись, подставляя солнышку кто спинку, кто бочок, а кто, раскорячившись, брюшко. Ни дать ни взять – нудистский куриный пляж.
Вели себя новоселы посмирнее, чем адлеровские серебристые, двор разведывали опасливо и с оглядкой. И все в одно время стали покрываться бежевым и кофейным пухом, который быстро, буквально на глазах, превращался в юные шелковистые перышки.
К дате обещанного принесения яиц курочки зрительно пополнели и похорошели несказанно. Однако понапрасну Василий Степанович заглядывал в обустроенные в точном соответствии с требованиями инструкций приемные гнезда со свеженьким и сухим сеном внутри. Никто в эти гнезда не наведывался и никаких приношений не оставлял.
Нехорошие мысли о повторном над ним плутовстве Василий Степанович упорно прогонял прочь, но в гнезда заглядывал всё равнодушнее.
Прошла неделя после срока, названного девчушкой, которая сама, должно быть, уже удачно родила. Потянулась вторая. И вот однажды, сидя у себя в кабинете перед компьютером, Василий Степанович услыхал потрясенный до самых основ детской души голос внука.
– Дедушка! Дедушка! – надрывался тот, подбегая к окну. – Дедушка!
С испугом за маленького Василий Степанович подхватился, слыша в ушах переполох собственного сердца, а внук, завидя его, призывно замахал руками.
– Выходи! Скорей! – звал он, как на пожар, и только вид смеющейся в саду невестки извещал об отсутствии несчастья.
Перехваченный малышом в помещении бассейна и пойманный за руку, Василий Степанович впритруску спешил за ошалелым ребенком.
– Вот! – распахнутые настежь счастливые глаза потомка указывали под старый куст шиповника, сохраненный при разбивке сада.
Присев до уровня, с которого смотрел малыш, Василий Степанович увидел некое подобие гнезда из расчесанной в кружок травы. В гнезде ровненькой округлой пирамидкой высились аккуратнейшим образом уложенные, чистые-пречистые яйца – все цвета какао с молоком и каждое словно бы в тончайшей прозрачной плёночке. Василию Степановичу, как и внуку, неудержимо захотелось поделиться увиденным – и он, как будто передавая что-то, торжествующе глянул в ликующие очи невестки и в обеспокоенные глаза подбегающей запыхавшейся супруги.
– Мы не там искали! – воскликнул Василий Степанович, словно заступаясь вгорячах перед кем-то за курочек, которые не обманули.
Следовало бы собрать кладку из двух, а то и трех десятков яиц, однако рука не поднималась разрушить такое чудо.
– Кто нашел – ты? – готовый расхвалить, спросил Василий Степанович у внука.
– Мама, – честно признался тот, не умея скрыть сожаление о лаврах, заслуженных не им.
– Пойдемте! – с лукавцей поманила невестка к поленнице под навесом и стопе поддонов, на которых подвозили тротуарную плитку. – Сюрпри-из! – объявила она, прицеливаясь взглядом в нишу, образованную поддонами. Там в уютной тени покоилась точно такая же горка неправдоподобно красивых и чистых произведений природы.
Вчетвером они переглядывались, словно перепасовывая из глаз в глаза упоительное настроение, и Василий Степанович с удивлением подумал, как давно он не испытывал ничего и близко похожего. Было известие о рождении внука, но счастье тогда шло с довеском мучительной тревоги о здоровье мальчишки и родившей девочки, и не было, не ощущалось полным, как теперь, очищенным от всего постороннего, беззаботным и легким, как пушинка, счастьем. Потом шевельнулось, возникнув в душе и мыслях, соображение, что, пожалуй, это или подобное этому и есть самая высокая награда тому, кто строит, сажает, сеет, разводит живое… И вот он – удостоился.
А позже, уже у себя в кабинете, смакуя пережитую только что радость и вслушиваясь в нее, он вдруг подумал: «И вот это вот – и всё?.. И ничего выше, ничего, что потрясло бы сильнее, у меня уже не будет?..»
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Запись первая. «Корабль как ярых волн среди…»
Приготовление к сочинительству и первые, убыстренно движущиеся образы – еще не есть сочинение. Но уже и не быт, не просто жизнь.
Где же между ними граница? Вот ходил, пил чай – вдруг обрыв; пошло, пошло, пошло совсем иное… «О, Паулина, Паулина!… Еще вчера я был беден… Что значит горсть золота?!»
Снова начал пить чай, курить… О, Паулина, Паулина! – неужели это я написал?.. для чего?..
Одни авторитетно советуют отсекать концы и начала, несомненно, для того, чтобы ни чаинки, ни табачной крошечки к изящной беллетристике не пристало. Другие – наоборот, наращивать – быть с читателем на «ты»: объясняют в обманчивых предисловиях, по каким причинам они пишут, где якобы обнаружили публикуемую рукопись – и еще большим туманом настоящие причины задергивают.
Всё это говорит лишь о неуверенности сочинителей в истинности своего дела. То они считают, что писать можно лишь для воспитания: сердца собратьев исправлять, давать нам смелые уроки, например, для того, чтобы помочь строительству лесокомбината на реке, где в тайге еще затаился монастырь с мракобесами, либо двинуть время вперед на бетонных работах нового завода… А то просто стыдятся признаться в будничных, тщеславных или пустяковых причинах, приваривающих их к столу протирать штаны и локти.
И мы не видим корней их словесных цветов и злаков – одни вершки. Сказка про вершки и корешки, про мужика и медведя вспоминается не случайно: медведь в нашем случае – читатель, любознание его так и остается голодным.
А еще два с половиной века назад и вершки, и корешки не скрывали от читателей. «Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верьх горы высокой!» – с первой же строки признавался сочинитель. Рассказывал подробно, что увидели его духовные очи, благодаря этому восторгу… Просит помощи у богинь пения, а не у редактора… И пошел, пошел, пошел уже: «Корабль как ярых волн среди…»
Восторг внезапный и музыка чистых сестер, а не нужда в цементе или лесоматериале! Таким образом, восторг внезапный за чаепитием, явление бытовое – на бумаге, один к одному становится явлением космическим, высоким – ибо что же есть выше оды? Как её ни ругали и ни осмеивали завистники… Скачут в лирическом восторге метафоры, перепрыгивают трещины и провалы между мыслями – сказать сразу всё или очень многое…
Восторг внезапный в нас пробуждает память, мы сразу всё вспоминаем, удивляясь вместе с Григорием Сковородой: «Что бо есть дивнее памяти, вечно весь мир образующей, семена все тварей в недрах своих хранящей, вечно зрящей единым оком прошедшие и будущие времена, как настоящие!.. Память есть недремлющее сердечное око, видящее всю тварь, незаходимое солнце, просвещающее Вселенную. О память утренняя, как нетленные крылья!»
Я, следуя за певцом старого времени, как уже стало ясно, постарался написать тоже оду; но соответственно нашему времени она в прозе. И ей украсить наш судовой журнал…
Парус надулся. Берег исчез, восторгался некогда Евгений Баратынский. Наедине мы с морскими волнами… Цветной «Парус» памяти в нематериальном пространстве прошедшего и будущего… И открываются, как таинственные острова… Открываются Слово, Смысл, Образ…
А слово – хлеб ангельский, весна невидимая
Умерла старушка, соседка в Глинске. Последние месяцы у неё было какое-то просветленное лицо. За день до смерти она тихо повторяла ослепшей на один глаз, жаловавшейся на жизнь моей матери: «Надо терпеть»…
Вспоминая её, я бродил по маленьким, весенним улочкам старой Москвы: из двора в дворок – как из коробочки в коробочку… Лицо у неё было просветленное, будто узнавшее что-то важное, новое. Так проступает весна. Осветляет капелью, сосульками, солнцем… Или первые дни зимы, первый снег… Вот, думаю вроде о высоких материях, а ночью снятся самые дурацкие сны: то стул сломался, то носки украли в общежитии…
Старушка поехала ни с того ни с сего в соседний город, к сыну, и всё жаловалась, что уехала так внезапно, «ни с того ни с сего». И как садилась обедать, то каждый раз вспоминала и жалела, что с соседями не попрощалась, не зашла…
Деревенское кладбище, где её, на родине, похоронили, заросло лесом. Ведет к нему просевшая глубоко дорога между оранжево-красных откосов глины, над ними сосновый покой, птицы поют в высоте смолистого, солнечного воздуха… В болоте внизу, за оградой клохчут, охают врастяжку лягушки, и будто действием этих звуков распускаются пушистые «зайчики» на вербах. Только мать-и-мачеха ядовито голым желтым цветом не нравится мне… А остальное всё вокруг – как живой сон весны, которым дышат, который видят, спя в своей яви ангельской, усопшие; днесь весна душ, как сказано в старинной книге «Пентикостарионе»… Весна невидимая, претворяющая светом своим наши земные звуки в слово – хлеб ангельский.
А смысл сам за себя говорит
Старичок-сторож… Лет ему уже к восьмидесяти, в черной тужурке, в валенках с галошами, уши у шапки вразброс, в стороны… Встретились на улице и пошли рядом: он стал рассказывать, как ездил в Углич за налимами:
– И нет их, налимов… Куда девались? – разудивлялся он…
Такое детское, смиренное удивление и вопросительность осветили некрупное, убравшееся в морщины личико. Голос медленный, ровный, скажет два слова – и удивляется их звучанию, сиянию, будто видят маленькие, острые глазки, как слова растворяются в весеннем, оголевшем мире: в остатках снега, песке и жухлой серой травке, прилегшей по обочинам улицы. Смеется глазами:
– Разве это налимы? Чуть побольше ложки – вот такие… Нет налимов в Волге… – снова полон удивления его лик под черной ушанкой…
– Я строителем работал. Пенсия у меня хорошая… У меня два сына… Один здесь живет, другой в Рыбинске… Я выпиваю с пенсии. Нет – не пью: пить – никаких денег не хватит. А выпиваю…
Я послушал – пошел. А душа пчелкой полетела: как по клеверу, перелетала со звезды на звезду, все ближе к маленькой, родимой, домашней вечности…
С тех пор всё чаще вспоминаю этого неторопливо ходившего по улицам старичка, и душа наполняется светом смысла… а какого?..
А такого: смысл сам за себя говорит.
А образ?..
…Как сказать об этом радостном небе, этих осенних шелках, парче, тонких, нежно выгнутых ветках, унизанных золотыми лепестками листьев? И высокие, торфяного цвета камыши затихли и будто смотрят в это, ласкающее их по-отцовски небо. Смотрят, хоть глаз у них нет, одни бурые шишки, бархотки; но чувствуется, что – видят, не видя, глядят, не глядя – всё знают: всё иное, над чем мы бьемся всю жизнь. И небо живет само по себе – тоже радо показать свою глубокую доброту… Вот, наверно, поэтому и обожествляли язычники и березы, и реки, и небеса.
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись вторая. Ах, как страшно!
Предисловие Ирины Калус
Приветствуем Вас, дорогой читатель!
Вот и настала пора раскрыть кое-какие секреты, касающиеся появления нашего судового журнала. Первая публикация вышла в прошлом номере «Паруса» после того, как в трюме мы нашли фрагмент пожелтевшей тетради с записью, сделанной странными чернилами неизвестного состава. Несмотря на свой возраст, текст сохранился очень хорошо, и мы легко смогли его разобрать, а также – установить имя автора.
Теперь, когда найдена вся тетрадь, с уверенностью сообщаем: записи из судового журнала будут регулярно появляться на наших страницах, чтобы каждый мог познакомиться с тем чудесным миром, который открывается при чтении рукописи. Это поистине волшебная находка!
Мириады брызг всеохватного искрящегося мира, солнечные блики на зеленовато-синих волнах смысла, сотканных из праматерии представления о себе, линия горизонта, уходящая в художественную бесконечность слияния моря и неба, тяжёлая темнота проглядывающей сквозь седую волну чарующей глубины и пронзающие её нити света – вот что обнаружили мы в этих бортовых записях!
И теперь уже вместе с Вами, дорогой читатель, мы продолжаем листать найденный журнал – пожелтевшие листы с ровными строчками открывают нам повествования о были и небыли, размытый ветрами памяти опыт прошлого, остановившиеся мгновения-слепки минувших и грядущих событий, изящные траектории полёта мысли – да много ещё чудесного таят в себе летописи кораблей…
Но потом обнаружилось и то, чего мы не заметили сразу. Тетрадь оказалась абсолютно живой – как будто едва уловимо дышала, овевая лицо нездешними потоками эфира. А записи в ней продолжали пополняться. Неужели автор здесь, с нами на корабле? Неужели, крепко сжав в руке остро отточенное гусиное перо, он ходит где-то среди нас, время от времени посылая проницательный взгляд не то на наши лица, не то в синюю морскую даль? Тончайшие извивы текучей души – как рисунок на воде, продолжающий своё бестелесное существование во времени – до сей поры не останавливают сердечной пульсации, проступающей сквозь переплетения чернильных знаков. И мы поняли, что тетрадь эта – не простая и хранятся в ней не просто записи из минувших времён, а и – мосты в нашу жизнь, захватывающие её до самого края и причудливо заплетающие разные времена и события, голоса и отголоски, начинающие аукаться, как только откроешь кожаную обложку. Как мы не нашли её раньше? И чей это силуэт на корме?
А может быть, судовой журнал и его автор сами нашли нас и теперь, наряду с рукописным текстом, чередой зашифрованных длинных и коротких сигналов передают именно Вам, читатель, ещё никому не известное послание?
Итак, начнём движение к разгадке?
Ирина КАЛУС
Учась в Литинституте, я редко ходил в кино – не до того было, хоть и Москва. А «Вия» все же решил посмотреть… «Не ходи, – сказала мне Нина, вологодская девушка с простодушными синими глазами. – Не дадут посмотреть! Как только ведьма встаёт из гроба – подростки в зале начинают хулиганить: кричат, смеются»…
Так оно и вышло: невидимые в темноте ребята в первых рядах нарочито громко хахалились: «Ах! Ой, как страшно!»
А зачем? – выйдя, удрученно досадовал я на светлой улице. Если так наивна и забавна ведьма-панночка, чего и кричать, да и смотреть – не по одному разу?..
Призрачные, сказочные декорации – степи лазурная дымка, козаки-ряженые… Как хорошо бы было в тишине посмотреть – после общежитской комнаты! Во время экзаменов я почти не выходил из неё, так впрягался в книжное чтение. Только в гастроном – хлеба да триста граммов колбасы купить, пачку чаю да пачку «Примы»…
Гастроном – через улицу от общежития. Продавщица мясного отдела, явно презирающая мои бедные покупки – с заячьим белесым личиком – и заячьей же губой. Некрасивая, поэтому злая. Порой и пожалеешь её про себя… Я уже, купив колбасы, был у выхода – как вдруг двери отпахнулись навстречу… И в них… Ах! Сердце во мне замерло по-настоящему, дыхание остановилось. Крик судорожный едва не вырвался:
– Ведьма!..
Она, злобно блеснув на меня стеклянно острым взглядом, прошла мимо. Она была точно такая же, что в хлеву, протянув руки, ловя, шла на Хому Брута. Та, что после крика петухов хлопнулась в гроб – с мертвецким, широким, плоским лицом старуха, и с ожившими, точно из глубины ледяной смерти, глазами. Я и теперь не могу понять, откуда такое сходство страшное? И она – учуяла мой не вырвавшийся крик, мой ужас. Это еще в миг страха почувствовал я… Поэтому и отвернулась злобно, и прошла мимо, широкая, горбатая…
Одно дело хахалиться над киношной ведьмой, другое – встретить живьем её в московском гастрономе… И сердце чуть не остановилось, замерло – впервые понял я убойный смысл этого книжного, притершегося вроде слова… Приземистая, с квадратным, тяжелым лицом, и одета так же: на голове какая-то повязка. Она, та самая, из «Вия», моего любимого сочинения Николая Васильевича Гоголя…
Потом, как пришел уже в комнату и одумался, по новой страшно за себя стало. Ведь мог бы и приступ случиться…
Я рассказал об этой встрече Нине. Она поудивлялась, поулыбалась… А темно-синие подснежники вологодских глаз – не изменились: оставались со своим светом, говорящим о чем-то таком, что далеко-далеко отсюда… Но уточнила, что эту ведьму в «Вие» играет мужчина, старик… Да какое это имеет значение? – подумалось мне.
Я и сейчас вижу под низкой повязкой её щучьи глаза и щеки в крупных, к ушам, злых морщинах, и всю её выступку, как она выявилась горбато из распахнутых дверей. И как недобро пометила меня взглядом, догадываясь о моём смятении, о том, что я понял, кто она. (Ну, раз понял – посмотри, посмотри… студент!) Ведь говорила же Нина: не смотри!..
Уже много лет спустя в черновиках «Вия» нашел я описание видения философа Хомы Брута. Гоголь его в окончательном варианте сократил, подравнял, чтобы чересчур не выпирало:
…«Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. В месте ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая… На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы на верху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиной почти со слона таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног. Эти ноги бились по полу и выгибались, как будто чудовище желало подняться»…
И душа и тело рассыпалось на самостоятельно живущие куски… Может, и явление в гастрономе – какая-то черновая часть моей души, урвавшаяся от корня?..
Когда я рассказываю об этом кому-нибудь – улыбаются, как Нина. Да и я сам теперь улыбаюсь над ведьмой из гастронома. Как те ребята изрядного возраста, что смеялись и кричали понарошку в темном зале: «Ах, как нам страшно!..»
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
КОНЕЦ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
Восьмидесятым приходит конец.
Бьют вразнобой миллионы сердец.
Митинги, слухи.
Враз пропадают то мыло, то чай.
– Так вот и мы пропадем невзначай, –
Шепчут старухи.
У девяностых не видно лица.
Старый ли путь дошагал до конца?
Новый ли начат?
С гор возвращаются дети-бойцы.
Водку свою допивают отцы.
Матери плачут.
Лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянье? Способен ли художник создать верный портрет конкретной эпохи, находясь в ней телесно и душевно, живя в ней? Шедевры мировой культуры убеждают нас в том, что это возможно – от создателя изображения требуются лишь талант, искренность и умение видеть наиболее существенные приметы своего времени. Тогда, вне зависимости от художественных и политических предпочтений автора, верный образ эпохи может быть создан.
Естественно, такое произведение не вправе претендовать на фотографическую точность: оригинальные черты всегда будут частично искажены авторским углом зрения, приемами, манерой письма, особенностями жанра, колоритом… Но сквозь личностное видение, вопреки всему, все-таки проступит лицо эпохи.
В маленьком поэтическом наброске, сочиненном весной 1989 года, я пытался осуществить именно такую задачу: увидеть самое существенное в проживаемом моей державой историческом миге, запечатлеть сиюминутные общественные настроения и ожидания, обнажить трепещущий нерв времени. Через год стихотворение было опубликовано в «Нашем современнике». Сам по себе этот факт, конечно, не является стопроцентным критерием художественной значимости произведения, но все-таки редакторы одного из лучших тогдашних русских литературных журналов, видимо, что-то такое почувствовали в этих безыскусных строчках…
Сегодня, когда еще живы многие из свидетелей того переломного времени, я могу спросить их: так ли всё было, как я написал? тот ли был воздух?
ВОЗВРАЩЕННЫЙ ХРАМ
Кирпичи и доски по углам,
Купола и кровля ждут замены,
Фрески обвалились… Божий храм,
От тебя остались только стены!
Но уже иной струится дух:
Ходит попик в будничной одежде
И поет нестройный хор старух
«Господи, помилуй», как и прежде.
И к сердцам раскрывшимся, как встарь,
Подступает сладкая истома.
И мрачнеет первый секретарь
За окошком местного райкома…
Неужели тени Октября
Не сожгло мучительное пламя?
…Говорят, что дочь секретаря
Чудеса творит с колоколами,
Что летит веселый перезвон
Над монастырем и над райкомом,
Над галдящей бандою ворон,
Над простором, вечным и знакомым.
Первые приметы грядущего массового обращения моих соотечественников к православной жизни я увидел в самом конце 80-х годов, накануне крушения советской империи. Это случилось на ярославской земле, в Борисоглебском монастыре. Узнав о трудах Светланы Лапшиной и ее соратниц по сбору колоколов для монастырской звонницы, увидев своими глазами, как в древней обители возрождается церковный канон, я понял, что в русскую жизнь самым естественным образом вернутся вскоре не только христианская вера – она никуда не исчезала, несмотря ни на что! – но и обрядность.
Семидесятилетнее пленение Русской православной церкви подходило к концу. И я был рад отразить приметы этих радостных для меня перемен в своих стихах. «Возвращенный храм» был опубликован в журнале «Наш современник» в мае 1990 года.
Но радость моя была тревожной: в державе было неспокойно…
ХРОМОЙ БЕС
Облетевший цвет ярославских лет.
Собеседник пьет и глядит хитро:
– Сашку помню. Хромал да хромал в свой «пед»,
И гляди, дохромал до Политбюро…
Собеседник пьян и не шибко мудр.
Или люб ему ярославский бес?
Или сам он тоже из тех лахудр?
Но и я ведь родом из этих мест.
Я ведь тоже не ведал, куда идти
На осклизлых тропках прошедших лет.
Сашку помню… На гребне его пути
Мы спросили, как нам идти на свет.
Помню так, словно было оно вчера,
А не в тот далекий бурлящий год.
– Говорите, власть избирать пора?
Но ведь Гитлера тоже избрал народ…
Что ответил нам ярославский бес?
Он забыл немедля про свой ответ.
…Вековая плесень осклизлых мест,
Облетевший цвет незабытых лет.
Это стихотворение родилось на фоне моих размышлений о судьбе Александра Яковлева, ярославского уроженца, сыгравшего одну из ключевых ролей в развале Советского Союза. В голове моей долго не укладывалось, как мог инвалид Великой Отечественной войны, фронтовик, защищавший империю с оружием в руках, стать в ряды ее могильщиков. Что-то тут не то, – думал я, – простой вербовкой такую метаморфозу не объяснишь…
Но потом я все-таки пришел к выводу, что обожествление наших фронтовиков, присущее в 80-х годах очень многим моим соотечественникам, было, увы, результатом влияния властной пропаганды. Среди фронтовиков встречались очень разные люди, в том числе и ненавидевшие империю, желавшие, чтобы она поскорей развалилась.
Вот и Яковлев… Прожив на Ярославщине полвека, я много чего услышал об этом человеке. Но лично с ним не встречался, за исключением, пожалуй, одного случая. В конце 80-х годов на встрече «хромого беса» с главными редакторами молодежных газет я послал ему из зала записку: «Вы всё время говорите, что нас спасет демократия. Но ведь Гитлер пришел к власти как раз демократическим путем…»
Яковлев и глазом, конечно, не моргнул. Вот его тогдашний ответ, дословно:
– Да, вы правы, Гитлер пришел к власти демократическим путем. Но нас спасет только демократия.
Что хотел этим сказать хромой ярославский бес? И что в итоге сказал? Может быть, совсем не то, что хотел?
ГАЗЕТА
Газета, смутьянка и сводня,
Сегодня – победа твоя!
Не я в тебя глянул сегодня,
Тревожные мысли тая,
А ты, – среди гама и гула,
Средь ясного белого дня, —
Раскрыла меня, заглянула,
И – скомкала, смяла меня!..
Как и сугубое большинство моих соотечественников, я узнал о том, что моя страна распалась на несколько независимых государств, из прессы. Сначала об этом нам сказали по телевизору, потом написали в газетах.
Помню, как меня поразило тогда, что глобальное историческое событие уместилось в нескольких типографских строчках… сам будучи опытным газетчиком, я все-таки с трудом смог угнездить этот факт в своем сознании.
Страна рухнула!.. распалась!.. и не раздался ничей крик, не потекла кровь. Даже слёз ни у кого не выступило на глазах. Что же это такое? – смятенно думал я. – Выходит, мои соотечественники не считают нашу страну своей родиной? Или понятие «родина» для них просто абстракция, слово из шести букв, напечатанное типографским шрифтом?
Тогда-то и сочинилось это стихотворение о газете, скомкавшей и смявшей меня.
А слезы у людей все-таки потекли… но значительно позже: когда разделенный народ почувствовал на своей шкуре, что это такое – новые границы, новые начальники, новые беды…
ИГРА
Русский рынок – блатная игра
На столе из державных обломков.
И воры наиграли добра,
Обеспечив себя и потомков.
Ну, а ты снова гол, как сокол,
Просторожий Иван-горемыка,
И глядишь на расшатанный стол,
Как в туман, – и не вяжешь ни лыка.
А кругом веселятся воры,
Обернувшись в трехцветное знамя:
– Что ж ты ждал до остатней поры?
Ну, садись – поиграй вместе с нами!
Проступают сквозь редкий туман
Сотни харь, биржевых и оптовых.
Никогда не играл ты, Иван,
В эти игры блатных и фартовых.
Но поставлена карта судьбы
Не на выигрыш, а на спасенье.
Плачут дети у отчей избы —
И тебя искушает сомненье:
То ли кликнуть остатнюю рать
И вернуть себе кровные крохи,
То ли сесть – и учиться играть
В сатанинские игры эпохи.
Играть в карты с блатными и фартовыми – занятие неблагодарное, но гоголевская «Пропавшая грамота» учит нас, что достойный выход возможен и из этой ситуации: просто нужно почаще крестить свои карты. Иначе говоря, строя свое экономическое поведение в соответствии с законами рынка, мы, русские люди, должны постоянно соотносить свои поступки с ценностями Православия. Это позволит нам всё ясно видеть даже в густом тумане, напущенном дьявольским отродьем, не дать себя обмануть всеми этими «инновациями», «кластерами» и «ставками рефинансирования».
Выиграть у бесов, конечно, невозможно, но речь, я подчеркиваю, идет не о выигрыше, а о спасении того главного, без чего не будет русского народа. И здесь каждый из нас выбирает тот путь, который ему более близок. Кто-то вместе с детьми точит слезы у отчей избы, кто-то регулярно скликает под свои знамена остатние рати, занимая затем на четыре года уютное думское кресло, а я вот, вслед за дедом гоголевского дьячка Фомы Григорьевича, еще в самом начале 90-х годов решил перекинуться с рыночными ведьмами в дурня. Да так вот и играю уже без малого четверть века: то без штанов меня ведьмы оставляют, то дают пожить более-менее сносно.
А Иван-горемыка, похоже, никак не выберет окончательную линию, всё колеблется…
ВОЙ У ОГРАДЫ
В тиши покоятся давно
Те, что бесчувственны и немы…
Но рядом – «форды» и «рено»,
И воют стереосистемы.
Как будто сонм нечистых сил
Воссел на дедовых могилах
И у ограды поселил
Цивилизацию дебилов.
Открытым дверцам нет конца…
Неужто впрямь они – навечно?
Не видно умного лица,
Не слышно тихого словечка.
Одни лишь туши потных тел
Да взглядов цепкие прицелы,
Да звук за сотню децибел…
Дебилы любят децибелы.
Эта картинка, мимоходом увиденная в 90-х годах, запала мне в голову: я понял, что бытие подлинно человеческое, с его уважением к минувшему, ограждено от надвигающейся на Россию «цивилизации дебилов» лишь хрупкой кладбищенской оградой. Если бы не этот заслон, современный городской плебс поставил бы свои «ящики с гайками» прямо на дедовы могилы и врубил пульсирующий наркотический звук на запредельную мощность…
Я осознавал, конечно, откуда выросли «ноги» у этой проблемы: наши маргиналы, то есть, горожане в первом-третьем поколении, не получившие должного образования и воспитания, вдруг дорвались в 90-х до того, что им представлялось верхом благосостояния – до заграничных автомобилей и «навороченных» аудиосистем. И с детской непосредственностью поспешили сообщить граду и миру о своих приобретениях. У этих людей никогда не было понятия о личном пространстве, о персональной зоне человека и публичной дистанции, они лишь догадывались об их существовании (особенно, если ни разу не побывали на зоне с правильным порядком). Но и эти свои правильные догадки они стремились заглушить виброзвуком и быдлотекстом, оглушая и оскверняя святыню русского духовного пространства.
Я смотрел на кладбище, еле видное из-за капотов и открытых дверей автомобилей, и думал о том, что особи, не ощущающие сакральной ауры бренного праха, будут появляться всегда, в любые времена. Поэтому-то любому кладбищу и нужна ограда – чтобы защитить могилы предков от сонма нечистых сил, воющих о своей скверне.
И этот необходимый барьер воздвигла церковь – никто иной, как она…
СВЕРСТНИКУ
Ну, что ты смотришь,
Губой балуешь?
Нахапал денег –
И в ус не дуешь?
Увел активы,
Скупил пакеты,
Залез по-тихой
Во все бюджеты,
Построил замок
У кромки моря
И мнешь девчонок,
Не зная горя.
На мой домишко
В глухой сторонке
Глядишь с ухмылкой:
Стишки, книжонки…
А вдруг я – гений
Родного народа,
А ты – всего лишь
Директор завода?
Комсомольские функционеры, с которыми судьба сводила меня в молодые годы, были людьми разными – и порядочными, и бессовестными. Но дураков среди них не было. Наверное, именно поэтому некоторые из них управляют сегодня довольно крупными предприятиями. А частных предпринимателей, достигших материального благополучия, оказалось среди этих людей и того больше.
К сожалению, слишком многие из них, став богачами, начали «топырить пальцы», снисходительно посматривать на тех, кто в ХХI-й век вошел бедняком…
Этим своим стихотворением я решил выразить свое отношение к таким вот чванливым господам. Напомнить им, что те, кого они считают «лузерами», на самом-то деле просто предпочли сохранить совесть. Таков был их сознательный выбор.
И о своих собственных жизненных приоритетах я тоже недвусмысленно сказал в этом стихотворении.
ВСТРЕЧА НА РАЗВАЛЕ
Среди развала сумок и мешков
Твоя стезя уверенно пробита.
Был скользким путь. Немало корешков
На том пути отбросили копыта.
А ты крутился из последних сил
И стал своим средь верткого народца.
Развал страны тебя не развалил,
Кто сжался в ком – уже не разожмется.
Ты все прошел – и бартер, и дефолт,
Ты десять лет на «ты» с лихой судьбою,
На треп властей давно забил ты болт —
Огромный болт с фигурною резьбою.
Тебя кидали. Ты кидал не раз.
Тебя таскали в светлые хоромы,
Где под прицелом перекрестных глаз
Ты создавал мгновенные фантомы.
Ты покупал таможню и ГАИ,
Ты продавал муку и черепицу,
И верил в сны слепящие свои,
И твердо помнил: надо раскрутиться.
Как пестрый вихрь, мелькнули десять лет.
Заплыв жирком, ты «Мерс» купил сынишке.
Чтоб черный нал не застил белый свет,
Ты иногда почитываешь книжки.
И вот однажды книжицу мою
Ты вяло пролистаешь на развале,
И вдруг подпрыгнешь с криком: «Узнаю!
Мы вместе в “Олимпийском” торговали!
Или в Варшаву с торбами плелись?
Нет-нет, в Анталье квасили, качаясь!»
Оставь, братишка. Разве вспомнишь жизнь?
Но главное ты вспомнил – мы встречались.
Я, как и ты, вступал на скользкий путь,
Как в сон слепящий. Я хотел учиться,
Хотел судьбу былую зачеркнуть —
И продавал муку и черепицу.
В пустой карман кладя запас болтов,
В густой туман шагал стезей торговой,
И с той поры в любой момент готов
Забить на всё – и всё начать по новой.
В какие сны увел бы этот путь,
Будь я упрямей? Что болтать об этом!
Судьбы былой не в силах зачеркнуть,
Не став дельцом, остался я поэтом.
Живу, как все. А жизнь летит волчком
И подводить итоги рановато:
Скользит наш мир – и все мы кувырком
Сквозь сны и годы катимся куда-то.
Стезю Руси скрывает, как туман,
Неясный век… А мы – в его начале.
Крутись, братан. Не раскисай, братан.
Дай пять. Прощай. До встречи на развале!
По-разному сложились судьбы моих сверстников в постсоветской России. Кто-то опустился на дно жизни, а кто-то и преуспел. Это стихотворение, сочиненное в самом начале 2000-х годов, посвящено тем из преуспевших, кто не «прихватизировал» ничего из общенародной собственности, а всё заработал себе собственным горбом. Эти люди «челночили», брали кредиты, покупали-продавали, оставались на мели, поднимались снова… Плотно общаясь с ними на протяжении нескольких «перворыночных» лет, я учился у них веселой настырности, неиссякаемому трудолюбию, постоянному стремлению получать новые знания и умения, внутреннему презрению к «менталитету бюджетников»… И, надеюсь, научился.
До сих пор помню рассказ одного из них, на тот момент уже благоденствовавшего. Сидя в уютном офисе и поглядывая из окна на роскошный «Лексус» моего знакомца, я пил отличный кофе и слушал, а хозяин кабинета рассказывал с таким жаром, словно исповедовался:
– …И вот проснулся я ранним утром в стогу сена – нищий, голодный… Лежу, смотрю на бледные звездочки в небе и думаю: ну всё, хана. Друг предал, фирму отобрали, жена ушла, семьи нет, денег нет… Руки, что ли, на себя наложить? А на улице тем временем светает – и жрать хочется просто до ужаса. Встал из стога, сено с себя отряхнул, огляделся. Смотрю: поодаль какие-то два мужичка картошку на поле копают. Подошел к ним и говорю этак жалобно: ребята, разрешите картошечки у вас взять, кушать очень хочется… Ну, разрешили. Спасибо, говорю, большое вам. Нашел какую-то старую кастрюлю в канаве, помыл, сварил в ней себе картошки – и съел…
ЗАНОС «БАБЛА» В КРЕМЛЬ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
Когда губернатор заносит «бабло» –
Не стой у него на дороге.
Ему, бедолаге, и так тяжело:
Немеют и руки, и ноги.
Стекает по шее предательский пот
И щеки стыдобушка лижет.
Клянет демократов – и всё же несет…
И снова губерния дышит!
И снова трансфертов бегут ручейки,
Тучнеют оффшорные зоны,
И выше небес из-под сытой руки
Летят колокольные звоны.
Рыдает от счастья родная земля,
Взрастают пшеница и пресса…
Увидишь его в коридорах Кремля –
Не стой на дороге прогресса!
Признаюсь, заглавие этого стихотворения я построил по аналогии с названием известной картины художника-передвижника Василия Максимова – «Приход колдуна на деревенскую свадьбу». Мне хотелось, чтобы заглавие осталось в памяти читателя, – ровно так же, как в мою память однажды впечаталось название максимовского полотна.
Остальное – моё собственное: желчь, насмешка, желание запечатлеть исторический миг со всеми его безобразиями, поставить на нем свое клеймо…
Помнится, в конце 90-х годов, когда в моем сердце созревали первые строки этого стихотворения, я прочел их своему знакомцу, одному из «серых кардиналов» ярославской губернской политики. Читал я, по обыкновению, громко, на всю улицу, сопровождая чтение соответствующей жестикуляцией. После первой же строфы знакомец замахал руками и зашикал:
– Ладно, хватит, хватит, перестань!..
И я, несколько сомневавшийся еще, нужно ли мне далее работать над этой поэтической инвективой, тут же решил обязательно доработать и опубликовать ее. Ежели провинциальная околовластная сволочь такие вирши не одобряет – значит, я нащупал больную точку. И, значит, нужно прижечь ее, вонзить в нее поэтическую иглу. Терапия чжэнь-цзю помогает организму излечиться от болезней.
Мой любимый астронавт, летящий в сорок восьмом веке от Рождества Христова по орбите Сатурна, прочитав это стихотворение, вздохнет и скажет, должно быть:
– Охо-хо… всё это – далекие средние века: что приход колдуна, что занос «бабла»…
АРИСТОКРАТ
Я ненавижу демократию,
Я подлый демос не люблю –
Он подчиняется понятию
И поклоняется рублю.
Не по душе и олигархия…
«Так что ж ты любишь?» – мне кричат.
Друзья! Люблю гулять по парку я,
Глазеть на кошек и девчат.
И душ люблю после гуляния,
И смену чистого белья…
Друзья кричат: «Да это мания!»
Нет, это просто жизнь моя.
Нет ни каприза и ни вызова
В моих желаниях ничуть.
Я просто так у телевизора
Люблю полчасика вздремнуть,
Люблю налить холодной водочки,
Махнуть три стопочки подряд
И закусить хвостом селедочки…
Быть может, я аристократ?
Согласно Аристотелю, основой демократии является свобода, основой олигархии – богатство, основой аристократии – добродетель. Безусловно, я выбираю третью форму государственного устройства, но с одной оговоркой: господство денежной аристократии меня не устраивает. Поэтому так называемая «Великая французская революция», открывшая этому сословию «зеленую улицу», представляется мне историческим злом. Да и не вижу я каких-то особых отличий денежной аристократии от олигархии.
С другой аристократией – родовой, воинской, религиозной, даже чиновной, черт ее дери! – я готов примириться. А если в стан аристократов можно будет попасть еще и за талант и ум, то ничего лучшего, по-моему, и желать нельзя.
Надеюсь, что наша великая евразийская империя устоит в грозе и буре грядущих веков и постепенно создаст, на духовной основе двух основных своих конфессий, православной и мусульманской, собственную евразийскую аристократию. Лелею мечту о том, чтобы в это сословие вошли когда-то и мои потомки.
Пока что, впрочем, это очень отдаленная перспектива. В мои времена штурвал управления огромным государством перехватывают друг у друга люди, не могущие, мягко говоря, похвастаться аристократическим происхождением. Это даже не демос, это охлос какой-то…
Что ж, мне остается только писать шуточные стихи на «политологические» темы.
Диана КАН. Российская столица вдохновения
О 52-м Всероссийском Пушкинском празднике поэзии
52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии собрал в Большом Болдине Нижегородской области писателей и почитателей творчества великого поэта со всей страны.
Известные мастера слова приехали в российскую столицу вдохновения, где первым поэтом России были написаны лучшие произведения. Владимир Середин, Александр Кондрашов и Борис Лукин из Москвы. Николай Алешков из Татарстана. Диана Кан из Оренбурга. Магомед Ахмедов из Дагестана. Николай Лалакин из Владимира. Большая делегация писателей по традиции прибыла из Нижегородчины – Валерий Сдобняков, Олег Захаров, Людмила Калинина, Ирина Дружаева, Валерия Белоногова, Михаил Чижов, Александр Чеснов, Софья Александрова.
Да что там! Поздравить почитателей творчества Поэта прибыл сам и.о. нижегородского губернатора Глеб Никитин со своей командой. И со сцены недавно отстроенного в Болдине великолепного Пушкинского центра озвучил гостям праздника приветствие от главы государства. Губернатора и его команду встретил в бальном фойе центра настоящий Пушкинский бал, где любимые Поэтом танцы исполняли малыши в бальных платьях и фраках, молодёжь школьного возраста и сотрудники музея, которых можно назвать уже профессионалами «бального дела». Выступления были великолепны, губернатор был приятно удивлён…
Программа праздника выдалась более чем насыщенная. Мероприятия часто шли параллельно на разных площадках. И поспеть всюду гостям и зрителям было просто нереально, приходилось выбирать, и выбор был не из лёгких, ибо хотелось одновременно побывать всюду!
«Пушкин» – понятие всеобъемлющее, потому не удивительно, что мероприятия были не только литературные. Среди нижегородской делегации я с удовольствием увидела замечательного художника-пушкиниста Валерия Крылатова, чья трактовка образа Пушкина настолько современна и вместе с тем традиционна, что «почерк» этого художника не спутаешь ни с каким другим!
Для юных участников праздника в парке пушкинской усадьбы состоялся мастер-класс по акварели на пленэре «Под сенью болдинских аллей…».
В выставочном зале музея-заповедника прошло открытие выставки-конкурса творческих работ учащихся и преподавателей Нижегородской школы искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф».
В картинной галерее открылась выставка «Пушкиниана молодых», основу которой составили произведения молодых художников разных поколений. Как пояснила нам директор пушкинского болдинского музея-заповедника Нина Анатольевна Жиркова, эти выставки – результат плодотворного сотрудничества Большеболдинской картинной галереи и Нижегородского регионального отделения Союза художников России.
Поистине знаковым можно назвать открытие в рамках праздника бюста святому благоверному князю Александру Невскому – небесному покровителю рода Пушкиных. Бюст прибыл в Болдино из солнечного Краснодара и установлен на церковной площади напротив алтарной стены родового храма в честь Успения Божией Матери, построенного в своё время на деньги семейства Пушкиных.
Каскадом творческих встреч отмечен был праздник. В конференц-зале научно-культурного центра коллеги и читатели встречались с лауреатами литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень» 2018 года Людмилой Калининой (номинация «Поэзия») и Валерией Белоноговой (номинация «Критика, публицистика»). А в детской библиотеке состоялось знакомство с большой креативщицей, прозаиком и поэтессой Ириной Дружаевой, с которой я подружилась, поскольку мы жили в одном гостиничном номере. Ирина стала лауреатом премии «Болдинская осень» в номинации «Проза».
Пушкин тем и замечателен, что тяжкую литературную работу делал словно играючи. И потому приехавшие на праздник писатели не только выступали перед публикой на различных сценах, но и провели круглый стол, посвященный обсуждению проблемы наследования традиций русской классики в современной отечественной литературе.
Одной из кульминаций праздника стал торжественный вечер в научно-культурном центре, где выступили гости – поэты различных городов и весей, а также разных поколений. Впервые в данном мероприятии участвовали начинающие поэты – победители Слета молодых литераторов… По окончании официальной части праздника почетных гостей и болдинцев ожидала уникальная возможность увидеть балет «Кармен» на музыку Жоржа Бизе. Яркий костюмированный спектакль представил зрителям Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева Республики Мордовия.
Второй день праздника по традиции начался панихидой по Поэту в родовом храме Пушкиных. Затем в усадьбе музея поэты-гости возложили цветы к памятнику А.С. Пушкина. Этот момент я запомню навсегда. Дотоле хмурое болдинское небо именно в момент возложения нами цветов чудесным образом вдруг прояснилось и выглянуло яркое солнце, чтобы сопровождать праздник до его окончания. «Пушкин с нами», – подумала я, глядя на солнце.
После экскурсии по болдинскому дому-музею, перед которым растёт лиственница – ровесница Поэта, мы с удовольствием включились в интерактивную программу «На Пушкинском на дворе» с участием творческих коллективов. Также «участниками» этой программы были тающие во рту и столь любимые Поэтом яблочные пирожки и самые настоящие самовары. Мы поучились вязать банные веники, носить вёдра на коромысле, прилегли на соломе рядом с пушкинским Балдой, пофотографировались в окружении юных гусаров и барышень пушкинской эпохи…
А праздник тем временем набирал обороты! Пока в культурном центре шёл спектакль «Летучий корабль» для юных зрителей по мотивам русских народных сказок в постановке Арзамасского театра драмы, мы выступали на импровизированной сцене в роще Лучинник. Такие поэтические чтения под открытым небом – еще одна традиция праздника.
Эта роща известна, как излюбленное место прогулок Поэта. Сама атмосфера Лучинника настраивает на лиризм… Впрочем, не только на лиризм, поскольку в пушкинские дни в Лучиннике проводится ярмарка народных промыслов, по развитию которых Нижегородчина прочно удерживает первое место в России… Спросите, почему роща называется Лучинник? И коренные болдинцы расскажут вам историю, что, когда Пушкин был в Болдине, на конюшню привели сечь одного крестьянина, который порубил на лучины молоденькие деревца из этой рощи. Пушкин был добрым барином. Он отменил наказание, а крестьянам сказал: «Не губите рощу, она пока такая молодая, настоящий лучинник. А вырастет и будет вам подмогой…». Спасённые Пушкиным берёзы и липы уже в котором своём древесном поколении шумят здесь, храня заповедные целебные родники, веками питающие российскую столицу вдохновения – пушкинское Болдино.
Наши встречи
Алексей КОТОВ. «Пенсионная реформа» не должна расчеловечивать народ
– Алексей, «Парус» не политическое, точнее говоря, не публицистическое и не информационное издание, но тем не менее мы решили коснуться темы повышения пенсионного возраста. Причина – Ваш, скажем так, праведный и буйный гнев. Объясните, пожалуйста, что именно Вас так разозлило в предложении правительства по пенсионному возрасту?
– Всё, и даже больше, чем всё!
– Ого! Извините, это как?..
– Я считаю, что этот закон убьет страну, как убил СССР «сухой закон» Горбачева…
– …Я Вас поправлю – Егора Лигачева.
– Я в сортах хреноредьки не разбираюсь. Но хорошо помню, как тогда всё это происходило. Приехал на пару дней домой с турбазы (был в отпуске, отдыхал там) и пошел в магазин…
– Не могу не улыбнуться: что, «горючее» кончилось?
– Да. Но я не вижу ничего постыдного в том, что пошел в магазин за спиртным. Как выяснилось, водочный отдел магазина был закрыт – толпа покупателей недавно сломала решетку и прилавок. Ажиотажный спрос, так сказать… Очередь стояла за магазином и вела вверх, к задней двери с оконцем, по довольно высоким порожкам – человек поднимался над толпой едва ли не на два метра, приближаясь к заветному окошку. Перил не было – просто не успели подготовиться к ажиотажу. Потом покупатель с товаром шел по порожкам вниз, мимо тех, кто стоял в очереди. Не знаю, почему, но мне казалось, что всё это было похоже на дорогу на эшафот… Туда – обратно, и всё на виду. Там, наверху происходило что-то очень дурное, и человек, спустившись вниз, был уже другим. Знаете, что удивило меня больше всего?
– Вы говорили об ажиотажном спросе. Вас удивили размеры толпы?
– Не только. Больше всего меня удивило то, что в толпе были, если так можно выразиться, спрессованы самые разные люди: откровенные бездельники-алкоголики и интеллигенты со страдающими лицами, пожилые работяги и недавние школьники-юнцы, типы с уголовными физиономиями и молодые перепуганные женщины…
– Были и женщины?
– Мало, но были. Талоны всегда было жаль терять. Дефицит всего был просто ужасающим. Тогда же появилась шуточка: мол, если в очереди стоит женщина, значит, ей некому отдать талон и можно смело с ней знакомиться.
– Очередь объединяла всех в единое целое?
– Не объединяла – сминала, перемешивала, превращала в однообразную толпу. У людей были одинаковые, серые и хмурые, лица. Стоя в этой проклятой очереди, нельзя было думать ни о чем… не знаю, как сказать… ну, ни о чем более-менее светлом, что ли…
Человеческий нравственный мир выравнивался по единой нижайшей планке. Всё раздражало, всё вызывало резкую ответную реакцию, но я не думаю, что люди понимали настоящую причину своего раздражения. Хотелось побыстрее закончить это кажущееся постыдным стояние в очереди и уйти. Помню, какой-то пьяный упал вниз с самой вершины ступенек… Повезло, как и любому пьяному, – не разбил голову. Он быстро встал и тут же, что-то крича, со злобой запустил в очередь бутылку пива. Та ударилась о стену и «взорвалась» над головами людей. Здоровенные мужики, облитые пивом, не тронулись с места и продолжали спокойно стоять. Никто не хотел связываться с пьяными дураками (у «пострадавшего» были дружки), и все боялись потерять свою очередь. Это был уже не народ, это был охлос. Но кто превратил людей в охлос, кто поставил их в эту проклятую очередь? Благие пожелания Михаила Сергеевича Горбачева. Мол, народ много пьет и ему нужно помочь. Здесь очень трудно не перейти на заурядный мат… Я понимаю желание «кремлевских мечтателей» принести благо своему народу, но я отлично понимаю и те причины, которые вызывают откровенную неприязнь к таким «мечтателям».
– Человека нельзя насильно «втискивать» в очередь, потому что это «втискивание» убивает в нем человека?
– Да, и сегодня я вижу ту же самую «очередь».
– Алексей, Вы можете четко сказать, что же все-таки общего между той очередью возле магазина, в которой Вы когда-то стояли, и «пенсионной», которую Вы видите сейчас?
– Могу, это «талоны». В марте этого года мне дали пенсию – 9 600 рублей. Причем государство будет теперь тщательно следить за тем, чтобы я не подрабатывал и никаким другим образом не пытался поднять свой уровень жизни. Насколько я понимаю, это исключительная прерогатива Владимира Владимировича Путина. Поднимает «уровни» либо он лично, либо – никто. «Шаг влево, шаг вправо – побег, прыжок на месте – провокация». Так вот, «9 600» это и есть мой «талон». Он, как и любой другой, гарантия нищеты и унижения. Правда, очень скоро для очень многих людей этот «талон» станет еще дальше.
– Может быть, Вы были ленивы и плохо работали?
– Признаюсь честно, мне всегда «мешал» жить литературный труд. Он «дарил» мне минимум дохода при максимуме затрат. Но, опять-таки, если посчитать все действительно честно, то есть не так честно, как выгодно государству, а хотя бы нейтрально, то счет будет не в его пользу. При выходе на пенсию я взял расчетный период 1987–1992 год. Пять лет. В пенсионном фонде мне сказали: «У вас все хорошо, потому что коэффициент зарплаты – почти два». Иными словами, в те «расчетные» годы моя зарплата превышала среднюю в два раза. Смею вас уверить, что я был хорошим инженером. Сегодня средняя зарплата в моем городе (сайт «РИА») 34 000 рублей. Теперь умножьте эту зарплату на коэффициент «почти два» и на 0,33. Получим примерно двадцать тысяч. Мне дали вдвое меньше.
– Алексей, все-таки расчет пенсий ведется не так упрощенно…
– Да, не так. Там еще есть чуть ли не дюжина коэффициентов, которые учитывают и другие годы работы. Но в чем моя вина? Да, я не вписался в «рыночный капитализм», но разве он страдал от недостатка инженеров-механиков? В 1993 году я с трудом нашел работу грузчика! Это пенсионные коэффициенты учитывают? Они учитывают то, что я учился в институте не на менеджера салона сотовой связи, а на инженера-механика? Простите за грубое сравнение, но с человека нужно и должно спрашивать то, чему он учился и чему присягал, а не всякую… (И.К. – сказано неразборчиво). Повторюсь, я был хорошим инженером, но в «проклятые» 90-е развернулись те, кто умел продавать, а не создавать.
Я заговорил о средней зарплате в своем городе по одной простой причине: кто тянет за язык существующую власть говорить о ней вслух?.. Что, похвастаться хочется? Но за слова нужно платить иначе, они (простите) ни фига не стоят. Но снова и снова кричат вслух: у нас, мол, хорошая средняя зарплата, и тот, кто хочет работать, получает хорошие деньги.
– Это не так?
– Знаете, в нашем городе работает фирма «Сименс». Ребята, которым повезло, действительно получают там больше 30-ти, а некоторые – и больше 40 тысяч… Недавно один парень со смехом рассказал мне, что у них в бригаде работает человек, которого они называют «Дедом». Знаете, сколько «Деду» лет?
– Сорок?
– Тридцать пять. То есть, если вам больше тридцати лет, то на работу в «Сименс» вас не возьмут. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: мол, в связи с повышением пенсионного возраста нужно принимать необходимые законы… А что раньше мешало? Взгляните, ведь в сущности «Сименс» ведет откровенно «хищническую политику», он эксплуатирует самый «плодородный» слой населения, и немецкой фирме наплевать на тех, кому за сорок или пятьдесят. Они же не в Германии. Но теперь в России появятся и те работяги, кому за шестьдесят. Тут, как в общеизвестном анекдоте про медведя, можно спросить: «Вот я и пришел… Тебе что, легче стало?»
Разве расхищать можно только земные недра? Разве народ – не единое целое и разве не преступление разделять его на тех, кто, возможно, промолчит, потому что пока неплохо зарабатывает, и на тех, на кого уже не стоит обращать внимания, потому что они уже немолоды? Ведь это даже не преступление, а откровенное безумие!.. Разве не видят и не оценивают происходящее молодые люди, а видя, какие выводы сделают?
Власти не стоит ждать бунтов против повышения пенсионного возраста. Их не будет. Все будет тихо… Тихо и мертво, потому что люди просто перестанут верить в элементарную справедливость. Возможно, это самое страшное, что может произойти – нравственное омертвение совести народа.
Почему никто не вышел защищать Советскую власть в 1991 году? Да потому что люди очень хорошо понимали, что она собой представляет и что всю суть этой власти можно описать одной фразой Полиграфа Шарикова из «Собачьего сердца»: «В очередь, сукины дети, в очередь!..». Но люди не захотели становится в «водочную» очередь возле магазина, и очень многие не захотят становится в «пенсионную». Повторяю, это вопрос не физического стояния, а психологического. Люди хорошо поняли: есть «они» – те, которые получают в тысячи раз больше и которым наплевать на простых людей, и есть «мы» – те, кто не «они».
– Алексей, Вы против элиты?
– Я понимаю, Вы улыбаетесь… А кто эта «элита»? Тот, кто первым добежал до нефтяной вышки и с воплем «это мое!» вцепился в нее обеими руками?
– Ну, допустим, есть еще нефинансовая элита…
– Это какая?.. Та, что поет на сцене, выглядывая из перьев, как из кустов? Все, что имеет в России хоть какую-то ценность, уже давно куплено. И те, кто покупал, не хотят больше платить. Если ты беден – ты никто. Вдумайтесь, в России бедные платят налог в процентном отношении больше, чем богатые. Допустим, возьмите зарплату 15 тысяч и 150 тысяч. Легко увидеть, что с учетом скрытых налогов (НДС и акцизов на бензин) бедный заплатит в процентном отношении не 13% налога, а все 20%.
– Может быть, богатые больше покупают, и значит, больше платят?..
– …А тогда получается, что бедный виноват в том, что ему не на что покупать? А если богатый ничего не купил, а просто положил деньги на счет – и там ему накручиваются проценты?
– Алексей, Вам не кажется, что мы начинаем считать деньги в чужих карманах?
– Знаете, я придерживаюсь мнения, что если финансовый капитал человека перевалил за некую критическую сумму (величину этой суммы экономисты смогут определить лучше, чем я), этот капитал приобретает определенное социальное значение. То есть человек, обладающий таким капиталом уже обязан – понимаете?.. именно обязан! – создавать рабочие места или инвестировать деньги в научные разработки. Если он не хочет делать это лично, есть инвестиционные фонды. А если человек все-таки не делает этого из принципа, он должен платить налог, который превысит его доходы по процентам от любого банковского вклада…
– Что-то вроде отрицательной ставки? Интересно, но давайте вернемся к пенсионной реформе. Что Вас возмутило больше всего?
– Всё.
– Давайте по порядку.
– Меня возмутило, что на пенсионной реформе пытаются заработать. Ребятки в правительстве наконец-то проснулись, увидели, что кончаются деньги, и объявили, что пенсионеров стало слишком много.
– О пенсионной реформе говорят уже давно…
– Не говорят, а болтают, и это, так сказать, две большие разницы. Кто покажет мне пример обсуждения этой проблемы, например, в Совете Федерации или Думе год, два года или пять лет назад? Скромное упоминание вскользь: мол, такая проблема есть – не в счет. И в итоге всё свелось к тупому повышению пенсионного возраста. А это, повторюсь, аморальная попытка заработать на нищих.
– На бедных много не заработаешь…
– На бедных зарабатывают тем, что делают их еще более бедными. Я уже говорил, что в России именно бедные платят в процентном отношении гораздо больший налог, чем богатые. С этой точки зрения мы просто уникальная страна. А что мешает правительству поднять процентную ставку для богатых?
– Дмитрий Анатольевич как-то раз уже упомянул, что тогда будет трудно собирать налог…
– А он, насколько я понимаю, профессионал высочайшего класса, только лёгонькие налоги собирать умеет? Пенсионер и бедняк куда менее мобильны как в физическом пространстве, так и в финансовом. Их легко сцапать, они никуда не денутся. Да, с богатыми и финансово мудрыми все значительно сложнее. И тут мне спросить хочется, а как – при каких таких обстоятельствах? – человек, который не хочет платить налоги, вдруг смог стать в России богатым? Ему кто-то помог?.. А кто?.. Давайте, в конце концов, разбираться, почему если у человека завелись деньги, у него вдруг возникает страстное желание свалить из страны. Взгляните на Китай, там если и есть такая проблема, то по своей величине она не сопоставима с нашей.
– Алексей, Китай – другая система…
– Ирина, простите за грубое выражение, но я плевать хотел на это! Любая система, если она хочет существовать как система, должна уметь собирать налоги. Например, если бы правительство США не научилось собирать налоги, какой сейчас была бы эта страна? И только правительство России говорит, что оно не сумеет этого сделать. С другой стороны, оно хочет поднять пенсионный возраст. И никто не сомневается в том, что оно сделает это очень быстро и со всей, так сказать, ответственностью и пониманием остроты момента. Правда тут не понятно, в чем будет заключаться его профессионализм? Разве для того, чтобы залезть в карман шестидесятилетнего гражданина, нужны какие-то особые навыки?
Как-то раз и уже довольно давно я стал свидетелем беседы врача с человеком рабочей профессии. Врач сказал, что «эксплуатация» (извините за машинный термин, но он так и сказал) человека после 60 лет на производстве очень невыгодна хотя бы потому, что пожилого человека нужно очень и очень хорошо кормить. Например, красной икрой и высококачественным сливочным маслом. Иначе он просто будет плохо работать. Еще врач посоветовал этому работяге (токарю) получасовой массаж спины после смены.
Теперь давайте посчитаем: даже если проблему ограничить только красной икрой и массажем, сколько должен заплатить токарь чтобы выполнить волю государства и доработать до 65 лет? Тысячу в день или полторы?.. Хорошо, пусть только тысячу. Это примерно 30 тысяч в месяц, что примерно равно средней зарплате токаря в провинции. Тут еще стоит заметить, что красная икра и массаж не пойдут на увеличение срока жизни токаря, они – только поддержат его силы, а вот работать он будет все-таки на износ.
Что это, цинизм или обыкновенное безумие?!.
– Улыбнёмся: если государство будет тратить красную икру и сливочное масло – стандартный банковский бизнес-ланч – на токаря, это и в самом деле безумие. Образно говоря, это почти равно повышению подоходного налога, например, с зарплаты один миллион в месяц с 13% до 15 %.
– Но это и цинизм тоже. Ведь токарь будет сам оплачивать расходы на поддержание своего здоровья, чтобы не упасть в обморок у токарного станка. Следует учесть, что его послепенсионный возраст сократится больше, чем на пять лет. Какая выгода, а?!. Двойная, можно сказать.
– Подождите, Алексей! Но разве нет примеров, доказывающих, что пенсионный возраст все-таки можно повысить? В России работают не только токари…
– Разумеется. В телепередачах несколько раз мелькал такой пример: женщина-врач говорит, что не согласна выходить на пенсию, мол, она может принести еще много пользы, что движение и активный образ жизни продлят ее годы и так далее. И я думаю, что она права. Но разве уместно ставить московского врача рядом с провинциальным токарем?! Простите за голословное утверждение, но я почему-то думаю, что у человека гораздо больше шансов прожить до глубокой старости именно в Москве, а не в провинции. Уж слишком большая разница в уровне жизни. А вот когда всё валят в одну большую пропагандистскую «кучу», – мол, посмотрите на врача! – я, возможно в чем-то утрируя и усиливая акценты, говорю, вы про провинциального токаря не забудьте.
Кроме того, если вы уж взялись делать «пенсионную реформу», то, может быть, пора вспомнить о слишком большом разрыве в только что упомянутом уровне жизни между Москвой и провинцией?
– Вы предлагаете начать с Москвы?
– Ирина, а почему нет? Если Москва уйдет «в отрыв» в деле повышения пенсионного возраста, то отставание провинции станет выглядеть как некая компенсация за «разрыв».
– Алексей, Вы же отлично понимаете, что это чудовищный политический риск…
– Но почему отсутствие этого риска и уютную жизнь «любимого» правительства я должен оплачивать из своего кармана?!
– Размечтались! Из Вашего «талона»… 9 600… много не заплатишь.
– Это потому, что я уже всё и всем заплатил. И, как уже было сказано, правительство тщательно подсматривает за тем, что, если я вдруг начну подрабатывать, оно тут же сэкономит на прибавке к пенсии.
– Алексей, а как это – жить на 300 рублей в день?
– Я, конечно же, подрабатываю…
– А если поймают?
– Если поймают – отнимут деньги… Я же не в офшорах их прячу.
– Я вдруг представила себе, как ночью к Вашему дому подъезжает полицейская машина. Дверь дома взламывают без стука, в спальню врывается толпа полицейских и они тут же устремляются к комоду… Алексей, Ваш офшор – комод, да?..
– Как-то так.
– …И полицейские торжественно извлекают из комода «контрабандные» 200 рублей. Вам тут же, при свете прыгающего фонарика, зачитывают приговор: за попытку повысить свой материальный уровень жизни без разрешения правительства…
– … и лично Владимира Владимировича Путина…
– …за особый цинизм в использовании невинного комода в качестве офшора… В общем, приговорить к неповышению пенсии.
– Знаете, я сомневаюсь, что эти 9 600 можно назвать пенсией… Это какие-то пенсионные выплаты, а не пенсия. Навскидку полистал интернет, вот цитата с сайта «Свободные новости»: «678 млн в день тратит Россия на содержание заключенных. А на каждого заключенного (их сейчас 630 тыс. человек) в месяц выделяется по 33 тыс. Это выше средней зарплаты во многих регионах».
Разумеется, в эти 33 тысячи входит и оплата аппарата охраны… Но все-таки на одного заключенного выделяется денег больше, чем мне, пенсионеру.
– Вас не надо охранять, Вы никуда не убежите.
– На те деньги, что у меня есть, конечно, не убегу.
Знаете, мне врезался в память фрагмент суда над Андерсом Брейвиком. Человек, убивший 77 своих сограждан, вдруг заплакал, когда стали зачитывать выдержки из его дневника во время процесса. Я почему-то думаю, что он заплакал от вдохновляющего – именно вдохновляющего и никакого другого – восхищения самим собой. Вот, мол, какой я замечательный, какие у меня замечательные мысли и насколько здорово я всё сказал!..
Не так давно, кажется, в мае, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова тоже плакала… Но не в суде, а в Думе. И я думаю, что причина ее слез была та же – восхищение собой. Мол, мы много сделали, много сумели, многое смогли… Но суть-то одна и та же: человек видит только самого себя, свои успехи и достижения, свою жизнь и свои дела…. Такая эгоистичная слепота, я уверен, может породить бессмысленную жестокость. И если у Брейвика она была звериной, то у Голиковой – просто чиновничьей. Да, если так можно выразиться, «не выходящей за рамки», да, не преследуемой законом, но разве нравственная слепота перестает быть слепотой, когда дело касается жизней многих людей? Я уже тогда, увидев слезы Голиковой, понял, что нам стоит ждать «великих свершений».
– Не слишком ли жёсткое суждение о человеке, Алексей?
– Нет, Ирина, нет! Я еще могу понять слезы Путина, когда он говорит о присоединении Крыма, но слезы Голиковой меня ужасают. Так нельзя… это попросту нехорошо… это дико, в конце концов! Вспомнился эпизод из фильма «Как царь Петр арапа женил». В нем Петр бросает какому-то просителю фразу: «О себе думаешь, а не о пользе государства». Нельзя плакать от восхищения собой и одновременно думать о пользе государства. Так не бывает. Кроме того, я не считаю порядочным призывать к повышению пенсионного возраста, имея доход более одного миллиона в месяц и особенно с учетом величины средней пенсии.
Например, Татьяна Голикова не зарабатывает, а получает от государства свои деньги. Зарабатывают токарь и врач, они создают реальные товары и услуги. Посмотрите, насколько болезненно резко реагируют и Дума, и Совет Федерации на более чем скромные предложения понизить их зарплаты.
– Они – элита…
– Да, они считают себя элитой, но считать – не значит быть. Если ты – элита, почему ты платишь те же 13 % подоходного налога, что и простой работяга?.. Такое поведение – это поведение хуторского жлоба, а не элиты. Если нет другого таланта кроме как просиживать седалище в государственном учреждении, помоги государству хотя бы материально или, по крайней мере, уменьши затраты на содержание своего заседающего седалища.
Почему эта «элита» не скажет: мол, видя трудную экономическую ситуацию в стране, мы повышаем подоходный налог не вам, граждане, а себе. Если «элита» хочет, чтобы ей поверили, почему она этого не сделает?
Но вместо этого мы постоянно слышим о том, как тот или иной чиновник, явно пользуясь служебным положением, «улучшает» финансовое положение своих родственников. Им постоянно – мало-мало-мало!.. Они хотят повысить пенсионный возраст в стране, в которой не могут довезти до банка конфискованные у вора миллионы долларов и в которой сотни тысяч гектаров тайги отдаются в аренду за гроши.
И нет – нет денег! – на пенсии.
Любой народ – как река. Есть ее исток – это дети, и есть дельта реки – там, где она перестает быть рекой и впадает в море. Основная забота государства – дети и старики. Даже не безопасность государства, понимаете?! Потому что, если не будет детей, не будет и государства, а если безвременно начнут умирать старики, вас не простят их дети.
Чудовищность сложившейся ситуации заключается еще и в том, что, я уверен, поднятие пенсионного возраста самым страшным образом ударит по демографии, о которой так любит порассуждать Владимир Владимирович Путин. Я не могу представить себе шестидесятилетнюю бабушку, играющую с внуком после того, как эта бабушка простоит восемь часов у конвейера. Это невозможно, понимаете?..
Посмотрите, с каким откровенным цинизмом была начата эта «реформа» – за несколько часов до начала первого матча чемпионата мира по футболу вдруг выступает Медведев. Что, разве нельзя было найти другое время? Зачем же так?! Зачем превращать праздник футбола в некий наркотический «укол»: мол, «пипл», увлеченный зрелищем, будет не так возмущенно реагировать. Уже только это выступление Медведева доказывает, что правительство затеяло, мягко говоря, не совсем честную игру – иначе оно просто вело бы себя по-другому.
А как можно проводить «реформу» под некие обещания: мол, мы примем законы… Но разве уже завтра «Сименс» станет принимать на работу шестидесятилетних мужчин и женщин? Ведь все же отлично знают, что после 45–50 лет очень трудно найти работу. Почему законы, защищающие таких людей, не были приняты заранее?
– Может быть, у Дмитрия Анатольевича было много других забот?
– Я был бы очень рад, если бы он рассказал всем, каких именно забот и что помешало ему подумать о главном. Я не помню точно, когда именно – за несколько дней или за неделю до Медведева выступал Путин. Он сказал, что какие бы решения ни были приняты в ближайшем будущем, все они будут направлены на повышение благосостояния народа.
В тот вечер мы с женой разговорились о том, что никогда не ездили отдыхать на море… Потому что мы бедны. Моя жена родилась в 1965 году и в 2020 году ей исполнится 55 лет. Мы говорили о том, что, может быть, учитывая уже и ее пенсию, нам наконец-то удастся собрать деньги на отдых…
– Если не секрет, в Крым собирались поехать?
– Да. А потом, несколько дней спустя, выступил Дмитрий Медведев – и всё кончилось. Несложно понять, что даже если моей жене дали бы самую маленькую пенсию в 10 тысяч, она потеряла за два «конфискованных» пенсионных года 240 тысяч рублей. Правда, мне пообещали прибавить 1 тысячу рублей…
– Сомневаюсь, что на Ваши 9 600 получится тысяча – рублей 700, не больше…
– Хорошо, пусть 700. За два года это составит примерно 17 тысяч. 240 тысяч минус 17 получается 223 тысячи в пользу правительства. Парадокс в том, что у нас с женой ухитрились украсть те деньги, которые еще не выплатили. У нас украли деньги как бы в кредит, понимаете?
– Да, «украсть в кредит» – в этом есть что-то трагикомическое. Позавидуешь изобретательности некоторых людей. Но не расстраивайтесь, видно крымский мост строили не для таких, как Вы…
– Его строили для молодых, сильных и политически грамотных, а таких, как я, уже не возьмут в светлое будущее российского капитализма.
– Тем более Вы не работаете в «Сименсе»…
– Они доберутся и до тех, кто там работает. Но позже. Если эти люди взялись за что-то, они будут рушить всё до конца. Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума.
Вот простой пример. До последнего времени я очень спокойно относился к политическим программам на телевидении. Многие называют их пропагандой, но почему ее не должно быть в России, если существует пропаганда извне, направленная против России? Я очень хорошо помню ту бешеную энергетику, хлынувшую с Украины весной 2014 года. Ей нужно было что-то противопоставить. Правда, не знаю, как других, но меня всегда больше интересовала не сама пропаганда, а тот фактаж, которым она пользуется. Выводы я предпочитаю делать сам.
Несколько дней назад этот теле-«фронт» перестал для меня существовать. Он рухнул после того, как ведущий одной из передач, Киселев, заявил, что, мол, нельзя проводить референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, поскольку решение этого вопроса нельзя доверять «толпе, охлосу». Я отлично понимаю, что с точки зрения такого яркого представителя российской пропагандисткой «элиты», как Киселев, я – человек, которому дали 9 600 рублей пенсии – принадлежит именно к охлосу, но у меня все-таки еще теплилась какая-то надежда… Теперь ее нет. Я и раньше смутно подозревал, что пусть даже только с философско-оценочной стороны богатые ненавидят бедных гораздо сильнее, чем бедные богатых, но теперь эта догадка получила свое четкое подтверждение. Киселев никогда не пощадит таких людей, как я, не пощадит их и Татьяна Голикова. Их нравственная планка в понимании человечности вряд ли опустится до понимания того, как можно прожить на 300 рублей в день… Они видят только себя и некие подсказанные им интересы государства, на которые им, в сущности, наплевать.
Знаете, что будет дальше? Пропагандистский «фронт» рухнул, и теперь в эту гигантскую брешь хлынет вся политическая грязь… А Киселев, даже если он сорвет до хрипа голос, агитируя «за Кремль», будет, уже помимо своей воли, агитировать против него. Его никогда не снимут, и он будет валить страну куда сильнее и успешнее, чем его противники-либералы, и это будет продолжаться день за днем.
– Это саморазрушение тоже стоит занести в цену «пенсионной реформы»?
– Да, и от этого становится немного жутко. Внутри власти что-то «перемкнуло», и она перестала понимать что-то очень важное.
Еще такой пример. В фильме «Горячий снег» советский генерал говорит о том, что, если он будет думать о солдатах, как о людях, у которых есть матери, он не сможет послать их в бой, потому что бой – это смерть. Я не был на Отечественной войне, потому что родился много позже, и не могу давать оценку словам генерала. Это очень тяжелый – как нравственный, так и философский – вопрос. Но когда я вижу, как в мирное время, ссылаясь якобы на нехватку денег (когда эти деньги миллиардами утекают в самые разные финансовые «щели»), перестают думать о гражданах как о людях… Ведь так нельзя! Почему власть вдруг решила, что она имеет право думать вот так, «по-военному» – в мирное время?
Сейчас тяжелые времена?.. А что, разве раньше они были легче? Ведь нет ни одного мало-мальски разумного довода в пользу той торопливости, с которой пытаются пропихнуть «реформу».
Да, рынок многое «балансирует», сглаживает и в определенной ситуации что-то смягчает. Например, именно благодаря ему сегодня в России есть дешевые продукты для бедных, которые побрезгует купить более или менее обеспеченный человек. Но буханка дешевого хлеба плесневеет на третий день, а дешевую кильку не будет есть даже голодный кот. Я почему-то думаю, что «пенсионная реформа» сделает эти продукты еще более дешевыми, а бедных – еще более бедными.
– Почему?
– Потому что бесчеловечная «реформа» не может принести ничего хорошего. Дьявол, даже если он ваш союзник, всегда будет поступать как дьявол, а не как союзник.
О русских писателях говорят, что, мол, они все вышли из гоголевской «Шинели». Это не совсем так. Из «Шинели» вышла вся страна, понимаете?.. Вся – и без остатка. А трагедия нашей страны заключается в том, что на протяжении последних ста лет ее «элиты» пользуются вроде бы и благими с виду, но, по сути, бесчеловечными идеями. Идея не должна рас-че-лове-чи-вать народ. Всегда, при любой экономической и политической системе, будут существовать богатые и бедные. Я даже не назову это злом. Просто люди неодинаковы и непохожи от природы. Но нельзя забывать о последних, потому что именно они – по Божьей правде – и станут первыми.
– Алексей, атеисты скажут, что Вы занимаетесь религиозной пропагандой.
– Бог в пропаганде не нуждается. Тут суть в другом: я уверен, что лучшие представители народа все-таки выходят из его глубины. А если бабушку будущего гения заставлять работать до 63-х лет, если в самые яркие и самые главные годы своей жизни ребенок будет лишен ее доброты и ласки, что из него вырастет?.. «Человеку нужен человек», помните?..
– Правительство считает, что человеку нужна пенсионная реформа…
– Удивительно, но проводить ее будут люди, которые никогда не будут жить на обычную пенсию или, по крайней мере, они будут жить на какую-то «особенную» пенсию, несопоставимую по размерам с обычной. Всё словно переворачивается с ног на голову…
– Что Вы имеете в виду, Алексей?
– Я имею в виду поговорку «У нищих слуг нет». Странно, не так ли?.. Я – фактически нищий, но у меня есть слуги, которые живут несоизмеримо лучше, чем я. Может быть, пора подумать о том, что даже если эти слуги трудятся «как рабы на галерах», их подневольный – я имею в виду рабский труд – невыгоден и непроизводителен?..
– Что ж, Алексей, предоставим читателю сделать свои выводы из сказанного Вами. А журнал «Парус» благодарит Вас за интересную беседу и желает вдохновения и удачи!
Беседовала Ирина Калус
Литературная критика
Юрий ПАВЛОВ. Рифмы судьбы: Павел Катенин – Александр Казинцев
Выступление на IV Международной научно-практической конференции «Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории», Краснодар, 22–23 сентября 2017 г.
Статья «Несвоевременный Катенин», появившаяся в пятом номере журнала «Литературная учеба» в 1982 году, – первая публикация Казинцева-критика. С учетом того, что критическая статья – это в большей или меньшей степени слепок с творческой личности ее автора, у нас есть возможность понять некоторые особенности личности и Александра Казинцева, и тех, чья судьба с его судьбой рифмуется.
После окончания факультета журналистики МГУ в 1976 году Александр Казинцев учился в аспирантуре на кафедре критики главного вуза страны. Ее возглавлял Анатолий Бочаров – известный ортодоксальный советский критик, литературовед, один из самых последовательных русофобов, ненавистников традиционного крестьянского, народного мира. Под стать заведующему были и преподаватели кафедры: В. Оскоцкий, Ю. Суровцев, Г. Белая, В. Баранов, Л. Вильчек.
Уточню: дело не только в А. Бочарове, ибо кафедра критики – лишь сколок со всего факультета журналистики, космополитически русофобского на протяжении последних как минимум пятидесяти лет. А. Казинцев так вспоминает о журфаке МГУ 1970-х годов: «Мы там и не слыхали о русских писателях! Ясен Засурский – декан факультета – приводил к нам Аксенова, Сола Доктороу. Писатели были и русские, и американские, но взгляды у них одни – они сильно недолюбливали Россию» [6, с. 83]. В отличие от Александра Ивановича я никогда не называл Василия Аксенова русским писателем, всегда и только – русскоязычным. Смотрите, например, мою статью «Мемуары последних лет: взгляд из Армавира» [9, с. 231–245].
В годы обучения в аспирантуре (1976–1979 гг.) Казинцев живет в интеллектуально-духовном мире, параллельном миру кафедрально-факультетскому. Он много времени проводит в библиотеке МГУ. Сравнивая ее с «Ленинкой» в 2008 году, Александр Иванович сказал: «В отличие от нее («Ленинки» – Ю.П.), фонды университетской библиотеки не были столь ревностно прорежены тогдашними блюстителями идеологической чистоты. Там я познакомился со 150-томным изданием Святых Отцов, книгами философов и поэтов Серебряного века» [2, с. 4]. На квартире Казинцева проходят философские семинары, где читают, обсуждают работы В. Розанова, П. Флоренского, Н. Бердяева, Л. Шестова, сборник «Из-под глыб»…
Ясно, что аспирантский неуспех такого – некафедрального, нефакультетского, несоветского – Александра Казинцева был заранее предопределен. На его предзащите научный руководитель Галина Белая заявила: «Либо я, либо он» [2, с. 4]. В унисон руководителю Казинцева высказался и Валентин Оскоцкий: эта «диссертация действует на него как красная тряпка на быка» [2, с. 4]. Причины такой реакции лежат на поверхности. Казинцев критиковал Бориса Эйхенбаума, Юрия Тынянова, Виктора Шкловского и других «оппоязовцев», что для либеральной интеллигенции разных поколений – редкое кощунство, тяжкое преступление. Еще большим преступлением было то, что диссертант «побивал» звездных формалистов цитатами из крамольных авторов: Ивана Киреевского, Алексея Хомякова, Степана Шевырева, Василия Розанова… Последний, например, для космополитов разных идеологических мастей был, есть и будет черносотенцем, антисемитом, человеконенавистником…
Неудача Казинцева на предзащите кандидатской диссертации не была, уверен, собственно неудачей. Более того, ее нужно воспринимать как подарок судьбы: таким образом для молодого человека был закрыт путь в безмятежное литературоведение – мертвую науку.
Думаю, что всеми этими вопросами Казинцев тогда не задавался. Главным и, по сути, единственным делом его жизни в 1970-е годы была поэзия. Именно с оглядкой на личную творческую судьбу и судьбу друзей по «Московскому времени» написана первая критическая статья «Несвоевременный Катенин».
Подчеркну: Казинцев не относится к очень распространенному типу критиков (от Николая Добролюбова до Льва Аннинского), для которых чужой текст, судьба – только повод для самовыражения и самоутверждения. И характеризуя жизненный и творческий путь Катенина, молодой автор не позволяет себе никаких вольностей, фантазий. При этом очевидно, что особое внимание Казинцев обращает на вопросы, волнующие именно его.
Один из них (может быть, главный, подсказанный судьбой Катенина) сформулирован так: «Но что же делать поэту, чье творчество – откровение души – признано несвоевременным?» [3, с. 170]. Ответы на данный вопрос даются на протяжении всей статьи, они по-разному – точно и неточно – рифмуются с миром и творчеством Казинцева как 1970-х годов, так и последующих десятилетий. Обратим внимание на некоторые рифмы судьбы Павла Катенина и Александра Казинцева.
Рифма первая – «опыт беды»
«Опыт беды» – грибница, из которой вырастают любимые, главные, сквозные идеи всего творчества Александра Казинцева. В «Несвоевременном Катенине» (1982 г.) «опыт беды» понимается, как способность человека, попавшего в экстремальную ситуацию (военную, политическую, творческую, личностную), остаться верным себе, верным идеалам красоты и правды народной.
В «Сраженных победителях» (2013 г.) смысл выражения «опыт беды» раскрывается через цитату из стихотворения Катенина (что ранее в статье о нем не делалось). Из приведенной строфы следует: «опыт беды» – опыт гонений и борьбы – только укрепляет силу честной души. Величие духа проявляется особенно в таких ситуациях, когда нужно пойти против течения («не примазаться к заведомым удачникам»), когда – несмотря на обреченность – необходимо встать на защиту своего. Кульминация на этом пути – неравный бой, в котором человек сознательно идет на смерть. Таким образом, одерживается духовная победа над самим собой, над своим страхом, смертью физической.
В 2013 году, выступая на Десятой Кожиновской конференции в Армавире, Александр Казинцев пояснил, почему героем его первой статьи стал Катенин. На примере его творчества и судьбы критик хотел «представить своего рода формулу плодотворности неудачи» [7]. Неудачники же, по мнению Казинцева, интереснее победителей (здесь победитель понимается как человек успешный, удачник), так как горькие глубокие размышления первых «могут пригодиться людям». Свою идею Казинцев подтверждает неожиданными примерами, рассуждениями. Вот экстракт их.
«Дон Кихот», «Король Лир», «Гамлет», «Фауст», «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Тихий Дон», «Белая гвардия», «Доктор Живаго», «Солнце мертвых» – это «дневники» неудачников.
Неудачник у Казинцева неточно рифмуется с выражением «сраженные победители». «Сраженные победители» – слова Газданова, сказанные о всадниках, погибших под огнем пулеметов и пушек. Через это выражение писателя Казинцев характеризует русское сопротивление конца ХХ века и его центр – журнал «Наш современник», в котором Александр Иванович служит с февраля 1981 года.
Рифма вторая – народность
В статье «Несвоевременный Катенин» Казинцев утверждает, что «опыт беды» (Отечественной войны 1812 года в первую очередь. – Ю.П.) «учил единению с народом» [3, с. 171].
Идея народности – альфа и омега русской литературы XIX века – становится идеей Казинцева (по-настоящему, всерьез выношенно), думаю, на рубеже 1970–1980-х годов. Отголоски преодоленных народностью идей находим в следующих суждениях критика о Катенине: «Стремление слиться с народным целым и одновременно утвердить неповторимость своей личности – не было ли здесь непримиримого противоречия?»; «Ему чуть ли не в одиночку предстояло решить сложнейшую проблему – примирения в творчестве двух, казавшихся противоположных начал – индивидуализма и народности…» [3, с. 171–172].
Идея народности не рифмовалась с определенным кругом идей, настроений «Московского времени» (1975–1978 гг.), альманаха, душой которого были А. Казинцев и А. Сопровский. Об этом периоде своей жизни Александр Иванович, пожалуй, впервые рассказал в 1991 году в статье «Придворные диссиденты и “погибшее поколение”».
«Наследство» Владимира Кормера, с опозданием опубликованное в СССР в 1990 году, Казинцев называет «романом о моем поколении». Оно характеризуется, в частности, так: «Встречаясь, мы подбадривали друг друга: “Не забывай, где живешь”. Это незамысловатое приветствие призвано было хоть как-то смягчить удары тотального хамства <…>. Требования к “окружающей среде” были минимальными: не посадили, ну так радуйся. Зато и отторжение среды было полным. Ах, как любили мои сверстники в ответ на очередное насильственное “ты должен” ответить: “Я ничего и никому не должен”» [5, с. 172].
В 1991 году Казинцев, называя такую позицию наивной, делает акцент на «не должен». Позже, повторюсь, на рубеже 1970–1980-х годов на смену эгоцентрическому видению себя в окружающем мире пришли принципиально другие чувства, мысли, убеждения. Они были постепенно выстраданы и рождены любовью. Вот как определяется новая ипостась в становлении личности Казинцева и немногих представителей «погибшего поколения» в данной статье: «Мы отвечаем за этот день не перед нынешними власть предержащими – перед Родиной» [5, с. 172].
На этом пути Казинцеву пришлось отказаться от многих (скорее всего, большинства) идей «погибшего поколения». Об одной из них, озвученной критиком мимоходом, следует сказать особо.
Во-первых, если бы статья Казинцева писалась уже в XXI веке, то, уверен, слова о тотальном хамстве были соответствующим образом прокомментированы. Не вызывает сомнений, что постсоветское, либерально-демократическое хамство не на один порядок выше, тотальнее хамства 70-х годов минувшего столетия.
Во-вторых, в 1991 году Казинцев точно передал одну из особенностей мироощущения, мироотношения и своего, и «погибшего поколения» в целом. Взгляд на окружающий мир как на мир тотального хамства порожден эгоцентризмом, леволиберальным дальтонизмом. Эта интеллигентски западническая по своей природе «родовая травма» проступает через мировоззрение и творчество как московсковременцев (С. Гандлевского, Б. Кенжеева, А. Цветкова), так и самых разных русскоязычных писателей (от А. Вознесенского и В. Аксенова до В. Ерофеева и Л. Улицкой).
Именно «смену вех» Казинцева не могут понять и принять те, кто напоминает ему о «грехах» молодости. Александр Иванович же прошел путь, характерный для многих писателей, мыслителей, творческих людей XIX–XX веков. Первым ключевым эпизодом на этом пути национального самоопределения, «единения с народом», стала «встреча» с Василием Шукшиным. О ней в 2008 году Казинцев рассказал следующее: «Мощнейшим эмоциональным толчком стал для меня просмотр фильма Василия Шукшина “Калина красная”. Приятель буквально затащил меня в кино. Но стоило мне увидеть лицо Шукшина, я вдруг почувствовал, осознал потрясенно: “Это – брат мой!” Он так же смеется, так же печалится и мучается. Спустя годы я узнал, что это же ощущение испытало множество зрителей – от колхозных механизаторов до академиков.
И тут же – второе открытие – как ожог: “Я русский!” До этого я не задумывался ни о своей национальности, ни о проблеме как таковой. А тут заговорила душа, кровь. Я стал искать другие фильмы Шукшина. Узнал, что сам он считает себя не киношником, а писателем. Что Шукшин – член редколлегии “Нашего современника” и там напечатал лучшие свои произведения, в том числе и киноповесть “Калина красная”» [2, с. 4].
В статье «Несвоевременный Катенин» память является силой, примиряющей два начала: индивидуализм и народность. С этим утверждением критика трудно согласиться. Индивидуализм исключает народность мировоззрения, творчества в ее традиционно-православном понимании. К тому же память индивидуалистов, эгоцентрических личностей и память соборных личностей – это диаметрально противоположные явления.
Сущностный сбой произошел в первой статье Казинцева потому, что он не разделил понятия «индивидуализм» («индивид») и «личность». Годом раньше «Несвоевременного Катенина» была опубликована статья Юрия Селезнева «Глазами народа». В ней один из лучших критиков ХХ века исчерпывающе точно высказался по данному вопросу: «Личность начинается не с самоутверждения, но с самоотдачи. При этом происходит как бы самоотречение, пожертвование своего Я ради другого. Но – в том-то и “диалектика”: через такого рода отречение от индивидуалистического, эгоцентрического Я человек из индивидуума перерождается в личность» [10, с. 46].
Как видим, Ю. Селезнев, следуя христианской традиции (помня, конечно, и известное высказывание Достоевского), личность определяет через самоотречение, самопожертвование. И в этой связи неизбежно вспоминается «наставник» А. Казинцева, заведующий кафедрой критики МГУ доктор филологических наук, профессор Анатолий Бочаров. Он умудрился найти в самоотречении «оборотную сторону фрейдистского взгляда» [1, с. 295] и задал показательные, якобы риторические вопросы: «Почему обязательно подчинять себя целому (народу. – Ю.П.)? Вправду ли в человеке всегда существует нечто, которое требуется подчинять, подавлять? Неужели фатальна диктатура народа над личностью?» [1, с. 295].
Этот марксистско-либеральный мыслительный кентавр, как и сотни ему подобных («ханжеская христианская мораль»; «марксизм утвердил подлинную диалектику: обосновав реальность коммунистического общества, где будут созданы условия для правильной любви ко всем людям» [1, с. 293]), свидетельствует о том, что мировоззренчески, духовно-культурно А. Бочаров и его единомышленники не способны – и тогда, и сегодня, и всегда – понять русскую литературу. И повторю, уже в другом контексте, Казинцеву повезло, что он не стал коллегой таких «специалистов» по русской литературе и критике.
Возвращаясь к статье «Несвоевременный Катенин», отмечу: те суждения критика, где вместо понятия «индивид» употребляется понятие «личность», возражений не вызывают. Например: «Память приобщает личность к народному единству. Это единство, осознаваемое обычно в момент национальных триумфов и катастроф, проявляется прежде всего в отношении к судьбе страны…» [3, с. 173].
Через семнадцать лет после появления статьи Казинцева Станислав Куняев в своих мемуарах «Поэзия. Судьба. Россия» верно заметил, что отношение к государству – одна из основных линий водораздела между писателями-патриотами и писателями-либералами в 1960–1980-е годы. Об этом на примере «Московского времени» и «погибшего поколения» написал Александр Казинцев в 1991 году: «На грани восьмидесятых <…> произошла показательная метаморфоза. Многие (думаю, здесь Александр Иванович преувеличивает. – Ю.П.) захотели “послужить”. Послужить Отчизне – именно так, с большой буквы»; «Тогда же и я пошел работать в журнал “Наш современник”, Юрий Селезнев призвал меня – послужить» [5, с. 173].
Так, идея «единения с народом» у Казинцева, естественно, закольцевалась идеей служения Отчизне, что подразумевало, как позже уточнит Александр Иванович в «Сраженных победителях», защиту интересов России и русских.
Здесь можно было бы поставить точку. Но, руководствуясь логикой выступления Казинцева на Десятой Кожиновской конференции 2013 года, нельзя обойти вниманием один сюжет, который опоясно рифмуется с первым сюжетом.
Рифма третья – мужественный путь художника
В статье «Несвоевременный Катенин» Казинцев, подводя итоги жизненного и творческого пути своего героя, прошедшего под знаком «опыта беды» и «единения с народом» заявляет: «Автор, признанный “несвоевременным”, не только оригинально разрешил проблемы, стоявшие перед поэзией его эпохи, но и оказался современником художников иных эпох. Катенин доказал, что поэзия поэта, оттесненного на литературную периферию и в силу своего положения не связанного нормами господствующей эстетики, может быть творчески плодотворной. Успех Катенина был результатом обращения к неисчерпаемому богатству народной культуры, наделяющей человека творческой свободой. Судьба Катенина интересна и дорога для нас как пример последовательного мужественного пути художника…» [3, с. 177]. Эти слова двадцатисемилетнего автора статьи о Катенине в главном и в некоторых частностях рифмуются с сюжетом его собственной жизни и творчества.
Поэт, добровольно ушедший в самиздат в 1970-е годы, становится современником второго десятилетия XXI века. Первые публикации стихотворений Казинцева более чем сорокалетней давности свидетельствуют, что произведения автора не утратили своей силы, актуальности, это настоящая поэзия, полноценное открытие которой, видимо, впереди.
Казинцев-зоил – уникальное явление в критике XX столетия. В 1980-е годы, сменив поэтическое амплуа на новое, Казинцев за кратчайший срок стал одним из самых ярких и значительных критиков своего времени. Это я показал в статье «Александр Казинцев: критик – это искусство понимания» [8, c. 187–198].
Почти тридцать лет своей жизни Александр Иванович посвятил публицистике (себя он называет политическим писателем). Его статьи и книги стоят в одном ряду с трудами Игоря Шафаревича, Вадима Кожинова, Александра Панарина, Михаила Назарова, Михаила Делягина и других выдающихся русских мыслителей последних десятилетий. По стилю же Казинцев, думаю, превосходит названных авторов: дает о себе знать его поэтическое «я».
Однако существует серьезнейшая проблема исчезновения читателя, о чем Казинцев говорил неоднократно. В конце 1980-х годов, в 1990-е Александр Иванович был личностью популярной. Его узнавали на улице, в метро. Вечера «Нашего современника», которые вел Казинцев, собирали многотысячную аудиторию. Высшим же читательским признанием для писателя стал следующий эпизод. Во время пересечения границы один из таможенников сказал другому, настойчивому, что не нужно проверять багаж Казинцева, так как он – писатель. На вопрос: «И что же он такое пишет?» – последовал ответ: «Он пишет правду!». И уже на Кожиновской конференции Александр Иванович так прокомментировал данный эпизод: «Сколько бы ни было неудач, но такие слова, такие мгновения оправдывают жизнь, отданную безнадежному делу» [7].
В 2016 году, сравнивая современную читательскую аудиторию с аудиторией позднесоветского времени и 1990-х годов, Казинцев утверждает, что не стало читателя, «привыкшего слушать писателя и имеющего возможность слушать писателя. Сейчас говоришь как будто перед пустым залом. Иногда действительно пустым! Приезжаешь на выступление: там сидят три, четыре, пять человек» [6, с. 87].
Исчезновение слушателя, читателя, воспринимающего серьезные мысли, аналитические тексты, способного чувствовать, сопереживать другому, другим, болеть за народ и страну – очевидная и сверхнасущная проблема. О путях ее решения говорилось многократно, но «воз и ныне там», точнее, ситуация только ухудшается. Русскому писателю, невзирая ни на что, остается (как сказано в «Несвоевременном Катенине» и «Сраженных победителях») мужественное служение идеалам красоты, народной правды, защита интересов России и русских. «Подлинный патриотизм, – как справедливо говорил Александр Казинцев в 2015 году, – требует самопожертвования. Патриотизм ставит служение Родине выше личных интересов человека, о чем свидетельствует судьба Юрия Ивановича Селезнева. Только таким недюжинным людям под силу патриотическое подвижничество» [4, с. 8].
Патриотическое подвижничество, можно с уверенностью сказать, отличает и Александра Ивановича Казинцева, поэта, критика, политического писателя, редактора.
Библиографический список:
1. Бочаров А. Требовательная любовь. Концепция личности в современной советской прозе. – М., 1977. – 368 с.
2. Казинцев А. Искусство понимать // День литературы. – 2008. – № 10. – С.4.
3. Казинцев А. Несвоевременный Катенин // Литературная учеба. – 1982. – № 5. – С. 170–177.
4. Казинцев А. Патриоты и бюрократы, или Почему патриоты проигрывают / Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории: материалы Второй Международной научно-практической конференции. – Краснодар, 2015. – С. 4–9.
5. Казинцев А. Придворные диссиденты и «погибшее поколение» // Наш современник. – 1991. – № 3. – С. 171–176.
6. Казинцев А. Русские пассионарии были всегда (беседа с М. Синкевич) // Родная Кубань. – 2017. – № 1. – С.82–87.
7. Казинцев А. Сраженные победители // Парус. – 2014. – № 1. URL: http://parus.ruspole. info/node/5034 (дата обращения: 10.07.2018).
8. Павлов Ю. Александр Казинцев: критика – это искусство понимания / Павлов Ю. // Павлов Ю.М. Критика XX–XXI веков: литературные портреты, статьи, рецензии. – М., 2010. – 304 с. – С. 187–198.
9. Павлов Ю. Мемуары последних лет: взгляд из Армавира / Павлов Ю. // Павлов Ю.М. Человек и время в поэзии, прозе, публицистике XX–XXI веков. – М., 2011. – 304 с. – С. 231–245.
10. Селезнев Ю. Глазами народа / Селезнев Ю. // В мире Достоевского. Слово живое и мертвое. – М., 2014. – 496 с. – С. 22–51.
Андрей РУМЯНЦЕВ. Воскресение для добра. К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого
История создания романа Л. Толстого «Воскресение» сама по себе сюжет занимательный. Как известно, толчком для замысла послужило происшествие, о котором автору рассказал юрист и литератор А. Кони. Коротко говоря, происшествие такое. К Анатолию Кони, служившему прокурором, пришел молодой человек, по манерам и одежде принадлежавший к высшему обществу. Он просил посодействовать в передаче его письма арестантке Розалии Онни. Эту молодую женщину из публичного дома осудили за то, что она украла сто рублей у пьяного «гостя». Оказалось, что ходатай, богатый дворянин, в юности соблазнил Розалию, воспитанницу своей родственницы, и теперь, будучи присяжным заседателем, увидел ее во время суда. Сознавая свою вину, он решил жениться на вчерашней проститутке и как раз в письме просил ее руки. Розалия согласилась. Однако до венчания дело не дошло: осужденная заболела сыпным тифом и умерла.
А. Кони так вспоминал о впечатлении, которое произвела на писателя эта история. «Рассказ о деле Розалии Онни был выслушан Толстым с большим вниманием, а на другой день утром он сказал мне, что ночью много думал по поводу его и находит только, что его перипетии надо бы изложить в хронологическом порядке. Он мне советовал написать этот рассказ для журнала “Посредник”.
А месяца через два после моего возвращения из Ясной Поляны я получил от него письмо, в котором он спрашивал меня, пишу ли я на этот сюжет рассказ. Я отвечал обращенной к нему горячею просьбой написать на этот сюжет произведение, которое, конечно, будет иметь глубокое моральное влияние. Толстой, как я слышал, принимался писать несколько раз, оставлял и снова приступал».
В 1895 году писатель возвратился к сюжету, причем перенес действие в восьмидесятые годы; в прежних вариантах оно происходило то в пятидесятые-шестидесятые, то в семидесятые. На этот раз рукопись была закончена. В августе названного года автор читал ее гостям Ясной Поляны. В этой редакции романа перерождение (или «воскресение»; это слово уже стало названием произведения) испытывали оба главных героя: Нехлюдов – после суда, а Катюша – после брака с ним. Но благополучный конец не устраивал Толстого. Кстати, он показался натянутым и слушателям.
Осенью Лев Николаевич отметил в дневнике: «Брался за “Воскресение” и убедился, что… центр тяжести не там, где должен быть». Речь здесь, кажется, идет не о том, чтобы перенести в романе «центр тяжести» с одного героя на другого, с одного судьбоносного события на другое или, наконец, с одной проблемы на другую. В чем «убедился» Толстой, видно из его следующей по времени записи в дневнике: «Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет “Воскресение”. Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ о детях – “Кто прав?”; я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительные, а то отрицательное. И то же понял и о “Воскресении”. Надо начинать с неё».
«Надо начинать с неё», то есть с Масловой; это изменение отныне сохранялось во всех последующих вариантах романа. Однако в «новом “Воскресении”», как назвал свое детище в дневнике Толстой, все еще оставался благополучный конец. Хотя очередная редакция была готова, роман опять не удовлетворил автора. Отложив его на два года, писатель создает сочинения, которые стали шедеврами русской литературы, – повести «Отец Сергий» и «Хаджи-Мурат». После них Толстой вернулся к «Воскресению».
У великих писателей нередко бывает, что герои их произведений начинают диктовать авторам свое поведение, навязывать собственную волю. Так случилось с Нехлюдовым и Масловой.
Софья Андреевна Толстая отметила в дневнике 28 августа 1898 года: «Утром Л.Н. писал “Воскресение” и был очень доволен своей работой того дня. “Знаешь, – сказал он мне, когда я к нему вошла, – ведь он на ней не женится, и я сегодня все кончил, то есть решил, и так хорошо!» В этой третьей редакции Катюша становится женой не Дмитрия Нехлюдова, а политического заключенного Владимира Симонсона.
Кажется, что роман закончен. Его ждет не дождется известный издатель А. Маркс, который готов опубликовать «Воскресение» в своем журнале «Нива»; об этом уже объявлено. Толстой отправляет роман в редакцию частями, по нескольку глав, переделывая, дописывая и сокращая их. Так рождается четвертый вариант. Но и он оказывается не окончательным.
В течение 1899 года, исправляя полученные корректурные листы, Толстой создает пятую, а затем и шестую редакции произведения. Причем, если в средине десятилетия он жаловался дочери Татьяне: «”Воскресение” опротивело», то теперь, в конце своего труда, пишет с подъемом и увлечением. «Я никак не ожидал, – сообщает Толстой Д. Григоровичу летом 1899 года, – что так увлекусь своей старинной работой. Не знаю, результаты какие, а усердия много». В чем же тут дело?
***
Как уже случалось с автором романа «Анна Каренина», повести «Крейцерова соната», рассказа «После бала», частная, бытовая история под его пером обретала все более и более глубокий нравственный, философский и общественный смысл, приводила к широчайшему охвату русской жизни. Стебелек сюжета вырастал, ветвился, поднимал ввысь могучую крону. Воображение писателя повело Нехлюдова в кабинеты высших сановников России, в переполненные вонючие камеры пересыльных тюрем, в праздные дома крупных землевладельцев и конторы разбогатевших управляющих именьями, в полусгнившие и тесные крестьянские лачуги – к сенаторам, адвокатам, судьям, смотрителям острогов, нищим крестьянам, запуганным рабочим торфяников, уголовникам, лакеям трактиров, кучерам. И получилось, что две главные судьбы, поставленные в центр повествования, вывели автора ко множеству проблем, терзающих Россию: законна ли частная собственность на землю? справедлив ли суд над людьми, обреченными совершать преступления? объяснима ли нищета трудолюбивого и покорного народа? нравственна ли роскошь и праздная жизнь избранных? Это вопросы к обществу, а в первую очередь – к власть имущим. Но были еще вопросы к каждому человеку в отдельности, в том числе и к себе: праведно ли ты живешь? в чем смысл твоего бытия? отчего ты миришься со злом и не утверждаешь всюду добро?
Истина, правда, праведность… К этому всю жизнь страстно и неистово стремился писатель. Если вы помните, один из первых рассказов Толстого «Севастополь в мае» (1855 г.) заканчивался словами: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, всегда был, есть и будет прекрасен – Правда». И если вы проследили до конца биографию яснополянского мудреца, его последним, предсмертным признанием, обращенным к сыну на бесприютной, чужой станции Астапово, было: «Сережа! Я люблю истину… Очень… люблю истину».
Еще в девятнадцать лет он «твердо решил посвятить свою жизнь пользе ближнего»; его «единственной верой» стала вера в самоусовершенствование. Но это легко сказать; а как ежедневно идти к этой цели в той среде, что окружала наследника немалого богатства? Позже Толстой писал: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли».
На рубеже семидесятых-восьмидесятых годов мучительный разлад между внешней, обеспеченной и удобной, жизнью и внутренним протестом против богатства и роскоши достиг апогея. Толстой пишет «Исповедь» – документ необыкновенной нравственной силы. Покаяние, проклятье лжи и грязи неправедной жизни, порыв к очищению, зовущий свет надежды – всё, что испытывает беспокойный человек и к чему стремится оживающей душой, выражено тут с потрясающей искренностью.
«Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, а на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, – это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидал совершенно другое. Я увидал, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него…
Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? (Это писалось пятидесятилетним Толстым – А.Р.). Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло…
Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его».
Толстой попытался изменить и внешнее течение своей жизни. Он и раньше делал немало по душевному влечению: открыл школу для крестьянских детей, составлял и выпускал для них книги, помогал страждущим. Позже он вспоминал: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школы, посредничество, голодающие». В начале восьмидесятых годов, когда семья писателя переехала в Москву (старшим детям нужно было учиться), Толстой с еще большей охотой и рвением принялся за общественные дела. Софья Андреевна записала в дневнике:
«Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах и точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным».
Во время переписи населения 1882 года Толстой стал счетчиком. «Он попросил, чтобы ему дали участок, где жили низы московского населения – находились ночлежные дома и притоны самого страшного разврата, – рассказывала дочь Татьяна. – Впервые в жизни увидел он настоящую нужду, узнал всю глубину нравственного падения людей, скатившихся на дно. Он был потрясен и, по своему обыкновению, подверг свои впечатления беспощадному анализу. Что является причиной этой страшной нужды? Откуда эти пороки? Ответ не заставил себя ждать. Если есть люди, которые терпят нужду, значит, у других есть излишек. Если одни изнемогают от тяжкого труда, значит, другие живут в праздности».
И еще одно свидетельство дочери об отце того времени: «Он писал теперь не для славы и еще менее для денег. Он писал, потому что считал своим долгом помочь людям понять Истину, которая ему была открыта и которая должна была принести людям счастье. И работа эта служила для него источником радости».
***
Роман «Воскресение» написан Толстым так пронзительно, исповедально, бесстрашно, будто это его собственный дневник, история его собственных исканий смысла жизни. Все время кажется, что роман – это кульминация его мучительных размышлений, что наше знакомство с главным героем произведения Нехлюдовым уже было подготовлено писателем – его необыкновенной «Исповедью», публицистической книгой «Так что же нам делать», религиозным, философским и социальным трактатом «Царство божие внутри вас».
«С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл “чисткой души”. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки.
Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда: писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал, и часто ниже того, каким он был прежде».
Толстому ли было не знать эту болезнь души; в «Воскресении» он написал о ней с глубинной правдой, с подробной историей ее течения.
Толстой любил нравственного человека. Это понятие означало для него не только человека, не запятнавшего себя безнравственными поступками; это понятие могло быть приложимо и к тому, кого искалечила жизнь, кого условия русской жизни, ее несправедливости, и прежде всего рабство, неравенство людей, заставили преступить христианские, нравственные заповеди. Толстой с полным пониманием и с болью смотрел на таких людей и часто оправдывал их. В рассказе о них для писателя важно было и понять, и оправдать их; для него важно было, чтобы читатель знал всё о душе человека, чтобы читатель разделил мнение писателя, а главное – чтобы он тоже принял близко к сердцу чужую беду и чужие страдания.
Когда впервые Нехлюдов встретился с Масловой в пересыльной тюрьме, вид ее, падшей женщины, ошеломил князя. В нем заговорил голос искусителя:
«Ничего ты не сделаешь с этой женщиной, – говорил этот голос, – только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, всё, что есть, проститься с ней и кончить всё навсегда?» – подумалось ему.
Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того бога, которого он вчера почуял в своей душе, и бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей всё».
А что же Катюша? Она не забыла надругательства над своей душой. Тело многое выдержит, тело переболеет и будет жить, а душа, обманутая, растоптанная, редко перемогает насилие над ней, редко выздоравливает, возвращается к жизни. Толстой рисует эту трагедию как великий знаток души, как человек, оплакивающий ее и до конца борющийся за нее.
Нехлюдов объявил Катюше, что готов искупить перед ней вину, готов жениться на ней.
«– Чувствую вину… – злобно передразнила она. – Тогда не чувствовал, а сунул сто рублей. Вот – твоя цена…
– Катюша! – начал он, дотрагиваясь до ее руки.
– Уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть, – вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. – Ты мной хочешь спастись, – продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. – Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты! – закричала она, энергическим движением вскочив на ноги.
Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его; мало того, и она бы не почувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние; теперь ему просто было страшно. Бросить ее – он чувствовал это – теперь он не мог, а между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношений к ней».
***
С первых страниц романа в душе Нехлюдова идет подспудная работа. Он ищет путь «к воскресению». Эта работа мучительная: князь сомневается, приходит в отчаяние, ясно видит свет впереди, опять плутает во тьме… И каждый раз надежда возвращается к нему тогда, когда он оказывается в гуще простого люда – в пересыльной тюрьме, в толчее арестантов; в деревне, на крестьянском сходе; или когда он возвращается в мыслях или наяву в места своего детства и юности: в имение умерших тетушек; в сад и в дом, где встречал юную Катюшу. Как будто вблизи родной русской земли он отыскивает вдруг чистый родник, который освежает душу и дает силу для новой, ясной жизни. И другим нравственным источником, освежающим его, становится мысль о том, что он должен отказаться в жизни от личной выгоды, которую блюдет каждый человек его круга, и послужить обездоленным людям, послужить и материальной, и духовной поддержкой.
«И удивительное дело, что нужно для себя, он никак не мог решить, а что нужно делать для других, он знал несомненно. Он знал теперь несомненно, что надо было отдать землю крестьянам, потому что удерживать её было дурно. Знал несомненно, что нужно было не оставлять Катюшу, помогать ей, быть готовым на всё, чтобы искупить свою вину перед ней. Знал несомненно, что нужно было изучить, разобрать, уяснить себе, понять все эти дела судов и наказаний, в которых он чувствовал, что видит что-то такое, чего не видят другие. Что выйдет из всего этого – он не знал, но знал несомненно, что и то, и другое, и третье ему необходимо нужно делать. И эта твердая уверенность была радостна ему».
А рядом не так, по-другому, но тоже мучительно идет душевная перемена в Масловой. Желание Нехлюдова искупить свою вину перед ней, может быть, и льстит Катюше, но непонятно ей и всеми силами отвергается ею. Однако «воскресение» медленно идет и в ее душе. После очередного посещения тюрьмы Нехлюдов размышляет о поведении Масловой:
«”Что с ней происходит? Как она думает? Как она чувствует? Хочет ли она испытать меня или действительно не может простить? Не может она сказать всего, что думает и чувствует, или не хочет? Смягчилась ли она или озлобилась?” – спрашивал себя Нехлюдов и никак не мог ответить себе. Одно он знал – это то, что она изменилась и в ней шла важная для ее души перемена, и эта перемена соединяла его не только с нею, но и с тем, во имя кого совершалась эта перемена. И это-то соединение приводило его в радостно-возбужденное и умиленное состояние».
***
Герой Толстого не мог искать истину в жизни, ограниченной семьей, родом, своей средой, как не мог он искать ее лишь в сфере мировоззренческих идей, философских или религиозных теорий: не тот писатель, не тот подход к самой истине. Перед нами многоликая Россия – крестьянская, чиновничья, великосветская, перед нами широчайший круг проблем конца девятнадцатого века: земельных, правовых, нравственных. И герой, уже немало видевший и переживший, со своим духовным и нравственным опытом, вдруг, после страшного осознания своей жестокой вины перед другим человеком, начинает заново открывать устройство жизни в своём отечестве, гибельное положение его кормильцев-крестьян, ничтожество и бесполезность для него владельцев земли, несправедливость и беззаконие его судебных учреждений, бездарность и тупоумие его высших сановников. И получается, что честный человек может прийти к своему идеалу, лишь мужественно продираясь сквозь ложь, неправедность и жестокость того жизнеустройства, которое приготовили власть предержащие.
Россия, трудовая, работающая в поте лица, оживает в романе и, не посвященная в искания Нехлюдова, все же участвует в них, подтверждая одни его выводы и отвергая другие. Это меньше всего фон для душевных переживаний героя, это жизнь, в которую он с недавних пор погрузился и которую увидел изнутри, из глубин народного горя, без прикрас, без чужих пояснений. Нехлюдов увидел ее в русской деревне, не как барин и землевладелец, а как брат крестьянина – из того положения, что выбрал сам, по душевному влечению. Он увидел подлинную Россию по дороге в Сибирь, куда отправился вслед за осуждённой Масловой. Была бы зряча душа, а народная жизнь открывается и западает в сердце повсюду: по крупицам, от встречи к встрече, складывается картина страдающей и удивляющей своим терпением России.
В вагон третьего класса, где едет Нехлюдов, вваливается, «цепляя мешками за лавки, стены и двери», рабочая артель – человек двадцать. Они рассаживаются подле князя.
«Сначала пожилой рабочий, сидевший против Нехлюдова, весь сжимался, старательно подбирая свои обутые в лапти ноги, чтоб не толкнуть барина, но потом так дружелюбно разговорился с Нехлюдовым, что даже ударял Нехлюдова по колену перевернутой кверху ладонью рукой в тех местах рассказа, на которые он хотел обратить его особенное внимание. Он рассказал про работу на торфяных болотах, с которой они ехали теперь домой, проработав на ней два с половиной месяца… Работа их, как он рассказывал, происходила по колено в воде и продолжалась от зари до зари с двухчасовым отдыхом на обед.
“Да, совсем новый, другой, новый мир”, – думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни».
Немало страниц в романе посвящено арестантам из политических. С ними шла по этапу Маслова. Толстой впервые так подробно описывал революционеров. Это было предначертано временем: движение молодых бунтарей стало повсеместным и обойти его в таком романе, как «Воскресение» было невозможно. Новым же для Толстого, писателя и мыслителя, никогда не одобрявшего насилия, стало его отношение к героям своего романа, противникам тогдашней власти: сочувственное, отмеченное пониманием.
Можно представить, какое неожиданное открытие сделали те читатели Толстого, которые внимательно следили за его творчеством и знали его отношение к кровавым драмам истории. Но в книгах великого писателя художественное постижение жизни всегда поражает новизной; тем более это происходит в случаях, когда автор обращается к крупным общественным явлениям. Важно только отметить, что Толстой, глядя на молодых революционеров глазами Нехлюдова, словно и сам, как его герой, впервые с удивлением и уважением оценивает новое поколение.
Правда этих людей, та правда, которую, кажется, с иной стороны давно видел Толстой, подняла вскоре многомиллионную Россию.
***
Однажды С.А. Толстая записала суждение своего мужа о художественном сочинении: «Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так в “Анне Карениной” я люблю мысль семейную; в “Войне и мире” люблю мысль народную, вследствие войны 1812-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль о русском народе как силе завладевающей».
Что значат эти слова: «сила завладевающая»?
Путь к истине, найденный Нехлюдовым и открытый для каждого человека, ясен: живи для добра. Путь к благоденствию отечества тоже очевиден: нужно, чтобы страною управляли не корыстные и порочные люди, а нравственные. Если каждый человек найдет путь к самоусовершенствованию, а страна – к справедливым формам государственного устройства, то их общие и согласные усилия изменят земную жизнь. В народе такое стремление всегда жило; может быть, это и имел в виду Толстой, говоря о силе, завладевающей Россией?
Евгений ЧЕКАНОВ. Лягушки в сахаре
О творчестве Юлии Зайцевой
Собираясь написать эту небольшую статью, я полистал книги своих любимых авторов. И сразу нашел несколько высказываний, которые в дальнейшем будут явно к месту.
Вот Александр Пушкин: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».
Вот Михаил Пришвин: «…стиль предполагает усвоенную, ставшую своей культуру».
Вот Михаил Бахтин. Размышляя о тех случаях, когда художник непосредственно сталкивается и борется с сырой жизненной стихией, с хаосом (стихией эстетической, хаосом эстетическим), Михаил Михайлович замечает: «только это столкновение высекает чисто художественную искру… Там, где художник с самого начала имеет дело с эстетическими величинами, получается сделанное, пустое произведение».
Вот Вадим Кожинов: «Учиться – значит постигать, как решали великие предшественники свои художественные задачи, а не брать их решения уже готовыми… еще полбеды, когда русский писатель использует “приемы” своего соотечественника; есть, в конце концов, какой-то единый корень, общая почва… Гораздо хуже получается, когда заимствуются “приемы” иностранных художников, воплощающие в себе совсем другую атмосферу, иной стиль жизни и сознания».
Он же: «Представление о мастерстве только как о системе смысловых, стилевых и ритмических приемов достаточно широко распространено… У нас сплошь и рядом превозносят стихи, лишенные настоящей поэтической жизни, и в то же время не замечают вещи, отмеченные печатью подлинности…».
Он же: «…для моды не имеет существенного значения художественная ценность произведения в ее высоком и непреходящем смысле. В данном случае ценна как раз сама по себе модность. Мода способна как бы уравнять великого и заурядного писателя, истинное искусство и игру в искусство».
Все эти высказывания я припомнил, читая книгу «То, что в шепоте за стеной», – новый сборник стихов моей землячки Юлии Зайцевой, жительницы ярославского городка Гаврилов-Яма.
Вокруг этого автора в последнее время в отечественной окололитературной среде ломаются некоторые копья. Уже дважды на Всероссийских совещаниях молодых литераторов творчеству Зайцевой выдавали самые лестные характеристики; ярославскую региональную ячейку Союза писателей России прямо-таки принуждают единодушно проголосовать за принятие Зайцевой в СПР.
Оставляя в стороне оценку уровня и значимости этих совещаний, принципов предварительного отбора обсуждаемых там молодых авторов и оценку самого принятого «курса на омоложение союза» (недавно один юный функционер СПР в кулуарах выразил «пожелание руководства для регионов» весьма недвусмысленно: «Принимайте всех!.. потом разберемся!..»), поговорим непосредственно о стихах Юлии Зайцевой.
Одного взгляда достаточно, чтобы понять: этот автор из маленького русского городка – явный эпигон Иосифа Бродского, пытающийся подражать своему кумиру во всём: в размерах, в технических приемах, в лексике, в отношении к литературе и жизни. Да и сама Зайцева этого не скрывает. С подачи прежнего руководства нашей ярославской организации СПР гаврилов-ямская поэтесса некоторое время участвовала в работе молодежного отделения при ячейке – и мои коллеги своими ушами слышали ее весьма характерное высказывание: «Есенина читать ни в коем случае не надо. Читайте только Бродского, одного Бродского! Ну, через раз – Пастернака и Мандельштама».
Что ж, сердцу не прикажешь. Кто хочет – пусть любит поэзию Бродского. Лично я повторю тут известное высказывание Собакевича: «я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот…». Но если Юлия Зайцева (и еще тысячи девочек и мальчиков из русских городов и поселков, оболваненные в последние годы назойливой пропагандой ненавистников подлинной русской культуры) преклоняются перед Бродским, а не перед Державиным, Пушкиным, Тютчевым, Лермонтовым, Алексеем Константиновичем Толстым, Кольцовым, Суриковым, Баратынским, Фетом, Случевским, Некрасовым, Блоком, Есениным, Гумилевым, Заболоцким, Дмитрием Кедриным, Борисом Корниловым, Павлом Васильевым, Сергеем Марковым, Юрием Кузнецовым, Николаем Рубцовым, Владимиром Соколовым, Евгением Курдаковым, Василием Казанцевым, – пусть преклоняются. Так им и надо! Это – плата за неумение читать, мыслить, учиться, расти над собой. К счастью, духовное рабство не вечно: рано или поздно народ и его культурная элита все равно освободятся от незримых пут.
Книга Зайцевой полна отсылок к известным именам и названиям:
– «и оживали чудища у Босха…»
– «Вифания, Голгофа, Гроб Господень!..»
– «шлемоблещущий Гектор, воинственный враг Атрида…»
– «застыла Гераклитова вода…»
– «штудирует Платона у доски…»
– «Вавилон, чье время пил виноградарь…»
– «пировал и здравствовал Валтасар…»
– «и бежал за Зевсом вослед Тифон…»
– «земля твоя – мой Гефсиманский сад…»
– «как проповедовал Уолт Уитмен…»
– «я видел Ниагару, Днепр, Меконг…»
– «до Холокоста, до ноги майора…»
– «высвистывал Шопена соловей…»
– «Мари Тюссо, искавшая знакомцев…»
– «и передайте пани Мельпомене…»
– «седой Протей, тысячеликий идол…»
– «танцуй, Саломея, смелее!..»
– «и пусть голова Адольфа прошествует по Берлину!»
Подобные примеры можно множить десятками, если не сотнями. Поневоле возникает детский вопрос: «Зачем это всё сюда понатыкано?». И ответ тоже приходит мгновенно: «Для того, чтобы вы, лапотники, знали, какая я начитанная и вообще культурная!»
Может, в Гаврилов-Яме такой ответ и «проканает». В литературе – нет.
Если кто-то не понял, выражусь поизящнее. Судя по всему, автор книги считает, что сам факт упоминания в стихах столь солидного сонма знаменитых людей и мест должен уже сам по себе произвести внушительное впечатление на читателя. Но на меня вот что-то не производит. Может, дело в том, что я историк по образованию – и спокойно отношусь к любым именам и названиям? Не знаю, не знаю… Скорее, дело в том, что я, всю жизнь проживший в русской провинции, уже давно привык к этой манере провинциалов – витиевато и надменно болтать, жонглировать звучными и плохо знакомыми собеседникам (по мнению этих провинциалов) словами, создавать из этих слов щит для прикрытия своей никчемности.