Интеллект растений. Удивительные научные открытия, доказывающие, что растения разумны
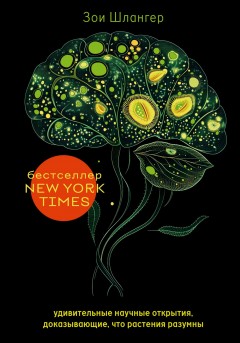
Zoё Schlanger
The Light Eaters
Copyright © 2025 by Zoë Schlanger
© Яконюк А.В., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Посвящается Энн и Джеффу, которые умеют видеть огромный смысл в мелочах
Они питаются светом. Разве этого недостаточно?
Тимоти Плауман, этноботаник
Предисловие
Я иду по едва различимой тропинке. Вокруг возвышаются лишь поросшие густым мхом кочки. Поднимаю голову, и меня обступают стволы влажных склизких деревьев. Слякоть под ногами отдает сыростью. На тропе замечаю явные признаки того, что где-то поблизости может бродить недружелюбный лось, – надо быть начеку. Но лосей нигде не видно, и я иду дальше. Появляются перышки нефролеписа, свернутые молодые улиткообразные головки листьев размером с детский кулачок, покрытые красно-коричневыми бархатистыми ворсинками, еще только намекают на то, что уже скоро они выплеснутся фонтаном изогнутых сводчатых стеблей словно павлиний хвост. С ветвей над головой будто тянутся вниз поросшие мхом пальцы. Растущие на поваленном дереве грибы дугой взмывают ввысь. Кажется, что все вокруг устремлено сразу и вниз, и вверх, и за пределы этого леса.
Я вторгаюсь в этот мир, но никто и не замечает. Все здесь настолько сосредоточено на своем существовании, что я кажусь себе муравьем, осторожно пробирающимся сквозь губку. Лишайники карабкаются от основания деревьев вверх, закручивая края своих дискообразных тел, чтобы улавливать капли влаги и получить еще один день жизни и еще одну возможность расти.
Я в тропическом лесу Хох на территории Тихоокеанского Северо-Запада США, и повсюду здесь меня не покидает ощущение таинственности. И неудивительно, ведь если наука знает о том, что здесь происходит с биологической точки зрения, то объяснить многое другое она пока не может. Меня окружают сложные адаптивные системы. Каждое существо вовлечено в многослойную сеть взаимосвязей с другими организмами – от самых больших до крошечных. Растения – с почвой, почва – с микробами, микробы – с растениями, растения – с грибами, а грибы – с почвой. Растения – с животными, которые поедают и опыляют их. Растения – друг с другом. Весь этот прекрасный беспорядок невозможно уложить в логичную стройную систему.
Размышления об этом напомнили мне про концепцию инь и ян, философскую систему противоположностей. Мы знаем, что силы, формирующие жизнь, находятся в постоянном движении. Мотылек, опыляющий цветок растения, – это гусеница, что прежде пожирала его листву. Таким образом, растения не заинтересованы в полном уничтожении прожорливых гусениц, которые позднее превратятся в союзников, переносящих пыльцу. И все же растение не может смириться с полной потерей листьев: лишившись их, оно не сможет питаться светом и погибнет. Поэтому, находясь на осадном положении и утратив несколько зеленых конечностей, оно собирается с силами и начинает благоразумно впрыскивать в листья неаппетитные химикаты. Тем не менее большинству гусениц хватит съеденной порции для того, чтобы выжить, стать бабочками и приняться за опыление цветов. Обе стороны, оказавшиеся на краю гибели, в итоге ждет успех. В этом и заключается сила взаимосвязи и конкуренции. Глобально в этом противостоянии пока никто не выиграл. Все участники по-прежнему на местах: и животные, и растения, и грибы, и бактерии. В конечном счете в меняющемся мире все сводится к удержанию баланса. Все эти противоборства, притяжения и слияния свидетельствуют о необычайном творческом потенциале биологических систем.
Как разобраться в этих хитросплетениях, в этом бурлящем потоке жизни, который невозможно остановить, чтобы хорошенько рассмотреть, – вопрос, который волнует не только ученых и философов, но и обычных людей. Поначалу разумным кажется заняться лишь изучением растений, ведь сосредоточиться на чем-то одном проще. Однако быстро выясняется, что такой подход наивен. Сложность проявляется на всех уровнях.
Журналисты моего профиля часто пишут о том, что ведет к смерти. Или о ее предвестниках: болезнях, катастрофах, упадке. Так, журналисты, освещающие тему климата, отмечают мрачные рубежи, которые наша планета один за другим преодолевает на пути к неизбежному кризису. Вот только вынести все это в таком масштабе одному человеку не под силу. Или, возможно, запасы моего терпения за годы наблюдений за засухами и наводнениями истощились и иссякли. В какой-то момент я начала чувствовать себя опустошенной и оцепеневшей. Мне хотелось чего-то совершенно другого. Что же является противоположностью смерти? Возможно, созидание, когда что-то зарождается, а не умирает. Именно это есть в растениях, которые не останавливаются в своем развитии. Еще задолго до того, как появились исследования, подтверждавшие известные нам факты о том, что проведенное среди растений время может успокоить разум лучше, чем продолжительный сон, они действовали на меня успокаивающе, и так было всегда. Я жила в большом городе и, когда нужно было проветрить голову, выходила прогуляться в парке среди тисов и вязов, или, когда нервы оказывались на пределе, подолгу разглядывала свежие листочки комнатного филодендрона. Растения – пример созидающего творчества: они находятся в постоянном движении, хоть и замедленном, исследуя воздух и почву в неустанном стремлении построить подходящее для жизни будущее.
Казалось, что в городе растения селятся в наименее подходящих местах. Они пробивались сквозь трещины в асфальте, карабкались на сетчатые заборы по периметру заваленных мусором участков. Наблюдая, как айлант, который считают агрессивным растением и нежеланным гостем на северо-востоке США, пробился через трещину в ступени моего крыльца и буквально за один сезон вымахал до высоты двухэтажного дома, я втайне восхищалась им. Втайне – ведь мне было хорошо известно, что в Нью-Йорке этот вид считается дьявольским, отчасти потому, что он, чтобы не дать всему живому расти поблизости, впрыскивает в землю вокруг своих корней яд, обеспечивая себе место под солнцем. Ну а восхищалась я потому, что эта уловка кажется дьявольски гениальной. Когда в конце сезона мой сосед с помощью мачете срубил дерево, я и слова не сказала. И все же, проходя каждое утро мимо торчащего пня, я продолжала внутренне восхищаться. Ведь на нем уже появились новые зеленые бугорки. Как не восторгаться таким ловким трюком?
Таким образом, я посчитала, что мне необходимо переключить свой затуманенный взгляд, до сих пор устремленный в апокалиптическое будущее, на растения. Они наверняка дадут мне энергию. Однако вскоре я поняла, что они способны на большее. Растения за годы моей одержимости их изучением изменили мое представление о смысле жизни и ее возможностях. Сейчас, оглядываясь по сторонам в тропическом лесу Хох, я вижу не просто успокаивающую взгляд зелень. Я нахожусь на уроке, где рассказывают, как жить, используя свой удивительный потенциал находчиво и в полной мере.
Начнем с того, что жизнь в условиях постоянного роста и невозможности сдвинуться с исходной точки сопряжена с невероятными трудностями. Чтобы справляться с ними, растения выработали удивительно изобретательные способы выживания, позавидовать которым могут все живые существа, включая человека. Многие из этих способов настолько хитроумные, что кажутся невозможными для того вида живых организмов, которому мы в театре нашей жизни отвели место декорации. И все же эти необыкновенные способности растений существуют и бросают вызов нашим скромным ожиданиям. Как мне еще предстоит узнать, их образ жизни настолько невероятен, что пределов возможностей растений никто не знает. Более того, кажется, никто вообще не знает, что представляют собой растения на самом деле.
Разумеется, это проблема из области ботаники или же самое удивительное событие, которое случилось за жизнь последнего поколения, тут все зависит от того, насколько вас беспокоит тектонический сдвиг в монолитах привычных истин. Так я оказалась безнадежно заинтригована. Споры в любой научной области, как правило, являются предвестниками чего-то нового, шагом к новому пониманию предмета исследования. В данном случае предметом исследования выступала жизнь всех растений. Я стала интересоваться свежими идеями в прикладной ботанике. Чем больше ученые получали сведений о сложности форм и поведения растений, тем слабее становилась уверенность в том, что необходимо держаться за традиционные представления о жизни растений. Научное сообщество раздирали внутренние разногласия, а число камней преткновения множилось вместе с количеством загадок. Но меня привлекало именно отсутствие однозначных ответов, впрочем, как и многих из нас. Кого же не привлекает и не пугает неизвестность?
Эта книга расскажет о новых открытиях в науке о растениях и о настоящей борьбе, в которой рождаются научные знания.
Редко кому удается заглянуть в сферу, где царит полная неразбериха, кипят споры вокруг привычных истин и рождается новый взгляд на предмет исследования. Мы также попробуем ответить на вопрос, который горячо обсуждается в лабораториях и на страницах научных журналов: обладают ли растения интеллектом. Насколько нам известно, мозга у растений нет. Но некоторые утверждают, что, несмотря на это, растения следует считать разумными существами, принимая во внимание удивительные вещи, на которые они способны. У себя и некоторых других видов мы выявляем интеллект путем умозаключений, анализируя поведение и не отслеживая физиологические сигналы. Одна группа ученых утверждает, что если растения могут делать то, что мы считаем признаками интеллекта у животных, то логично применять одни и те же термины и не следует необоснованно отводить животным роль более разумных существ. Другие идут дальше, предполагая, что у растений есть сознание. Пожалуй, именно оно остается наименее изученным у человека, не говоря уже о других организмах. Сторонники этого лагеря утверждают, что наличие мозга лишь один из способов формирования сознания.
Некоторые же ботаники в своих умозаключениях более осторожны и не склонны проецировать понятия, относящиеся к миру животных, на жизнь растений. В конце концов, растения являются отдельной филогенетической ветвью с эволюционной историей, которая давно развивается отдельно от человеческой. Применяя к ним наши представления об интеллекте и сознании, мы наносим урон их «растительной сущности». Сторонникам подобных идей мы тоже дадим слово в этой книге. Однако никто из ботаников, с кем мне приходилось общаться, не был удивлен тому, на что способны растения. Благодаря новым технологиям за последние два десятилетия ученые получили уникальные возможности для проведения наблюдений. Их открытия меняют значение слова «растение» буквально на наших глазах.
Что бы мы ни думали о растениях, они продолжают тянуться вверх, к солнцу. И в момент, когда ощущение глобального кризиса становится особенно острым, именно они распахивают перед нами окно в новое «зеленое» мышление. Чтобы по-настоящему стать частью этого мира, ясно сознавать происходящие процессы, мы должны научиться понимать растения. Они насыщают атмосферу кислородом, позволяя нам дышать, они в прямом смысле формируют нашу телесную оболочку из сахаров, которые добывают из солнечного света. Именно растения создали компоненты, которые однажды позволили жизни зародиться. Однако их нельзя считать просто утилитарными механизмами для обеспечения нашей жизнедеятельности. Растения ведут сложную динамичную жизнь, в том числе социальную и сексуальную, обладая при этом набором тонких чувственных реакций, которые, как мы полагаем, присущи только животным. Более того, они ощущают то, что мы не можем себе представить, и живут в мире информации, который для нас остается невидимым. С пониманием растений откроются новые горизонты осознания: с нами на планете соседствует хитроумная форма жизни, чуждая и в то же время хорошо знакомая.
В тропическом лесу Хох над моей головой раскинул ветви крупнолистный клен. Его ствол густо зарос лакричником, медуницей и плаунком, и кажется, будто дерево примерило мохнатый костюм Гринча. Через зеленый пушистый слой, как горные хребты, возвышающиеся над покровом густого леса, как пики Олимпик-Маунтинз, устремившиеся к небесам через вечнозеленые чащи к востоку от здешних мест, пробиваются фрагменты коры дерева. Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть все в деталях. Зеленый костюм – это отдельная вселенная во вселенной: маленькие пучки и листья повторяют структуру леса в уменьшенном масштабе. Трехлистная кислица и перистый гилокомиум стелются плотным ковром. Я погружаюсь в их мир и теряюсь. Но мы уже давно потерялись в нем, даже не представляя, какие невообразимые вещи там происходят. Не слишком ли неосмотрительно такое невежество? А потому мне захотелось найти выход и разобраться.
Глава 1
Есть ли у растений сознательность?
Что такое растение? Скорее всего, у вас есть свой ответ. Возможно, вы представляете себе мясистый подсолнух с круглым, словно блюдо, соцветием и ворсистым стеблем или вьющуюся по шпалере фасоль у бабушки в огороде. А может быть, вы, как и я, разглядываете висящий за кухонным окном золотистый эпипремнум, который, наверное, ждет полива. Привычная данность – зеленый фон каждого дня.
Вы правы, таким же образом люди на протяжении долгого времени относились, скажем, и к осьминогу и называли его просто «осьминог», ведь до недавних пор мы не знали, что они могут с помощью щупальцев различать вкусы[1], запоминать человеческие лица[2] и воспринимать окружающий мир более чутко[3], чем это удается людям. И что по всему их телу распределены нейроны, напоминающие множество миниатюрных мозгов. Тогда что же такое осьминог? Нечто гораздо большее, чем мы могли себе представить.
Мы находимся еще только в начале пути к пониманию этого, но наше восприятие интеллекта существ, не принадлежащих к миру людей, существенно изменилось в одном важнейшем аспекте: наши с осьминогом эволюционные ветви разошлись на заре истории видов. Нашим последним общим предком, скорее всего, был плоский червь, обитавший на дне океана более пятисот миллионов лет назад[4]. До сих пор мы обнаруживали интеллект у животных, эволюционно к нам более близких, таких как дельфины, собаки и приматы – наши более древние родственники. Однако теперь мы знаем, что особенно хитроумные организмы могут развиваться независимо от нас. Именно это и происходит с растениями, только пока незаметно, в лабораториях и в местах проведения полевых исследований в одном из наименее ярких разделов наук о природе. Но вес этих новых знаний грозит проломить стенки «контейнера», в который мы помещаем растения в своем сознании. В конечном итоге это может изменить наше представление о жизни.
Так что же такое растение? Я не сомневалась, что знаю ответ. А потом я начала общаться с учеными.
Несколько лет назад я работала журналистом-экологом, и кое-что не давало мне покоя. Основная часть моей работы была посвящена двум темам: постепенно набирающим обороты изменениям климата и тому, как загрязнение воды и воздуха влияет на здоровье человека. Другими словами, я писала о том, как человечество неумолимо движется к гибели. После пяти-шести лет такой работы настал момент, когда ощущение ползучего страха грозило свести меня с ума. Я начала вести себя странно. Например, пересказывала коллегам последний доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата – о том, что у нас осталось совсем немного лет, чтобы предотвратить катастрофу, – с каким-то неуместным восторгом и читала ужас на их побледневших лица. Потратив утренние часы на жадное поглощение новостей о рекордных по площади лесных пожарах и ураганах, к обеду я как ни в чем не бывало переходила к офисным сплетням. Это раздвоение личности стало настолько очевидным, что я больше не могла эмоционально реагировать на экологические катаклизмы. К таянию ледяных щитов в Гренландии я относилась так же просто, как к очередной занятной истории.
Примерно тогда я еще не вполне осознанно начала искать в естественных науках что-то прекрасное и жизнеутверждающее.
Мне нравились растения; я любила наблюдать за тем, как ночной цеструм взбирается по моей оконной раме, а лировидный фикус внезапно после трех месяцев простоя выпускает три новых листа. Моя квартира была пристанищем, где сюжет растительной жизни оказывался гораздо более захватывающим, чем тот, что разворачивался на экране моего компьютера. И я подумала, почему бы не обратить свое репортерское внимание именно на этот сюжет? В обеденные перерывы я принялась искать сборники по ботанике, используя те же онлайн-порталы, что и для поиска статей о климате, – систему, позволяющую журналистам знакомиться с новейшими исследованиями до их появления в открытом доступе при условии, что они не будут публиковать материалы до оговоренной даты. Журналы пестрели фундаментальными открытиями в области изучения растений: раскрыта причина эволюции бананов, наконец-то стало понятно, почему некоторые цветы скользкие (чтобы отпугивать муравьев, которые едят нектар). Мне казалось, что я случайно подглядываю за тем, что происходит во вчерашнем дне науки: неужели столько фундаментальных открытий еще не сделано? Через две недели я узнала, что ученым удалось впервые полностью расшифровать геном папоротника[5], и скоро об этом выйдет статья.
Я еще не осознавала, насколько это поразительно: папоротники, будучи чрезвычайно древними растениями, могут иметь до 720 пар хромосом[6], в то время как у человека их всего 23, что объясняет, почему геномная революция так долго до них добиралась.
Меня сразу же привлекло изображение папоротника в научной статье, которую еще нельзя было публиковать. Это была фотография крошечного свернутого спиралью растения, умещавшегося на ногте большого пальца исследователя – азоллы. Она словно светилась изнутри зеленым светом. Я влюбилась.
Azolla fliculoides, или просто азолла, – один из самых маленьких папоротников в мире, который тысячелетиями растет во влажных местах. Как и в других случаях с растениями, не стоит думать, будто сложность зависит от размера. Примерно пятьдесят миллионов лет назад, когда на Земле было гораздо теплее, азолла покрывала Северный Ледовитый океан гигантским ковром. В течение последующих миллионов лет она поглощала столько углекислого газа, что, по мнению палеоботаников, сыграла решающую роль в охлаждении планеты, а некоторые исследователи и сегодня всерьез размышляют, могут ли папоротники сделать это снова.
Азолла проделывает еще один чудесный трюк: около ста миллионов лет назад в ее теле появился особый карман, в котором живет цианобактерия, фиксирующая азот. Воздух вокруг нас состоит из азота почти на 80 %, и он необходим всем формам жизни, включая нашу, для производства нуклеиновых кислот – строительных блоков всего живого. Но в атмосферном виде для нас он совершенно недоступен. Азот, азот, азот – он повсюду, но нет ни одной молекулы, которую мы могли бы использовать. По иронии судьбы растения полностью зависят от бактерий, знающих, как преобразовать азот в формы, чтобы их могли использовать растения, а значит, и мы, получающие это вещество из растений. И вот азолла превратилась для этой бактерии в гостиницу. Крошечный папоротник кормит цианобактерии необходимыми сахарами, а они занимаются преобразованием азота. Фермеры Китая и Вьетнама[7] взяли это на заметку и уже несколько столетий добавляют измельченную азоллу на рисовые поля.
Я выискивала справочники по папоротникам и крупицы информации о них. Я удивлялась себе и тому, с какой жадностью набросилась на эту работу, что случалось со мной лишь несколько раз в жизни. Я была так очарована, что набила на левой руке татуировку в виде крошечной азоллы. У журналистов, которые считаются людьми с широким кругозором и эрудицией, чаще всего всплеск интереса к одной теме так же быстро угасает. Но в моем случае страстная увлеченность захватила меня целиком. У меня вдруг возникли вопросы об этой самой распространенной группе растений, которые просто росли, казалось бы, без всякой шумихи. И они изменили мир. Чего еще я не знала?
Продолжая свои изыскания, я купила и проглотила «Дневник Оахаки», тоненький сборник наблюдений Оливера Сакса во время экспедиции за папоротниками в юго-западную Мексику, куда он отправился с автобусом, полным преданных птеридологов-любителей, членами нью-йоркского отделения Американского общества папоротников. Экспедицию возглавлял в том числе Роббин К. Моран, сорокачетырехлетний смотритель папоротников Нью-Йоркского ботанического сада, который провез энтузиастов по всему штату Оахака. В какой-то момент, после того как они несколько дней колесят по деревням и весям, восхищаются продуктами на рынках, чанами с красной кошенилью и, конечно же, всевозможными печеночниками и папоротниками, у Сакса наступает состояние, которое можно описать только как экстаз. Полуденное солнце печет, его косые лучи падают на высокие стебли кукурузы. Пожилой джентльмен, ботаник и специалист по сельскому хозяйству Оахаки, стоит рядом с кукурузой. Сакс описывает этот сверхъестественный момент – кратчайший миг – всего лишь в половине предложения, но это описание сразу же поразило меня своей правдивостью.
…высокая кукуруза, жаркое солнце, старик – все сливается в единое целое. Это один из тех моментов, который невозможно описать, когда возникает почти сверхъестественное ощущение глубоко прочувствованной реальности. Затем мы спускаемся по тропе к воротам и садимся в автобус – все в каком-то трансе или оцепенении, как будто нам внезапно привиделось священное, но теперь мы вернулись в суету привычных будней.
Ощущение сверхъестественности момента, возвращение в реальность, целостность формы – эти темы пронизывают всю натуралистическую литературу. Не я одна переживала что-то подобное. В романе «Пилигрим в Тинкер-Крик» писательница Энни Диллард испытывает похожие чувства, стоя перед деревом и наблюдая, как свет льется сквозь его ветви. Острое ощущение реальности. Едва она осознает, что произошло, видение исчезает, но остается впечатление от осознания собственной безграничной чуткости, которая проявляется лишь такими вспышками, и моменты такого познания в отличие от тех, что мы переживаем каждый день, можно назвать непосредственным наблюдением за внешним миром.
Читая после работы и ранним утром книги о растениях и увлеченных натуралистах, я стала находить такие моменты повсюду. Из книги Андреи Вульф «Открытие природы», биографии знаменитого натуралиста XIX века Александра фон Гумбольдта, я узнала, что он тоже испытывал такие ощущения. Фон Гумбольдт вслух размышлял о том, почему пребывание на природе порождает в человеке нечто подлинное и истинное. Он писал: «Природа повсюду говорит с человеком голосом, который знаком его душе», «все взаимодействует и влияет друг на друга», и поэтому природа «создает ощущение целостности». В дальнейшем Гумбольдт познакомил европейский интеллектуальный мир с концепцией планеты как живого целого, с климатическими системами и взаимодействующими биологическими и геологическими моделями, образующими «сложную сетчатую ткань». В западной науке это был наиболее ранний проблеск экологического мышления, когда мир природы представлялся как ряд биотических сообществ, каждое из которых воздействует на другое.
Читая работы по ботанике, я испытывала отголоски этого чувства, улавливала проблески некоего целого, которое еще не могла до конца сформулировать. У меня было ощущение, что я вскрываю огромные пробелы в своих знаниях. Сколько времени я провела рядом с растениями, почти ничего о них не зная? Я чувствовала, как постепенно открывается занавес в параллельную вселенную. Я уже знала, что она есть, но еще не понимала, что в ней скрывается.
Я записалась на курс по изучению папоротников в Нью-Йоркском ботаническом саду. Занятия вел не кто иной, как Моран из экспедиции Сакса – мужчина в возрасте старше сорока четырех лет, но все такой же энергичный. (Мне предстояло узнать, что в мире ботаники множество постоянных персонажей, одни дружелюбные, другие не очень, связаны сюжетными линиями.) Мы научились распознавать папоротники, узнали об их базовом строении и о наиболее неординарных видах: воскрешающий папоротник растет на ветвях дубов, а во время засухи может почти полностью обезвоживаться, скукоживаясь до мертвенного хруста. Он способен оставаться в засушенном состоянии более ста лет, а потом полностью восстановиться. Одни древовидные папоротники могут достигать в высоту более шестидесяти пяти футов[8], а другие, как, например, крошечная азолла, представляют собой миниатюрные фабрики по производству удобрений. А еще есть орляк, который вызывает у коров, осмелившихся его съесть, смертельное внутреннее кровотечение. «Невероятно жестокий папоротник», – как сказал Моран.
Я узнала, что папоротники с точки зрения эволюции намного старше цветковых растений. Они появились на свет еще до того, как эволюция создала концепцию семян; папоротники размножаются без них. Несколько дней спустя, читая во время обеденного перерыва о папоротниках с какой-то невероятной одержимостью, я выяснила, что отсутствие у них семян веками приводило европейцев в недоумение. Семена есть во всех растениях, являясь ключом к размножению, – так думали в Средние века. Если невозможно найти семена папоротника, то по логике того времени их просто не видно. А поскольку другая ключевая теория того времени предполагала, что физические характеристики растений подсказывают, как их можно использовать, то люди верили, что, найдя эти невидимые семена, они смогут стать невидимыми.
Гораздо более загадочными оказались сексуальные отношения папоротников. Во-первых, они размножаются не семенами, а спорами. Но вот что самое неожиданное: у них есть плавающие сперматозоиды. Прежде чем вырасти и превратиться в знакомые нам листья, они проживают совершенно отдельную жизнь в качестве гаметофита – крошечного заростка толщиной всего в одну клетку, даже отдаленно не похожего на папоротник, которым он впоследствии станет. На лесной подстилке вы их даже не заметите. Мужская особь папоротника-гаметофита выпускает сперматозоиды, которые плавают в дождевых лужах в поисках яйцеклеток женской особи папоротника-гаметофита, чтобы оплодотворить их. Сперматозоиды папоротника по форме напоминают крошечные штопоры и являются выносливыми спортсменами – они способны плавать до шестидесяти минут. За их движением можно наблюдать под микроскопом.
Сперматозоиды как таковые – не самое удивительное в размножении папоротников. В 2018 году, в самом начале моего увлечения, появились исследования, свидетельствующие о том, что папоротники конкурируют с другими собратьями, выделяя гормон, который заставляет сперматозоиды соседних видов папоротников замедляться. Это приводит к тому, что выживает меньше представителей этого вида, поэтому папоротник-саботажник может получить больше дефицитных ресурсов, будь то вода, солнечный свет или почва.
Ученые только начали осмысливать этот факт. «Это совершенно новое явление», – сказал мне по телефону Эрик Шуттпельц, ботаник-исследователь из Национального музея естественной истории в Вашингтоне. Очевидно, что вредительство в отношении сперматозоидов – это передний край науки о папоротниках. «Мы знаем, что дело в растительном гормоне, но не знаем, как он действует», – пояснил ученый. Как папоротник узнает, что находится рядом с конкурентом? Как он вычисляет, когда выпустить вредоносный гормон? И в том же месяце исследователь папоротников из Колгейтского университета представил на конференции по ботанике раннюю статью об этом явлении.
Мне нужно время, чтобы это осмыслить: одни папоротники могут дистанционно вмешиваться в сперму других. В этих действиях растения есть что-то непристойное. Я начала понимать, что имеет в виду Моран. Это также казалось удивительно гениальным. Что еще могут делать растения?
Задавшись этим вопросом, я начала настраивать фокус внимания на относительно молодую область науки о растениях – поведение. Я обнаружила, что анонсы новых исследований пестрят статьями о поведении растений. Для моего разума открывались ворота, сквозь которые мне предстояло пройти: то, что растения вообще могут себя как-то вести, все еще казалось чем-то сказочным. Но несколько статей, которые я обнаружила, еще больше расширили границы этой концепции: ученые предположили, что растения могут обладать интеллектом. Я отнеслась к этому, с одной стороны, с любопытством, а с другой – со скепсисом. И не только я. Как выяснилось, предположение о наличии у растений интеллекта недавно стало причиной полномасштабной войны.
Я оказалась в этом уголке научного мира в удивительно интересное время. За последние полтора десятилетия возрождение исследований о поведении растений принесло ботанике бесчисленное множество новых открытий – более чем через сорок лет после того, как один легкомысленный бестселлер едва не погубил эту область навсегда. «Тайная жизнь растений», опубликованная в 1973 году, захватила воображение мирового сообщества. Книга Питера Томпкинса и Кристофера Берда представляла собой смесь реальных научных данных, сомнительных экспериментов и ненаучных прогнозов. В одной из глав Томпкинс и Берд предположили, что растения могут чувствовать и слышать и что они предпочитают Бетховена рок-н-роллу. В другой – бывший агент ЦРУ по имени Клив Бэкстер подключил детектор лжи к своему комнатному растению и представил, что оно охвачено огнем. Игла полиграфа заметалась, что означало всплеск электрической активности у растения. Считалось, что у людей такие показатели указывают на стресс. По мнению Бэкстера, растение реагировало на его мысли. Это означало, что оно не только обладает сознанием, но и умеет читать мысли.
Книга мгновенно и безоговорочно стала бестселлером, что удивительно для издания, посвященного науке о растениях. Компания Paramount сняла по ней художественный фильм, Стиви Уандер написал саундтрек. Первые тиражи альбома были выпущены с ароматом цветочных духов. Многим изумленным читателям книга предложила новый взгляд на окружающие их растения, которые до сих пор казались декоративными, пассивными, больше похожими на мир камней, чем животных. Ее выпуск также совпал с появлением культуры нью-эйдж, которая была готова легко поверить в истории о том, что растения такие же живые существа, как и мы. Люди начали разговаривать с комнатными растениями и, выходя из дома, включать для фикусов классическую музыку.
Но книга оказалась не более чем собранием красивых мифов. Многие ученые пытались повторить самые захватывающие «эксперименты», представленные в книге, но безуспешно. Клеточный и молекулярный физиолог Клиффорд Слейман и физиолог растений Артур Галстон в статье для журнала American Scientist в 1979 году назвали ее «сводом ошибочных или недоказуемых утверждений»[9]. Не помогло и то, что бывший агент ЦРУ Бэкстер, а также исследователь из IBM Марсель Фогель, утверждавший, что сможет воспроизвести «эффект Бэкстера», считали, что для получения какого-либо результата необходимо установить эмоциональный контакт с растением. По их мнению, это объясняло любую неспособность другой лаборатории воспроизвести результаты. «Эмпатия между растением и человеком – это ключ к успеху, – сказал Фогель. – И без духовного развития здесь делать нечего».
По словам ботаников, работавших в то время, ущерб, который «Тайная жизнь» нанесла этой области, невозможно переоценить. Консервативные учреждения, отвечающие за две главные составляющие успеха в науке – финансирование и рецензирование, – захлопнули двери. По словам нескольких исследователей, с которыми я общалась, в последующие годы Национальный научный фонд выдавал гранты тем, кто изучал реакцию растений на окружающую среду, все менее охотно. Заявки, содержащие хотя бы намек на изучение поведения растений, отклонялись. Деньги, которых и так было немного, иссякли. Ученые, ставшие первопроходцами в этой области, меняли курс или вовсе уходили из науки.
Но избранные держались, не торопясь занимались другими исследованиями, ожидая, когда наступит перелом.
В последние полтора десятилетия это наконец-то произошло. Финансирование некоторых исследований, посвященных поведению растений, снова стало возможным, хотя поначалу получить гранты было непросто. Журналы по ботанике, несмотря на то что многие из них по-прежнему редактировались противниками интеллекта растений, нет-нет да и публиковали такие статьи. Вероятно, это стало результатом появления новых технологий, таких как генетическое секвенирование, и более совершенных микроскопов, которые позволили прийти к неопровержимым выводам, прежде казавшимся нелепыми. Или, возможно, политические насмешки, последовавшие за фиаско с «Тайной жизнью», уже как следует забылись. Многие авторы для описания того, что они обнаружили, не использовали таких слов, как «интеллект», но тем не менее результаты указывали на то, что растения гораздо сложнее, чем кто-либо осмеливался думать.
Недавно я наткнулась на информацию о том, что исследователи обнаружили многообещающие признаки памяти у растений. Они выяснили, что разные растения способны отличать себя от других и определять, являются ли они их генетическими родственниками.
Когда такие растения оказываются рядом с братьями и сестрами[10], то в течение двух дней перемещают свои листья, чтобы не затенять членов семьи. Оказалось, что корни побегов гороха способны слышать воду, текущую по трубам[11], и расти в их сторону, а некоторые растения, в том числе лимская фасоль[12] и махорка[13], могут вызвать хищников, которые придут и уничтожат жующих листья насекомых. (Другие растения, в том числе один сорт томата, выделяют химическое вещество[14], которое заставляет голодных гусениц отказаться от листьев и поедать друг друга.) Число статей, посвященных поведению растений, нарастало мощным потоком. Казалось, что ботаника стоит на пороге чего-то нового. Мне захотелось остаться и понаблюдать.
Вернувшись за рабочий стол в прохладном помещении редакции, я наслаждалась глотками свежего воздуха, которые могла позволить себе в течение дня. Что-то в этом возрождении в процессе изучения поведения растений напомнило мне о прошлом. Первые девять лет жизни я была единственным ребенком в семье, пока не родился брат. Но какая польза от новорожденного для девятилетней девочки, особенно для той, которая искренне верила, что она – взрослый человек, запертый в детском теле. Что и говорить, я была одинока и склонна к фантазиям. Девочки с таким характером способны создавать сложные внутренние миры и, словно одеяло, набрасывать их на мир окружающий. Взрослые, не понимающие этой склонности, обычно называют ее мелодраматической. Но меня возмущало это слово, означавшее, что моей версии реальности доверять нельзя. Я была уверена, что вижу окружающие меня вещи такими, какие они есть на самом деле. В большинстве случаев это были деревья, белки, а иногда и камни, и они были очень живыми, внимательными к миру. Как известно, дети – прирожденные анимисты.
Я замечала то, чего не видели другие люди, особенно взрослые, и это только усиливало мое чувство обособленности. Весной я наблюдала, как ростки фиолетовых крокусов проклевываются из мерзлой земли, словно птенцы из яйца. Дятел-меланерпес буравил исполинский белый дуб за окном моей спальни. Каждый раз, когда я заставала какое-нибудь живое существо за привычным делом, мне казалось, что я заглядываю за занавес в их мир. В реальный мир.
В детстве моим любимым уголком была котловина в лесу, примерно в сотне ярдов[15] позади дома. Каждую весну ее наполняла дождевая вода, достигая глубины в два-три фута[16], стоявшая там почти весь год, а к декабрю покрывавшаяся ледяной коркой.
Летом, проверив, что в резиновых сапогах не поселились пауки, я залезала по щиколотку в воду, ощупывала руками губчатую поверхность мхов, покрывавших верхушки наполовину ушедших под воду булыжников, и здоровалась с капустой-вонючкой, как будто все они были моими друзьями. А они ими и были в некотором роде. В этом же болоте жили две утки-кряквы, но с ними я не разговаривала. Вроде бы общение им не требовалось, ведь они были заняты друг другом. Растениям же, казалось, больше заняться нечем.
Не то чтобы я представляла себе эти растения как маленьких человечков в другом обличье. Не помню я и такого, чтобы мне когда-нибудь казалось, будто они мне отвечают. Но ощущения, что они немые, тоже не возникало. Что-то у них было свое. Как и у меня. Они были как дети – недопонятые.
В книге «Экология воображения в детском возрасте» писательница и исследователь Эдит Кобб описывает, как на протяжении двух десятилетий изучала роль природы в раннем мышлении детей. Она обнаружила, что детям свойственна «открытая системная позиция», которая позволяет им ощущать определенную эмоциональную близость к миру природы. «Для маленького ребенка вечные вопросы о природе реального – это в значительной степени невыразимая словами диалектика между собой и миром», – пишет она. Она ссылается на многих представителей творческих профессий и мыслителей, которые описывают свой способ креативного мышления как, по сути, передачу того взгляда на мир, который был у них в детстве. Бернард Беренсон[17], великий историк искусства и художественный критик ХХ века, пишет в автобиографии, что самый счастливый момент, возможно, пережил еще в детстве, когда однажды взобрался на пень:
Это было утром в начале лета. Серебристая дымка переливалась и дрожала над липами. Воздух, наполненный их ароматом, словно ласкал тело. Я точно помню – так четко это отпечаталось в сознании, – что забрался на пень и внезапно почувствовал себя частью Чего-то. Я не мог подобрать слово, да оно и не требовалось. Это Что-то и я были одним целым.
Разве у вас нет подобных воспоминаний? Это «Что-то» так похоже на чувство «настоящего», «подлинного», о котором говорят Сакс, Диллард и фон Гумбольдт. И на то, что чувствовала в детстве я, сидя на корточках и наблюдая за крокусами. Интересно, что означают такие моменты и что они дают нам? Какое пространство мысли они открывают?
С тех пор как я покинула тот дом в лесу, прошло несколько десятилетий, и я стала городской жительницей, надежно запертой в четырех офисных стенах. То чувство единения с миром природы за пределами мира человеческого, которое я испытала, будучи девятилетней девочкой, притупилось. Но потом я стала с невероятной одержимостью изучать папоротники, заинтересовалась дискуссиями об интеллекте растений. Внутри меня снова начало едва слышно тикать что-то знакомое.
Каждый день я с нетерпением ждала перерыва на обед, чтобы погрузиться в чтение статей по ботанике. Самые ожесточенные споры, по накалу превосходившие те, что встречались мне за годы репортерской работы, я обнаружила в научных журналах. Статьи, посвященные изучению интеллекта растений, часто сопровождались откликами, порицающими эту развивающуюся область, чаще всего за выбор слов. Многим ученым-ботаникам не понравилось, что по отношению к растениям применяется слово «интеллект». Не говоря уже о еще более смелом термине «сознание». Они приводили веские доводы: у растений нет мозга и тем более нейронов. Кроме того, задачи эволюции растений отличались от наших, так зачем им могло понадобиться что-то из перечисленного? Статья в журнале Trends in Plant Science под названием «Растения не обладают сознанием и не нуждаются в нем»[18], написанная в соавторстве восемью авторитетными учеными-ботаниками, как оказалось, положила начало целой череде жарких споров. Авторы писали, что «крайне маловероятно, чтобы растения, не имеющие анатомических структур, сложность которых хотя бы приблизительно напоминала мозг, обладали сознанием». Скорее, по их мнению, все, что делает растение, можно списать на «врожденное программирование» с помощью «генетической информации, которая была приобретена в результате естественного отбора и которая в корне отличается от когнитивной деятельности или процесса накопления знаний, по крайней мере в том смысле, в каком эти термины широко понимаются».
Авторы признали, что сторонники теории растительного сознания опубликовали «блестящие работы», в которых нет по-настоящему спорных утверждений – даже о роли электрических сигналов в организме растений, которые, как они признают, могут быть аналогичны (но тут же осторожно уточняют, что не гомологичны) нервным системам животных. Споры, пишут они, возникли из-за исследователей, которые зашли слишком далеко в своих выводах, «смешно» упростив значение таких терминов, как обучение или чувство, в угоду правдоподобности своих утверждений. «Почему сегодня в биологии возрождается антропоморфизм?» – сокрушались они.
Науку не зря относят к консервативным сферам. Консерватизм – надежная защита от ложного знания. Но что-то в этой статье, казалось, не выдерживало критики. В науке действительно нет общепринятого определения жизни, смерти, интеллекта и сознания. Термины, безусловно, имеют значение, но их определения не устоялись, а значит, могут трактоваться в широком смысле. Разве растения не могут обладать интеллектом, который значительно отличается от нашего? Правда заключалась в том, что, о какой бы псевдонервной системе с электрическими сигналами они ни говорили, доводы оппонентов выглядели очень убедительно.
Наука, при всех ее достоинствах, зажата в границах вопросов, на которые можно ответить с помощью научного метода. Смысл или определение того, что такое жизнь, вероятно, не входит в их число. Наука никогда не занималась этическими понятиями бытия и небытия, так что отнесенные к научной сфере растения остаются концептуально запертыми в пространстве безжизненного холода. И все же эти ученые мужественно пытались разобраться[19] с самым трудным вопросом – что значит восприимчивость к миру; с трудной проблемой сознания. И в конце концов, они оказались хранителями научной информации, которая может помочь прийти к этическому заключению о том, какое место занимают растения и как мы можем к ним относиться. От них полностью зависело, разрешить или запретить проведение определенных экспериментов и публикацию их результатов. И я решила к ним прислушаться.
Очевидно, что противники теории растительного интеллекта хотели прямо заявить, будто растения не похожи на животных. Но для утверждения о том, что растения не могут обладать ни интеллектом, ни сознанием, они использовали определения, которые применяют по отношению к человеку. Мне показалось, что в этом аргументе кроется внутреннее противоречие: он сам себя опровергает. Философ когнитивной науки Пако Кальво из Университета Мурсии и известный исследователь физиологии растений Энтони Тревавас из Эдинбургского университета согласились: «Это, безусловно, нелогичная аргументация»[20].
Кроме того, я задалась вопросом, не стоит ли за этим страх. Я понимала, почему те, кто выступал против идеи растительного интеллекта, не желали, чтобы ее интерпретация преждевременно ускользнула в поле общественного сознания, где ее изысканная сложность была бы выхолощена и идеи преподносились бы в размытой и даже причудливой форме. Возможно, ее могли бы использовать для поддержки тех же нью-эйджевских представлений, из-за которых возникло столько проблем с «Тайной жизнью растений». В какой-то степени мне это было понятно. В массовой культуре всегда существовала маниакальная тяга наделять человеческими характеристиками представителей других биологических видов, возьмите любую сказку или мультфильм. Тем не менее мне казалось, что в этом случае недооценивается безграничное воображение общественности. Если бы его не пытались сдерживать, оно вполне могло бы распространиться и на виды интеллекта, присущие не только человеку. Да, задачка казалась непростой: создать ментальное пространство, чтобы представить себе интеллект иного рода, не делая поспешных выводов с позиции человеческого восприятия. Большинству из нас раньше этого делать не приходилось. Но борьба со сложностью – это упражнение, расширяющее сознание. Тормозить более широкое научное исследование, опасаясь того, как оно будет воспринято, кажется несправедливым по отношению к нам. Мне бы хотелось жить в мире, где люди не отодвигали бы сложности на задворки сознания.
Кажется, я стала свидетельницей споров о растительном интеллекте, когда они только зарождались, но как раз вовремя. Еще предстояло нащупать множество нитей. Однако каждая из них вела в настоящую науку, и полученные результаты были слишком любопытны, чтобы оставить их без внимания. Что же оказалось поставленным на карту? Я снова и снова наблюдала за тем, как дебаты сводились к спору о терминах и понятиях. Но мне они казались скорее спорами о мировоззрении, о природе реальности, о том, что представляют собой растения, особенно в отличие от нас.
Говорят, что пытаться понять любую культуру – все равно что смотреть на айсберг: видна верхушка, а скрытое в глубинах под водой разглядеть невозможно.
Мир ботаников и их культура – идеи, с которыми они работали и на которые опирались, – казались мне похожими на растение с разветвленной корневой системой. С места, где я сидела, зарывшись в статьи, я видела только надземные побеги – названия, концепции. Но вскоре один ботаник предложил мне поговорить с другим, который, в свою очередь, направил меня к третьему. Так стала выстраиваться цепочка знаний, проявилось множество невидимых подземных связей между лабораториями и журналами. Становилось понятно, кто кому доверял. Ростки обретали корни, из корней вырастали побеги.
Каждый раз, когда я звонила ученому, я убеждалась, что большинство из них совершенно не заинтересованы сделать так, чтобы знания о растениях служили на пользу людям. Самыми успешными оказывались звонки исследователям, которые были по уши влюблены в объект своих исследований, – о такой влюбленности хочется трубить на весь мир. Убедившись в неподдельности моего интереса, они выплескивали на меня знания с невероятным энтузиазмом. Рассказывали об уголке мира, тайны которого им только что удалось разгадать, о своем кусочке огромной и беспорядочной биологической головоломки, который они нашли, просеяв с помощью самого мелкого сита осадок мира, перетряхнув его в руках, и через несколько кропотливых лет чтения, лабораторной работы и неугасаемого интереса разгадали, какое значение он имеет и на какое место его надлежит поставить.
Я понимала, что такой взгляд на природу лишь фрагментарный. Природа – это не головоломка, которую нужно сложить, и не код, который нужно расшифровать. Природа – это хаос в движении. Биологическая жизнь – это раскручивающееся по спирали многообразие возможностей, бесконечное множество вариантов. Каждый организм, и уж точно каждое растение, вырастает из другого фрагмента эволюционной сети зеленых листочков, чтобы впоследствии измениться. Каждый из них, конечно, продолжает меняться, потому что этот процесс бесконечен, если не заканчивается вымиранием. Многообразие форм и видов казалось нескончаемым и непостижимым. Ученые, с которыми я общалась, знали это, но все равно продолжали исследования. Это заставило меня полюбить их еще больше.
Я стала понимать, что нужно говорить, а точнее, что не нужно говорить, чтобы ученый не положил трубку. Обычно такое словосочетание как «чувствительность растений» воспринималось как нормальное и нейтральное. «Поведение растений» уже более рискованная фраза, а уж произносить «интеллект растений» было откровенно опасным. Говорить о сознании, как я поняла, следует только после того, как пройдено горнило каждого из предыдущих терминов, без риска услышать в свой адрес ругань или короткие гудки. Когда я переступала черту, заходя на опасную территорию, это сразу же чувствовалось. Ученый становился осторожным, более замкнутым, особенно если мы еще присматривались друг к другу, и я понимала, что он пока не уверен, стоит ли вообще со мной разговаривать.
Но время от времени я нащупывала слабое место. Когда речь заходила на темы, где у моих собеседников, очевидно, были свои мысли о том, что может означать поведение или что считать интеллектом, они смягчались. Ученые внимательно выслушивали мои вопросы и после некоторых колебаний подробно и вдумчиво отвечали. Нередко при этом выявлялись внутренние противоречия. Да, многим из тех, с кем я разговаривала, слово «интеллект» казалось опасным, но только потому, что мысль большинства людей сразу перескакивает непосредственно к человеческому интеллекту. Оценивать растения по шкале человеческого восприятия не имело смысла: это превращало их в низших людей или низших животных. Перенесение человеческого образа и его свойств на другие объекты опасно, потому что оно принижает эти зеленые существа, не позволяя признать, что растения обладают несколькими чувствами (или все же можно сказать интеллектом?), которые намного превосходят человеческие, если их сопоставить. При этом сравнивать некоторые каналы восприятия растений с нашими, даже если они у нас есть, можно лишь отчасти. Многим ученым в разговоре со мной было очень непросто говорить об интеллекте растений: они опасались, что угодят в ловушку, сделав выводы, которые не отражают сути того настоящего чуда, о котором им удалось узнать.
С тех пор, как я впервые заинтересовалась поисками ответов на эти вопросы, прошло уже больше года. В августе 2019 года в Нью-Йорке в воздухе стоял резкий запах, исходивший от плавившегося под солнцем мусора и раскаленных тротуаров. Каждый день я выбиралась из душной квартиры в районе Флэтбуш в центре Бруклина и проходила пешком шесть кварталов до Проспект-парка. Иногда я останавливалась, чтобы купить кокосовой воды (настоящий орех) или немного сахарного тростника (травы) у продавца, торгующего за карточным столиком на углу. Проходя мимо каменных колонн в парке, я замедляла шаг. Свет сменялся тенью, и зной смягчался благодаря одновременному выдоху миллионов растений. Я вспомнила: еще до того, как натуралисты признали, что одной из функций фотосинтеза является образование сахара, считалось, что его предназначение – кондиционирование воздуха. Прохладные потоки ласкали кожу, и я дышала полной грудью. В чистом воздухе витал аромат влажной листвы, мысли текли легко. Теперь я смотрела на большой подорожник и черноплодную рябину со смесью благоговения и любопытства. Я только сейчас осознала, что в жизни каждого растения, которое когда-либо встречалось мне на пути, над и под землей происходит нечто большее, чем я могла себе представить. Они почти наверняка могли знать, что я прохожу мимо. Среди зелени, яркой и тусклой, я начала замечать множество различных видов и значительно больше отдельных экземпляров. Я знала, что повсюду разворачивалась драма, которую мой глаз не мог увидеть, а разум – осознать.
Рассматривая растения, я вновь обретала осязаемую близость с миром природы. Дело не в том, что это помогало игнорировать экологическую катастрофу; это был способ вернуть себя к жизни. Каждое растение служило иллюстрацией мира, который мы могли потерять, каждая экосистема – другой галактикой. И все же, читая статьи об интеллекте растений, я представляла, что пытаюсь рассмотреть огромную гору, глядя на нее сквозь крошечную лупу. Волна новых исследований подтверждала мои опасения. Недавно ученые обнаружили, что растения способны запоминать, но понятия не имеют, где эти воспоминания хранятся. Они также выяснили, что растения могут узнавать родственников, но как это происходит, также остается загадкой. Эти открытия представляли собой намеки, фрагменты, которые указывали на наличие чего-то большего, целостного.
Так что же такое растение? Похоже, так никто и не знает. Во время одной из прогулок я решила уйти с работы, чтобы посвятить время растениям. В редакции новостей, где я тогда работала, наступили не лучшие времена. Доходы от рекламы снижались, инвесторы были напуганы, и сотрудников увольняли. Моральный дух упал ниже некуда. Я больше не видела смысла там оставаться. Я чувствовала, что меня могут в любой момент уволить, так что даже гарантия полной занятости стала казаться иллюзией. У меня накопились кое-какие сбережения, и я решила урезать расходы. Пришло время перемен. У друга детства нашлось для меня место в старом доме на ферме, где он вырос и где мы в детстве носились по ржаным полям. Я могла поселиться там, а затем отправиться в путешествие, чтобы увидеть растения в других местах, в местах их исконного обитания, там, где они эволюционировали, чтобы жить.
Оно того стоило: в ботанике явно происходило нечто важное. Наука приближалась к рубежу, от которого, возможно, уже нельзя было повернуть назад: наше убеждение, что растения – немые, ничего не чувствующие существа, выглядело совершенно неверным. Момент казался подходящим. Было бы кощунством замуровать эту прекрасную историю во мраке академических кабинетов. Мне стало казаться, что она может изменить мир. Мой она уже точно меняла. Хотя что значило мое любопытство по сравнению с открывавшимися перед миром перспективами. Чем больше времени я проводила, размышляя о растениях, тем сильнее мне хотелось ими заниматься: это меня захватывало. Я чувствовала, что вижу все гораздо более отчетливо.
Я вернулась домой, и мое внимание привлек гигантский эпипремнум, висевший на окне в кухне. Его листья стояли вертикально. За время моего отсутствия они всей поверхностью развернулись к оконному стеклу, практически приклеившись к нему. Я осмотрела другие комнатные растения. Филодендрон пытался просунуть тонкий коричневый воздушный корень в стоящий рядом горшок с толстянкой. Я перевела взгляд на каучуконосный фикус, выросший из черенка от каучуконоса моего отца, который, в свою очередь, отщипнул отросток от растения родителей, подаренного им в день свадьбы шестьдесят лет назад. Это первоначальное растение, теперь уже внушительное дерево, по-прежнему стояло у рояля в гостиной бабушки с дедушкой, возвышаясь над всем вокруг. Однажды оно едва не погибло, и тогда бабушкина мама отрезала уцелевшую ветку и держала в воде до тех пор, пока из среза не показались белые корни, так ей удалось вырастить каучуконос из одной ветки. Четыре поколения моей семьи ухаживали за этим растением, а оно все еще молча наращивало новые части тела. Не является ли это своего рода памятью?
Мне надоело, что я многого не понимаю. Я должна была сделать шаг и во всем разобраться.
Глава 2
Как ученые меняют свое мнение
Факты несут в себе теорию; теории несут в себе ценности; ценности несут в себе историю.[21]
Донна Харауэй, «В начале было слово: генезис биологической теории», 1981
Спрашивать человечество о том, что значит присутствовать в этом мире… значит воспроизводить очень неполный образ космоса.[22]
Эмануэле Кочча, «Жизнь растений», 2019
С бурлящей плазмы на поверхности солнце пригоршнями выбрасывает потоки света. Его частицы – миллиарды фотонов – преодолевают 93 миллиона миль через черноту космоса, чтобы пролиться дождем и, словно хлеб и мед, напитать распростертую плоть самой многочисленной живой массы на Земле. Растения питаются светом. Фотосинтез, столь необходимый растениям, является обязательным условием для существования большинства других форм жизни на Земле. Благодаря фотосинтезу растения насыщают воздух кислородом, которым мы дышим.
Как мы здесь оказались? Полтора миллиарда лет назад клетка, похожая на водоросль, проглотила цианобактерию. Эта водорослеподобная клетка стала начальным организмом, из которого впоследствии развились животные и грибы, а цианобактерия – прародительницей немыслимого разнообразия бактерий, наводнивших наш мир сегодня. Соединившись, они положили начало совершенно новой ветви жизни[23]. Оставаясь на плаву в мутных водах докембрийского периода, этот единственный страж у ворот нового царства начал заниматься фотосинтезом. Он получал солнечный свет и преобразовывал доступные материалы из окружающей среды – воду, углекислый газ, возможно, несколько микроэлементов – в сахар.
Первое растение было рождено химерой[24] – организмом, состоящим из генетически различных клеток. Листья каждого зеленого растения на Земле хранят генетический отпечаток того первого союза. Клетки растений, которые сегодня ловят фотоны, падающие из космоса, являются химерами в миниатюре; первая цианобактерия все еще внутри них[25], все еще добросовестно преобразовывает свет в пищу.
Спустя полтора миллиарда лет после начала сотворения мира растения эволюционировали и размножились до полумиллиона видов, которые обитают во всех экосистемах планеты. Их превосходство абсолютно. Если взвесить растительную массу, то она составит 80 % живого вещества Земли[26].
Когда около пятисот миллионов лет назад растения вышли из океана, они попали в земную глушь, окутанную негостеприимным туманом, состоящим из углекислого газа и водорода. То есть негостеприимным для всего, кроме растений. Они уже научились выделять кислород из углекислого газа, растворенного в океане, и приспособили эту технологию к своему новому миру. В некотором смысле они перенесли океан с собой. Непрерывно выдыхая, легионы ранних наземных растений изменили баланс газов в пользу насыщения кислородом[27]. Они создали атмосферу, которой мы наслаждаемся сейчас. Не будет лишним добавить, что они и породили пригодный для жизни мир. По словам итальянского философа Эмануэле Коччи, они создали наш космос: «Мир – это в первую очередь все, что растениям удалось из него сделать».
Благодаря этому же процессу растения производят все сахара, которые мы когда-либо потребляли. Лист – единственный объект в известном нам мире, который может производить сахар из неживых материалов – света и воздуха. Мы, то есть все остальные, вторичные потребители, перерабатывающие то, что произвело растение. Составленные нами новые комбинации генов могут быть гениальными, но материя не является оригинальной. Оригинал создается следующим образом: когда фотоны падают на протянутые к ним зеленые части растения, хлоропласты в клетках листа преобразуют частицы света в химическую энергию. Эта солнечная энергия накапливается в специализированных молекулах – накопителях энергии, аккумуляторных батареях растительного мира.
В то же время лист поглощает углекислый газ из воздуха через мельчайшие отверстия на нижней стороне, похожие на поры, которые называются стоматами или устьицами. Под микроскопом они выглядят как маленькие разинутые рты, рыбьи губы, которые открываются и закрываются. В конце концов, они по-своему дышат. Стоматы всасывают углекислый газ, и теперь уже он сталкивается с солнечной энергией, накопленной в хлоропластах, и водой, которая всегда течет по жилкам листа. В результате этой встречи с чистой энергией света молекулы воды и углекислого газа разрываются на части. Половина молекул кислорода из обоих участников после этой встречи улетучивается, возвращаясь в мир через открывшиеся стоматы и превращаясь в воздух, которым мы дышим. Оставшиеся углерод, водород и кислород превращаются в нити глюкозы, содержащей сахар. Если говорить точнее, то шесть молекул углекислого газа и шесть молекул воды, разорванные на части солнечной энергией, образуют шесть молекул кислорода и то, ради чего на самом деле все это и затевалось, – одну драгоценную молекулу глюкозы. Растение использует глюкозу для строительства новых листьев, из которых можно получить еще больше глюкозы. Оно также переносит глюкозу вниз по телу, передавая ее в подземную структуру, где она используется для выращивания новых корней, которые будут тянуть больше воды вверх по телу, а оно в свою очередь будет разрываться на части, чтобы произвести еще больше глюкозы. Таким образом развивается жизнь.
Мы тоже состоим из глюкозы. Без постоянного поступления этого растительного сахара наше существование быстро закончится. Только вдумайтесь: каждый орган живого организма построен из растительных сахаров. Отпечаток их молекул есть в мышцах на наших костях, да и в самих костях. Наше тело соткано из нитей, которые впервые сплели растения. Точно так же каждая мысль, которая когда-либо приходила вам в голову, появилась благодаря растениям.
Это просто ошеломляет. В частности, мозг представляет собой машину, работающую в основном на глюкозе. Без постоянного источника глюкозы связь между нейронами замедлится, а затем и вовсе прекратится. Память, усвоение информации и мышление остановятся. Без глюкозы ваш мозг увянет незадолго до того, как эта участь постигнет весь организм. Вся глюкоза в мире, независимо от того поступает ли она к вам в виде банана или кусочка пшеничного хлеба, была произведена из воздуха растением в тот момент, когда на него упали фотоны от солнца.
Таким образом, каждую минуту мы ведем разговор с растениями, а они – с нами. За нашими мыслями и их результатами – основами нашей культуры, нашими изобретениями – стоят триллионы растительных тел, каждое из которых трудится, чтобы поддерживать жизнь.
Однако, несмотря на все возможности, растения не способны перемещаться. Вероятно, один из величайших подвигов жизни – это то, что растения, учитывая их ограниченную подвижность, смогли распространиться так широко. Колонизация всех семи[28] земных континентов потребовала инноваций, умения адаптироваться и удачи. Но появление растений на новых территориях стало лишь одним из их достижений. Выжить, размножиться и создать сложные сообщества – и при этом противостоять угрозам хищников, погодным катаклизмам, лишениям и болезням – совсем другое дело.
Никто не знает об этом лучше, чем специалист по редким растениям, работающий на далеком острове. Стив Перлман – главный ботаник Программы по предотвращению вымирания растений на Гавайских островах. На момент нашей встречи ему исполнилось шестьдесят девять лет. Передо мной седой мужчина крепкого телосложения. Прежде чем погрузиться в запутанный мир исследований в области растительного интеллекта, я хотела познакомиться с классическими методами сбора растений для дальнейшего изучения. Я приехала, чтобы увидеть работу Перлмана: мы едем в стареньком минивэне по извилистой глинистой дороге на северо-западной окраине острова Кауаи и говорим о чувствах. Он, в отличие от знакомых-ботаников, занимающихся изучением редких растений, не принимает антидепрессанты. Вместо этого он пишет стихи. В любом случае, говорит мне Перлман, когда вымирает давно известное растение, нужно что-то делать. Каждое растение, которое умирает такой одинокой смертью, знаменует собой конец эволюционного проекта, длившегося много миллионов лет. Великий генетический эксперимент этого вида закончен, последний экземпляр стал последним представителем рода.
Каждое местное растение на Кауаи, четвертом по величине острове Гавайев, где живет и работает Перлман, – результат невероятного совпадения случая и везения. Каждый вид попал на остров в виде семени, плывущего по морю или летящего в брюхе птицы с расстояния в тысячи миль[29]: между Кауаи и ближайшим континентом более двух тысяч миль открытого океана. Ботаники считают, что за тысячу лет на остров попадает одно или два семечка.
Кауаи образовался пять миллионов лет назад в результате извержения вулкана, но тектоническое движение плит сместило его от вулканического очага. Остров каждый год по-прежнему понемногу дрейфует на северо-запад. В этом геологическом родильном доме острова появлялись один за другим и начинали двигаться влево тем же путем. Поскольку Кауаи считается первым среди всех гавайских, а значит, и самым старым, у него было больше времени для сбора случайных семян.
Когда новое семя укоренялось в молодой почве, растение превращалось в совершенно новый вид или чаще всего в несколько новых видов, каждый из которых примерял на себя новый образ жизни в комфортных климатических условиях острова.
Этот процесс известен как адаптивная радиация. В результате появились тысячи вариаций нескольких видов; каждая новая вариация становилась эндемичной (встречающейся исключительно на острове).
Глядя в окно подпрыгивающего на ухабах минивэна, я пытаюсь осознать величие этого факта. Перлман за рулем. Пышные листья пальм взметаются по бокам фургона, как руки в перчатках.
Обрыв с одной стороны дороги уходит вниз на несколько тысяч километров, открывая вид на каньон, покрытый бледной зеленью. Чем выше мы поднимаемся, тем гуще становится туман, окутывающий фургон. Вскоре густая растительность за окном сливается в мокрое зеленое пятно. Дорога становится плоской, Перлман останавливает машину и выходит. Мы забрались очень высоко. Он делает несколько широких шагов вперед, пока носки его рабочих ботинок не оказываются на краю обрыва, и смотрит вниз. Отвесный склон, поросший папоротниками, похож на мохнатую шубу, а маленькие пальмы, торчащие под разными углами, пробиваются сквозь туман. Скалы у основания образуют небольшую долину, по форме напоминающую полумесяц, другой край которой обращен к Тихому океану. На тысячи километров вниз она переливается всеми оттенками зеленого. Перламутровые капельки влаги покрывают все вокруг невесомой паутиной.
Во многих отношениях Кауаи – это ярчайший пример того, как выглядел бы мир, если бы в нем правили растения. По всему острову разбросаны кажущиеся неземными растения – результат безграничной цветочной свободы.
Когда растениям позволено развиваться, ничего не опасаясь, они становятся безупречно и вычурно особенными.
Возьмем, к примеру, род гибискадельфус (Hibiscadelphus). У этих растений, встречающихся только на Гавайях, длинные трубчатые цветки, которые словно специально созданы для удобства крючкоклюва – птицы, которая их опыляет. А еще есть вулканическая пальма бригамия (Brighamia insignis), или «Ол-Лулу» по-гавайски, – невысокое дерево, внешний вид которого лучше всего описывает его прозвище – капуста на палочке. За десятки тысяч лет она эволюционировала так, что опылять ее позволено только чрезвычайно редкому сказочному зеленому мотыльку-сфинксу (он и правда так называется).
Вулканическая пальма, до сих пор находящаяся под угрозой исчезновения в дикой природе, была спасена благодаря работе Перлмана в самом начале действия Программы по предотвращению вымирания, когда он придумал и собственноручно смастерил обвязку из веревок с узелками и с ее помощью висел над скалами На-Пали Кост. Там, на высоте четырех тысяч футов[30], маленькой косметической кисточкой, позаимствованной у жены, он искусственно повторял действия мотылька, осторожно перенося пыльцу с мужских особей на женские. «Результат был виден невооруженным глазом, – говорит Перлман. – Возвращаешься, а плоды просто лопаются от семян». (Сейчас вулканические пальмы выращивают как комнатное растение в Нидерландах, где их полно в оранжереях. Интересно, знает ли человек, у которого на подоконнике в Амстердаме стоит горшок с вулканской пальмой, какой драматический путь она прошла?) Другие растения приспособились жить на очень большой высоте, где прямо над ними за скалу цепляется папоротник, и стекающие с его листьев капли тумана создают идеальный баланс влажности.
В большинстве других мест на Земле, за пределами Кауаи, эволюция растений шла совсем по другой траектории. Первые растения с семенами и цветами появились около двухсот миллионов лет назад. С тех пор они разделились и развились в сотни тысяч видов, которым пришлось приспосабливаться к всевозможным угрозам, возникающим с момента их прорастания.
Когда семя решает пустить корни, оно идет на огромный риск. Семена – это зародыши, заключенные в оболочку из питательных веществ; один ученый-семеновод однажды описал мне их как «растение в коробке со своим обедом». В них заложена основа растения, живая, но пока дремлющая. Семя может десятилетие пролежать без дела, терпеливо дожидаясь подходящих условий, чтобы пустить первый корень. Как только это происходит, оно лишается малейшего шанса на перемещение. Вот так, без возможности двинуться с места, оно станет противостоять любой угрозе – ветру, снегу, засухе, прожорливым животным.
После того как маленький корень растения решил появиться на свет, у него есть сорок восемь часов, чтобы найти воду и питательные вещества, а затем, прежде чем ресурсы будут исчерпаны и растение погибнет, выпустить один-два листа и начать фотосинтез. Первые зеленые части любого растения сложены, заранее собраны и ждут внутри семени. Этот предварительно сконструированный росток мало похож на растение: он состоит из одной или двух зеленых долек (такие еще любят рисовать в мультфильмах) на коротком зеленом стебле, что-то вроде растительного эмодзи, но таким он остается совсем ненадолго. Дольки разворачиваются и надуваются, наполняясь первым глотком сока, втянутого корнем-первопроходцем, и начинают работу по фотосинтезу. Если все пройдет успешно, это проторастение на космическом корабле, запущенном в мир воздуха и света, будет сброшено, как ракетный ускоритель, и заменено настоящими листьями, вариаций которых бесконечное множество. Только после этого испытательного периода, проверки на прочность, растение становится похожим на то, каким оно должно быть, вбирая в себя черты рода и приспосабливая их к новой среде.
Но даже в этом случае растение преодолело лишь первую из многих угроз для своей молодой жизни. У любого семени шансы превратиться в полноценное растение стремительно уменьшаются. Во многих случаях угрозу представляют пасущиеся животные – существа, которые могут бегать и добывать корм на обширной территории и чьи основные функции предполагают наличие центральной нервной системы. Растения не обладают ни одним из этих преимуществ. Они не могут убежать – вместо этого они разработали хитроумные и сложные способы защиты от мучителей, а также способы добывать питательные вещества в течение всей жизни из места, где они впервые приземлились в виде семян.
Опасность остаться неподвижными именно та сила, которая заставила растения создать одну из самых впечатляющих систем адаптаций в природе. Возможно, самое большое достижение растения – это его анатомическая децентрализация. Растение модульно: оторвите лист, и на его месте вырастет новый. При отсутствии центральной нервной системы жизненно важные органы распределены и представлены в виде дубликатов. Это также означает, что растения выработали замечательные способы координации своего тела и самозащиты. У них могут вырасти шипы, колючки и жалящие волоски, развитые с удивительной точностью, чтобы пронзить плоть или экзоскелет млекопитающего или насекомого, которое представляет для них главную угрозу. Они способны выделять липкий сахар, чтобы заманить, а затем обездвижить врагов, чьи голодные пасти слипаются. Их цветы могут быть чрезвычайно скользкими, чтобы отпугивать муравьев, ворующих нектар. Какой бы ни была адаптация, она, как правило, экономична в своей специфике. В каждой крошечной вариации есть своя цель. Это справедливо для всех областей физиологии растений; каждая часть структуры растительного организма существует по определенной причине, выверенная для выполнения своей задачи. Ни больше ни меньше.
От убежденности в том, что неподвижность подразумевает пассивность, не остается и следа при взгляде на огромные возможности растений по созданию химического оружия. Растения сами являются химиками-синтетиками, разработанные ими технологии создания сложных химических веществ превосходят человеческие. Лист, почувствовав, что его погрызли, может выпустить в воздух шлейф химикатов, которые сообщают более отдаленным ветвям растения, что необходимо активировать иммунные системы, производя еще больше репеллентов для отпугивания надвигающейся тли и других растительноядных жуков. Было обнаружено, что некоторые виды растений по соединениям в слюне гусениц определяют ее вид, а затем синтезируют специфические соединения для привлечения хищника. Чтобы расправиться с гусеницами, тут же прилетают осы-наездники.
Но у растений на Кауаи нет ни одного из этих средств защиты, или, во всяком случае, их гораздо меньше. Все, что могло составлять арсенал предшественников этих растений – колючки, яд или отпугивающие запахи, – после их прибытия на остров полностью атрофировалось. Ни крупные, живущие на суше млекопитающие, ни рептилии, ни другие потенциальные хищники не перебирались с материка на отдаленную островную гряду. Единственное сухопутное млекопитающее, обитающее на Гавайях, – это маленькая пушистая летучая мышь. (Представить путешествие ее предка из Северной Америки практически невозможно: скорее всего, ее занесло туда во время шторма.) С точки зрения эволюции, если нет хищников, от которых необходимо отбиваться, растениям незачем тратить энергию на защиту, поэтому мята потеряла свое мятное масло, а жгучая крапива не жалит. Ученые зловеще предупреждают, что таким образом виды становятся «наивными».
Как только появляются угрозы, эта блаженная наивность часто оказывается фатальной: Кауаи, как и остальные Гавайи, теперь атакуют инвазивные виды, которые развивались в других местах, в менее комфортных условиях. Они более агрессивны – или изобретательны, если использовать менее эмоциональный термин, – потому что им приходится выживать. На Кауаи они легко занимают экологические ниши. У местных растений не остается ни единого шанса. В результате Гавайи теряют по одному виду растений в год, в то время как естественный фоновый показатель составляет примерно один вид каждые десять тысяч лет. Вот тут-то и приходит на помощь Перлман. Вместе с напарником Кеном Вудом он занимается исключительно растениями, которых осталось пятьдесят или менее экземпляров – во многих случаях гораздо меньше, может быть, два или три. Из 238 видов, включенных в этот список на момент моего приезда, 82 находились на Кауаи.
Без Перлмана редкие гавайские растения вымрут навсегда. С ним у них хотя бы есть шанс.
Чтобы добраться до этих растений, Перлман спускается по скалам, а иногда, если нужно найти скопления всего лишь из пяти растений, прилепившихся к отдаленному склону скалы на одном из тихоокеанских островов, прыгает с вертолета. Когда оставшиеся «в живых» мужские растения оказываются слишком далеко от последних оставшихся женских, Перлман проводит естественное опыление и размножение: собирает пыльцу с мужских экземпляров, бережно несет ее к женским и наносит кисточкой на их половые органы. Чтобы отыскать эти растения, Перлман отправляется в многодневный поход, питаясь злаковыми батончиками и консервированным тунцом, оставляя место в рюкзаке для громоздких инструментов, необходимых ботанику. Иногда он находит растение слишком рано – возможно, оно еще не достигло половой зрелости и цветок не раскрылся, – и тогда всю затею приходится откладывать.
Этот трудоемкий процесс отнимает много времени, и у Перлмана складываются особые отношения с растениями, которые он стремится спасти. Ему не всегда сопутствует успех – это вообще невозможно. «Я уже стал свидетелем того, как около двадцати видов в дикой природе вымерли», – говорит он. Он дежурил рядом с последним представителем вида и оставался с ним до последнего, пока тот не погиб. Смерть растений, как и смерть человека, – это вопрос как биологии, так и философии. В какой момент человек умирает? Когда у него отказывает сердце? Или когда прекращается работа мозга? Технически растение можно воспроизвести в лаборатории из нескольких живых клеток. Но растение с несколькими живыми клетками нельзя назвать благополучным. Перлман считает, что растение обречено, когда его ткани отмирают настолько, что шансов на жизнь в дикой природе больше нет. Оно обезвоживается, вянет, становится бурым, отмирает.
По мнению Перлмана, понимания того, что эволюция растения закончится именно здесь и сейчас, достаточно, чтобы начинать его спасать. Нельзя просто так отказываться от вида, если до него еще можно добраться, даже если он находится на отдаленном утесе, окруженном зазубренными скалами. Или, как говорит Вуд, «мы пытаемся, потому что не собираемся останавливаться в наших попытках». К сожалению, неудачи – это часть работы. Однажды, когда последний известный экземпляр местного цветка окончательно засох и умер, Перлман выкопал растение и принес в бар. Эмоции переполняли, и он провозгласил тост за жизнь растения.
Можно уверенно утверждать, что большинство людей не испытывают особых чувств по отношению к редким растениям и еще меньше из них имеют представление о борьбе, которая ведется за возвращение растений с края гибели, на котором те оказались. Если среднестатистический человек способен хотя бы различить несколько пород собак, то вероятность того, что он отличит бук от березы или колос пшеницы от колоса ржи гораздо ниже. Это вполне объяснимо: растения в эволюционном плане отстоят гораздо дальше от нас, они развивались в условиях, совершенно не похожих на наши. Пищу они добывают из света, растут на одном месте и проводят десятилетия или столетия, исследуя окружающую среду в поисках пропитания. Их образ жизни настолько странен, что в нашем представлении у них вообще не может быть образа жизни.
Это нежелание или неумение видеть стало именем нарицательным, которое понятно ботаникам: «растительная слепота» – склонность рассматривать растительный мир как неразличимую массу, зеленое пятно, а не как тысячи генетически отдельных и хрупких особей, отличающихся друг от друга так же, как лев от форели. Этот термин встречается в научных работах и произносится на конференциях, где обеспокоенные ученые разводят руками, тщетно пытаясь заставить публику увидеть результаты труда всей жизни. Для ботаников растительная слепота – это вечная борьба за финансирование фундаментальных исследований или попытки убедить в том, что конкретное растение нуждается в спасении, даже если оно не относится к видам, которые имеют значение для экономики, например сорт кукурузы с самым высоким содержанием крахмала – его мы используем для кормления коров, или два вида кофе, которые мы пьем.
В общем, человечество очень мало знает о нежной зеленой массе, которая украшает любой пейзаж и населяет почти каждый дюйм[31] земли вокруг нас. Растительное царство хранит секреты в тайне от вида, который не утруждает себя поисками. Но они обладают высшей властью, позволяющей им влиять на нашу биологию и культуру. Надо признать, что сферу этого влияния разделяют бактерии и грибы, которые человек точно так же игнорирует. Похоже, нас постигла неудача и наши привязанности и приоритеты нелепым образом перепутаны.
Обычно отсутствие интереса к растениям объясняют их медлительностью. Время в этом мире течет по другим законам. Действительно, мы не замечаем их ежедневных движений, например того, как молодой побег рассады огурца скручивает и распутывает усики, раскачивается вперед-назад несколько раз в день. Движение настолько медленное, что заметить его может только самый терпеливый. Однако медлительность относительна. Сорокалетнее дерево окажется намного, значительно выше сорокалетнего человека. Бобовое растение может догнать в росте десятилетнего ребенка меньше чем за месяц. Пуэрария способна полностью окутать своими побегами автомобиль за две недели.
Мне кажется, что растительная слепота – это нечто более глубинное, связанное с системой ценностей, которая, конечно, является продуктом культуры. На самом деле эта проблема существует не в каждой культуре. Практически у всех коренных народов, где бы они ни жили на земном шаре, складываются более близкие отношения с растительным миром, они лучше его чувствуют.
Во многих культурах растения наделяют человеческими свойствами, а люди являются лишь одним из видов живых организмов.
Люди и растения часто связаны буквально: индейцы канела – это группа коренных народов Бразилии – включают растения в семейную структуру[32]. Садовники – это родители, а бобы и кабачки – их дочери и сыновья. В книге «Растения могут дать нам очень много, нужно только попросить»[33] (сборник традиционных учений анишинаабе о растительном мире) Мэри Сиисип Гениуш пишет, что растения занимают главенствующее место в мировоззрении ее народа, проживающего в районе Великих озер. Растения – это «вторые братья» мира, созданные сразу после «старших братьев» – ветра, камней, дождя, снега и грома. Растения зависят от старших братьев, поддерживая при этом все живое, созданное после растений. Животные, не являющиеся людьми, – «третьи братья», зависящие как от стихий, так и от растений. Человек – «младший брат», созданный позже всех других существ. Только ему, чтобы выжить, необходимы все три брата. «Люди не властелины этой земли, – пишет Гениуш. – Мы младенцы в этой семье. Мы самые слабые, потому что самые зависимые».
Там, где Гениуш говорит о связях, зависимости и родстве, большая часть европейской мысли сосредоточена на расстоянии и отстраненности. Возможно, самым ярким примером этого является использование слова «овощ», так мы говорим о человеке, мозг которого умер, но тело продолжает жить. Но слово vegetabilis (овощ) пришло из средневековой латыни[34] и означает что-то растущее или цветущее. Глагол Vegetāre означал одушевлять или оживлять. Vegēre – это само состояние «быть живым», «быть активным». Очевидно, что так было не всегда.
Я вспоминаю о теоретике Джейн Беннетт: она интересуется языком, которым мы описываем состояния объектов, не являющихся живыми. По ее словам, мы с серьезным лицом занимаемся довольно забавным делом: рисуем воображаемые линии, связывающие предметы и объекты. «Философский проект по определению того, где начинается и где заканчивается субъективность[35], слишком часто связан с фантазиями о человеческой уникальности», – пишет она в книге «Живая материя». Или же он основывается на вере в наше предполагаемое господство над природой, или наше превосходство в глазах Бога, или на каких-то других тонких утверждениях, что делает всю эту затею довольно наивной и бесполезной с материальной точки зрения. Мы можем добиться большего, подумалось мне.
Так как же получилось, что взгляд белого европейца на место человека в мире так далеко ушел от неоспоримой в реальности нашей зависимости от растений?
Корни ответа на этот вопрос уходят глубоко в прошлое. В древнегреческой философии почти сразу после того, как понятие «душа» стало отделять одушевленные вещи от неодушевленных, растения оказались в числе тех, кто душой обладал. Эмпедокл в своем описании мира наделил душой растения и приравнял их к животным именно потому, что они были одушевленными – живыми, и он не видел причин для разделения этой категории. Позже Платон описал растения как обладающие «желающей» и «чувствующей» душой, которая, хотя и является низшей из душ, но все же наделена разумом просто потому, что, согласно Платону, не бывает чувства без разума[36], как не бывает желания без намерения. Люди тоже наделялись этими желающими и чувствующими душами, но они были значительно совершеннее благодаря разуму и морали, что делало людей – особенно свободных – исключительными. Разум становился признаком высшего сознания, которым, по мнению Платона, могли обладать только мужчины, а женщины, дети и рабы, как правило, оказывались этого лишены. Поэтому разумно было бы, чтобы этими низшими людьми, а также всей природой правили мужчины[37].
Несколько лет спустя Аристотель в своих работах усовершенствовал эту иерархию. Он описал лестницу жизни scala naturae, на нижней ступени которой стояли растения, а на верхней – человечество. В самом низу, утверждал он, нет ни разума, ни даже ощущений. У расположившихся на ступеньку выше животных ощущения есть, но нет разума. К этому времени в греческой философии наметился явный сдвиг в сторону искренней веры в рациональные причинно-следственные связи и отказ от представлений древних греков о необходимости поддерживать уважительные отношения с другими живыми существами. Для поддержания мира больше не требовалось проводить ритуальные обряды[38] и демонстрировать почтение к стихиям и существам, не относящимся к миру людей, а достаточно лишь разумного понимания причин природных явлений. Аристотель лишил растения даже их прежней способности желать или чувствовать; они существовали исключительно как инструменты на службе человека.
Здесь мы подошли к развилке дорог. И тут меня поджидала неожиданность. Эта развилка носит имя Теофраст, и он представляет альтернативный финал этой истории, путь, по которому западная мысль пойти могла бы, но не пошла. Умирая, Аристотель оставил свою школу выдающемуся из учеников – Теофрасту Тот проявлял особый интерес к растениям. Он опубликовал первые известные тексты о растениях как таковых[39], а не только о том, для каких целей они могут служить человеку. Он описал их поведение: как они растут, к чему стремятся, что им нравится, а что нет. Растения, писал он, вовсе не пассивны, а скорее находятся в постоянном движении, стремясь к исполнению своих желаний. Невероятно, но он описывал сельское хозяйство как отношения сотрудничества. Он видел, что окультуренные растения страдают от более короткой продолжительности жизни, чем их дикие собратья, но считал, что одомашненные виды относятся к своей короткой жизни как к разумному компромиссу[40], где на другой чаще весов – многочисленные преимущества в виде защиты от хищников и получение необходимой еды и воды[41]. Теофраст, похоже, был абсолютно готов всерьез воспринимать растение как автономное существо с собственными желаниями и стремлением к их удовлетворению.
Не менее любопытно и то, что Теофраст указал, чем растения полностью отличаются от животных и людей, не вынося никаких суждений о том, какое место они занимают в воображаемой иерархии, как это делал Аристотель. Он действительно проводил определенные параллели между людьми и растениями – в частности, приравнивал жидкость, текущую через растения, к крови, отмечая, что и та и другая течет по венам, и описывал ядро дерева как «сердцевину»[42], этот термин мы используем и сегодня. Но он поспешил уточнить, что не считает растения просто низшими человекоподобными существами. Они были совершенно самостоятельной категорией существ, не сравнимой с животными. Сравнения между сердцами и ядрами были полезны лишь как мост, помогающий понять суть. «Только с помощью более известного мы должны стремиться к неизвестному[43], а более известными являются вещи, более масштабные и понятные для наших чувств», – писал он. Это кажется мне невероятно изящным. Он говорил с читателями, используя ясные метафоры, понятные людям, которые видят мир только со своей точки зрения. Короче говоря, рассказывая о сложности растений, он признавал ограниченность людей. Как бы выглядела современная история, если бы модель Теофраста взяла верх?
Но по какой-то случайности того времени и господствующей моде именно иерархия Аристотеля, а не Теофраста с тех пор укоренилась в естественных науках и западной морали. И каковы результаты? А их предостаточно. Пожалуй, самый красноречивый и символичной – хирургическое вскрытие находящихся в состоянии бодрствования собак в амфитеатрах, длившееся почти до начала ХХ века.
Аристотель считал, что у людей есть «разумные души», а у остальных животных – только «перемещающиеся души», что заставляет их двигаться вперед, не задумываясь, к размножению и выживанию.
Эта общая идея господствовала в западном мире на протяжении двух тысячелетий и была пересмотрена в XVII веке французским философом и ученым Рене Декартом, который считал, что тела животных – это сложные механизмы, результаты процессов физики и химии, популяризируя понятие «живая машина»[44].
Идея заключалась в том, что «жизненные явления, как и все другие в физическом мире, поддаются механическому объяснению»[45], как выразился биолог Томас Хаксли двести лет спустя, в 1874 году. Ход времени только укрепил позицию Декарта в науке, поскольку каждое новое достижение эпохи, казалось, подтверждало ее. Физиология и анатомия сделали важнейшие открытия о том, как работает организм: как мы перевариваем пищу, дышим и двигаемся. Каждое из них оказалось достаточно механистическим. Европейские ученые считали, что они стоят на пороге открытия самой жизненной силы, которая, несомненно, окажется всего лишь еще одним механическим компонентом, как кровь или кость. Это была эпоха чудовища Франкенштейна: если правильно соединить части, можно получить жизнь в чистом виде.
Но люди, несмотря на механическую природу тел, обладали здравым смыслом и душой, что было трудно объяснить, но отличало их от других животных. Собаки же, как тогда считалось, этим набором не обладали. То, как собака воспринимает окружающую среду или даже испытывает ощущения, не считалось по-настоящему сознательным опытом, а относилось скорее к отточенным автоматическим рефлексам. Любое проявление боли, например лай, считалось тем же самым: просто рефлексом. Все это воспринималось как научные факты. А механическая основа животных снимала с людей всякую вину, когда они препарировали их живьем для научного изучения.
В 1800-х годах вивисекция, как ее называли, снова вошла в моду и привела к появлению новых научных знаний. Английский физиолог Уильям Гарвей стал первым европейцем, который благодаря препарированию живых животных точно описал процесс кровообращения. (Ибн ан-Нафис[46], арабский врач из Дамаска, опередил его, точно описав легочное кровообращение за триста лет до этого.) Клод Бернар, знаменитый французский физиолог, предположительно в 1860-х годах вскрыл жившую в его семье собаку при жизни. История гласит, что жена и дочери Бернара, вернувшись домой и обнаружив, что он натворил, ушли из дома и присоединились к раннему обществу противников вивисекции. Препарирование животных вышло из моды не потому, что наука изменила свое мнение, а потому, что первые общества защиты животных – в большинстве случаев возглавляемые женщинами – выступили против нее.
История о том, как до недавнего времени относились к животным, полезна для нашего повествования о растениях, поскольку служит ярким примером того, как неустойчиво научное мнение. Она также показывает, как философия и этика могут вмешиваться в отношение к существам, не относящимся к миру людей. Если бы все зависело от науки, то, скорее всего, потребовалось бы гораздо больше времени (если бы оно вообще потребовалось), чтобы считать животных достойными хоть какого-то подобия гуманного обращения. Сейчас мы не слишком задумываемся о том, что порой наделяем некоторых животных интеллектом и считаем их личностями. Мы также решили, что причинять им вред жестоко. Конечно, мораль, диктующая нам, что можно или нельзя делать с животными, все еще позволяет многое, и среди некоторых видов мы выделяем любимчиков. Но дело лишь в том, что сейчас существует этика гуманного обращения, которой прежде не было, и мы воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся.
На самом деле ученые, которые уверяли, что животные наделены сознанием, стали говорить об этом уже после того, как в нашу жизнь вошел интернет. В 1976 году зоолог по имени Дональд Гриффин опубликовал книгу «Вопрос о сознании животных», в которой утверждал, что к проблеме наличия сознания у животных следует относиться серьезно. В 1944 году он и его коллега открыли, что летучие мыши ориентируются с помощью эхолокации[47]. Проведя всю жизнь в наблюдении за этими существами, он убедился, что у них есть внутренний мир. По его словам, они способны при изменении внешних условий гибко реагировать на обстоятельства или менять свое поведение, что является отличительной чертой настоящего интеллекта. Он наблюдал, как летучие мыши разрабатывают хитроумные методы поиска пищи; они явно принимали решения на лету и проявляли многие из тех же способностей к решению проблем, что и люди. Мышление и разум животных должны изучаться на законных основаниях, утверждал Гриффин. В конце концов, несмотря на расцвет нейронауки, никто до сих пор не нашел ни одной уникальной для человека части мозга, которая наделяла бы его этим святым «сознанием». Не пора ли разделаться с этим призраком?
Гриффина много критиковали за грех антропоморфизма. Прошли годы, прежде чем все, о чем он говорил, стало восприниматься всерьез. Но его работы положили начало идее о наличии сознания у животных.
Чтобы понять, что разум – это нечто, что можно изучать, наблюдая за поведением людей, а не непосредственно за их мозгом, понадобилась революция в нейронауках 1960-х годов. В 1990-х и начале 2000-х годов амбициозные зоологи использовали эти методы на дельфинах, попугаях и собаках. Они обнаружили, что слоны могут узнавать себя в зеркале, вороны способны создавать инструменты, а кошки демонстрируют те же стили привязанности, что и дети[48].
Сегодня, спустя всего четыре десятилетия после того, как Гриффин привлек внимание к этой области, заявлять о том, что у животных есть сознание, изучать поведение отдельных особей и приписывать им индивидуальные черты больше не глупо. Более того, это приближается к мейнстриму. В 2012 году группа ученых собралась в Кембриджском университете, чтобы официально признать, что сознание есть у всех млекопитающих, птиц и «многих других существ, включая осьминогов»[49]. Нечеловеческие животные имели все физические маркеры сознательных состояний и явно действовали намеренно. «Следовательно, масса доказательств указывает на то, что люди не уникальны в обладании неврологическими субстратами, порождающими сознание», – заявили они.
Список оказался коротким: млекопитающие, птицы, осьминоги. Однако куда бы ни обратили свой взгляд исследователи, кажется, что во внутреннем мире всех животных скрыто гораздо больше, чем мы когда-либо думали. Кто идет после млекопитающих и птиц в нашем представлении о порядке видов? Может быть, рептилии или насекомые? Ящерицы сумели доказать, что научились ориентироваться в лабиринтах[50], и это говорит о поведенческой гибкости, часто используемом признаке интеллекта. Недавно было установлено, что медоносные пчелы способны различать художественные стили картин[51], а некоторые пчелы исполняют сложный, богатый символами «виляющий танец»[52], который сообщает их товарищам по улью, как далеко и под каким углом к солнцу нужно лететь, чтобы найти пищу. Новые исследования показывают, что у пчел может быть форма субъективности, которую некоторые используют для обозначения сознания[53]. Кто же дальше в этом ряду после насекомых? Как насчет растений?
Сейчас один лагерь ботаников утверждает, что настало время расширить наши представления об обладателях сознания и интеллекта, включив в этот список растения, в то время как другой настаивает, что идти по этому пути нелогично. Представители третьей группы не склоняются ни к той, ни к другой позиции, спокойно занимаются своей работой и ждут, чем закончится эта большая дискуссия. Я тоже в их лагере. Я также не знаю, на чью сторону склонится чаша весов, но я верю, что мы стоим на пороге нового понимания жизни растений. Наука порой кажется монолитом: утвержденная сегодня правда и завтра будет преподноситься как правда. Однако все может быстро измениться.
Однажды в библиотеке сельского района штата Вирджинии, где собраны редкие книги по ботанике, мне довелось прикоснуться к продуктам другого времени в понимании этой науки. Тексты по ботанике, написанные от руки на бумаге ручной работы, когда-то были основой для изготовления лекарств. В них рассказывалось о том, как лечиться припарками из растений, они давали читателям возможность впервые увидеть листву далекого континента. Очень часто тексты демонстрировали статус владельца: это были предметы роскоши, результат работы сотен часов с капризными пигментами на тонкой бумаге при свете ламп. Библиотека в Вирджинии принадлежала богатому филантропу, ныне покойному. Посетить ее можно было только по предварительной записи, и о ней мало кто знал за пределами мира редких книг. Здесь царила атмосфера умиротворения, словно ты оказывался в тайном саду: полки из светлого дерева тянулись до самого потолка, а на них стояли тысячи томов, датированных начиная с XV и заканчивая XIX веком. Тони, опытный библиотекарь, выступал в роли книжного сомелье, анализируя интересы и извлекая тома, которые, по его мнению, могли бы вам понравиться.
Изучать древние тексты по ботанике – истинное удовольствие: цвета, текстура старой бумаги ручной работы, невероятное внимание к мелочам, благодаря которым растения выглядят живыми, как пантера, готовая спрыгнуть со страницы. Но самое большое наслаждение я получила от старых книг, которые не были коммерческими проектами, а писались по велению души и сердца. Вот они-то не афишируют статус; иногда здесь представлены совершенно обычные для своего региона растения и некоторое количество причудливых завезенных видов. Рисунки даже могут показаться немного детскими: нарцисс выглядит неуклюжим, а у крокуса слишком толстая линия стебля, искажающая восприятие. Эти книги находились в личном собрании художника, который иногда в течение жизни дополнял коллекцию. Тони решил, что мне будет интересно взглянуть на одну из них. Он достал с полки толстый том в кожаном переплете. Это была личная хроника без слов. Шарль Жермен де Сент-Обен начал создавать книгу еще подростком, в 1721 году, рисуя по одной странице за раз, и дополнял ее до самой смерти в 1786 году. Стиль и техника совершенствуются на протяжении всей жизни, но мне показалось, что это не главное. Все изображения имели одно и то же эмоциональное качество – преданность растениям, острую потребность зафиксировать их на пике цветения и поместить в рамочки. Казалось, запечатлевать их формы с помощью живописи доставляло ему удовольствие; Сент-Обен рисовал «портреты» цветов и побегов, с которыми существовал бок о бок. Растения явно были не просто декорацией повседневности, они казались почти спутниками жизни.
Ботаника, изучение жизни растений, так же стара, как и человеческая мысль. Однако вопросы о жизни растений, о том, как они живут, возникли в литературе еще раньше. Тайны, которые хранят растения, всегда были особенно важны для выживания, поэтому информация об использовании их в качестве пищи и лекарства появляется в самых ранних образцах письменности, основанных, несомненно, на знаниях, передававшихся из уст в уста в течение тысячелетий.
До появления фармацевтических препаратов растения и грибы – самостоятельное царство жизни и частые соратники растений – являлись лекарствами от всех болезней.
Первые письменные сведения о самих растениях, а не об их пользе для человека, появились в труде Теофраста «О растениях» («Historia Plantarum») около 350 года до н. э. В нем растения классифицировались по категориям на основе строения, особенностей размножения и роста. Этот труд часто считают первой книгой по растениеводству. Но прошло более двух тысяч лет, прежде чем издания, посвященные поведению растений, окончательно вошли в западную литературу. К концу Викторианской эпохи сбор гербариев и изучение растений стали популярным занятием состоятельного высокоинтеллектуального класса, который, как и всегда, исходил из того, что растения – это неживые камни, которые почему-то выросли. Внимание этого сословия было сосредоточено почти исключительно на том, чтобы классифицировать и запечатлеть растения на бумаге.
Затем, в 1860-х годах, наука о растениях заинтересовала Чарльза Дарвина. К тому времени его имя стало уже известным. С момента публикации «Происхождения видов» прошло несколько лет, и путешествия по островам, экзотические животные и вулканическая геология казались более подходящими для юного исследователя. Повзрослев, он переключил внимание на вещи, лежащие прямо у ног: почти все его книги после «Происхождения видов» посвящены растениям. Поэтому имя Дарвина не раз встретится нам в этой книге.
В ходе десятков экспериментов, по результатам которых было написано несколько книг, Дарвин наблюдал, как растения с ловкостью акробата передвигаются, хотя и очень медленно («О движениях и повадках лазящих растений», 1865), как они иногда производят любопытные, неправильные версии себя («Изменение животных и растений в домашнем состоянии», 1868, и «Различные формы цветов у растений одного вида», 1877) и какие уловки используют плотоядные растения, чтобы приманить и съесть насекомых («Насекомоядные растения», 1875). Он рассматривал растения как объекты, обладающие активностью и целью.
Предпоследняя публикация «Силы движения растений» посвящена исследованию движения растений. В ней описывалось множество экспериментов с корнями, которые он проводил вместе с сыном Фрэнсисом. Вывод, к которому они пришли, оказался поразительным. Конец корня растения, писал Дарвин, покрыт неприметной кутикулой, которая, по всей видимости, является командным центром. Прищипните ее или оторвите, и корень будет отрастать от места повреждения. Обложите его влажной и сухой почвой с двух сторон, и он свернет в сторону влаги. Поместите его между камнем и мягкой глиной, и каждый раз он будет сворачивать от камня прежде, чем уткнется в него, и направится в другую сторону, прямо сквозь глину.
Влага, питательные вещества, препятствия, опасности – корневой чехлик ощущал их, сортировал и направлял соответствующим образом. Дарвин назвал его «корневым мозгом». Если маленький чехлик отрезать, корни продолжат расти, но вслепую – они станут двигаться в направлении, в котором росли на момент удаления корневого чехлика. Но вот чудо: удаленная часть через несколько дней начнет восстанавливаться, причем точно так же, как и раньше. Одна из самых сильных сторон растений заключается в том, что они могут регенерировать практически любую ампутированную часть, но, когда лист вырастает заново, он может быть другим. Корневой чехлик – единственная часть, которая отрастает в точности такой же, как и раньше.
«Мы считаем, что в растениях нет более замечательной структуры с точки зрения ее функций, чем кончик зародышевого корня, – с нескрываемым ликованием пишут Чарльз и Фрэнсис в последнем абзаце книги. Что бы они ни делали с корневым чехликом, он всегда восстанавливался в прежнем виде. – Вряд ли будет преувеличением сказать, что кончик радикулы, наделенный способностью направлять движения прилегающих частей, действует подобно мозгу одного из низших животных; мозг находится в передней части тела, получает сигналы от органов чувств и управляет несколькими движениями».
Мы склонны думать о науке как о неуклонном движении к истине. Если бы гипотеза о корневом мозге оказалась верной, можно было бы подумать, что этот радикально новый взгляд на растения закрепился бы и сразу же направил бы науку по пути рассмотрения растений как животных, способных управлять своей жизнью. Но самый большой недостаток и самое главное достоинство науки в том, что она почти всегда принимает совпадение за истину. А с Дарвином никто не соглашался. Ботаники, жившие с ним в одно время, резко его осудили. О гипотезе «корневого мозга» быстро забыли на следующие 125 лет, и по сей день мы не знаем, верна она или нет.
В книге «Структура научных революций» Томас Кун описывает историю науки не как картину линейного прогресса, когда новые открытия развиваются на основе старых, а как серию резких смен парадигм в отдельных областях, когда совокупность условий приводит к научному кризису и переходу от одной системы мышления к совершенно новой. Кризис – вот что важно. «Нормальная наука» – это способ заниматься наукой, который преобладает до кризиса. Она неизбежно враждебна ко всему, что существенно выходит за ее пределы. Давайте вспомним, как научное сообщество приняло Коперника и Галилея, утверждавших, что Земля вращается вокруг Солнца, или Дарвина, обосновавшего теорию эволюции в эпоху Божьего Промысла. Луи Пастер столкнулся с резким сопротивлением со стороны медицинского сообщества за поддержку теории о том, что болезни вызываются микробами. Список научных светил, которые подверглись остракизму, прежде чем их теории были приняты, очень длинный. «Цель нормальной науки ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений: явления, которые не вмещаются в эти границы, часто, в сущности, вообще упускаются из виду», – писал Кун.
Парадигма не может задавать вопросы о том, чего, по ее мнению, вообще не существует. Сопротивление ученых научным открытиям – известный факт[54]; оно служит защитой от шарлатанства. Но оно также часто упускает или затормаживает реальные открытия. Признание чего-либо значительной аномалией, требующей объяснения, как выразился Ян Хакинг в предисловии к книге Куна, – это «сложное историческое событие». И даже этого недостаточно, чтобы вызвать научную революцию. Должна существовать другая парадигма, которую нужно принять, прежде чем произойдет отказ от первой. «Отвергнуть одну парадигму, не заменив ее одновременно другой, значит отвергнуть саму науку», – пишет Кун.
Принятие идеи о растениях как о разумных существах, даже в некотором роде сознательных, несомненно, будет означать смену парадигмы. Однако, ошибившись, мы рискуем отвергнуть саму науку, сделав прыжок в пустоту. Сначала должны накопиться доказательства, а затем появится и повсеместное одобрение. Нынешняя ситуация в ботанике – это пример научной революции, которая еще не получила своего заключения. Ее заключение даже не гарантировано[55]. Научное сообщество находится в процессе реорганизации; основная парадигма ботаники – в состоянии перехода. У нас есть шанс увидеть, как создается научное знание.
Что происходит после смены парадигмы? Кун говорит, что все возвращаются к нормальной жизни. Становится трудно поверить, что когда-то существовала какая-то другая идея. То, что началось с нескольких брошенных камней, спровоцировало обвал, и ничего не остается, как присоединиться к потоку. На самом деле есть только поток. Большинство тех, кто поначалу сомневался, принимают новую парадигму так, словно она всегда была очевидной, естественной, предопределенной. Интересно, произойдет ли это с представлениями о растениях? Возможно ли, что мы через сорок лет оглянемся назад и осознаем, что наши прежние представления о растениях были столь же абсурдными и ложными, как сейчас мы понимаем, насколько ужасным было отношение к вивисекции?
В конечном итоге, говорит Кун, останется лишь несколько престарелых приверженцев старых идей, «и даже о них мы не можем сказать, что они ошибались». В конце концов, они были правы в той фазе научной истории, за которую до сих пор держатся. Но теперь мир изменился. «В крайнем случае можно сказать, что человек, который продолжает сопротивляться после того, как вся его профессия трансформировалась, ipso facto перестал быть ученым». Он не участвует, не идет в ногу со временем, остался позади.
В 2006 году группа ученых-ботаников попыталась намеренно спровоцировать небольшой, но заметный обвал в надежде, что он изменит парадигму. В своей противоречивой статье они обвинили ученых в том[56], что те вольно или невольно, напуганные долгим затишьем после выхода книги «Тайная жизнь растений», занимаются «самоцензурой». Это клеймо мешало задавать вопросы о возможных параллелях между нейробиологией и фитобиологией и «поддерживало невежество» в отношении великих ученых – в частности, дарвиновской гипотезы о корневом мозге, к которой они хотели бы вернуться[57]. Новая группа, состоящая в основном из ученых с большим стажем работы, призвала развивать идеи о растениях как о разумных существах, в том смысле, что они могут обрабатывать множество форм информации, чтобы принимать взвешенные решения. Каждый из ученых имел опыт наблюдения за тем, как растения делают это, и, похоже, они устали от лингвистических попыток обойти то, что происходило на самом деле: растения действовали разумно. Они назвали себя Обществом нейробиологии растений. В число основателей вошли Франтишек Балушка, клеточный биолог из Боннского университета, Элизабет Ван Волкенбург, биолог растений из Вашингтонского университета, Эрик Д. Бреннер, молекулярный биолог из Нью-Йоркского ботанического сада, и Стефано Манкузо, физиолог растений из Флорентийского университета. По их словам, наше представление о растениях все еще остается настолько поверхностным, что его можно назвать рудиментарным. «Необходимы новые концепции[58], и нужно ставить новые вопросы». Обращение к нейронаукам было смелым шагом, и многие ботаники, с которыми я общалась через десять лет после этого, по-прежнему считают его слишком смелым. Но они пытались доказать свою правоту. Конечно, у растений нет нейронов или мозга. Но исследования указывали на то, что у них могут быть аналогичные структуры или, по крайней мере, физиология, способная выполнять похожие задачи, а также когнитивные способности, которые заслуживают серьезного отношения.
Растения вырабатывают электрические импульсы и, похоже, имеют узлы на кончиках корней, которые служат местными командными центрами.
Глутамат и глицин, два самых распространенных нейротрансмиттера в мозгу животных, присутствуют и в растениях и, похоже, играют решающую роль в передаче информации по стеблям и листьям. Было обнаружено, что они способны формировать, хранить и использовать воспоминания, ощущать невероятно тонкие изменения в окружающей среде и в ответ на них выделять в воздух сложнейшие химические вещества. Для координации защитных действий они посылают различным частям тела сигналы. Нейробиология растений «направлена на изучение растений во всей их сенсорной и коммуникативной сложности», – писали они.
Да и что такое мозг, если не сгусток специализированных возбудимых клеток, по которым пробегают электрические импульсы? «Нейробиология растений» – это, конечно, не буквальный термин, но, по словам ее сторонников, он не является и натяжкой. Новые термины для функционально схожих вещей нам не нужны – достаточно добавить новое слово. Растительный мозг, растительные синапсы, растительное мышление. «Смотрите, – говорили ученые. – Дарвин делал это сто лет назад».
После эпохи философов-натуралистов Гумбольдта и Дарвина, наука стала делиться на специализации. Несмотря на относительно недавние отсылки к междисциплинарным академическим исследованиям, мы все еще живем в эпоху специалистов, каждый из которых видит только свою узкую область в рамках более широкой проблемы того, как устроена жизнь. Это привело к огромному скачку в получении знаний: специализация приносит глубину. Однако по большей части каждый специалист остается в неведении относительно общей картины. Возможно, когда речь идет о растениях, это формула невежества; растение – многоплановый организм, находящийся в постоянном биологическом общении с окружением, бактериями, грибами, насекомыми, минералами, а также другими растениями, составляющими его мир.
Неудивительно, что именно зоологи и энтомологи сделали ряд самых революционных открытий о растениях, зачастую рассматривая их через призму жизни животных и насекомых.
Это не значит, что ботаники не заслуживают уважения, но в эпоху господства генетики многие перестали воспринимать растение как пульсирующее целое, а вместо этого видят в нем сплав генетических переключателей и белковых ворот. Конечно, в таких терминах можно рассматривать и человека. Но что упускается при таком взгляде?
Общество нейробиологии растений в конце концов отказалось от провокационного названия и стало Обществом сигналов и поведения растений. Однако даже слово «поведение» все еще вызывало у некоторых ботаников раздражение. Ящик Пандоры уже оказался открытым. Далее последовали опровержения. Очень язвительные.
Академики, вооружившиеся суперзнаниями, могут источать злобу, когда с ними не соглашаются. На страницах журнала Trends in Plant Science (TiPS) я вычитала, как скептически настроенные исследователи распрыскивали тонко замаскированный академический яд. Один из исследователей назвал весь этот инцидент «много шума вокруг TiPS» и рассказал о письмах коллег, которые так и не были опубликованы или в которых их враждебность удалось смягчить перед публикацией. Но один раздел письма, написанного представителями лагеря противников растительного интеллекта, показался мне особенно красноречивым. «Хотя Дарвин во многом был прав, его аналогия с мозгом просто не выдерживает критики, – пишет автор учебника „Физиология растений“ Линкольн Тайс в письме[59], составленном им в соавторстве с несколькими коллегами. – Если кончик корня является подобным мозгу командным центром, то и кончик побега, колеоптиля, листа, стебля и плода тоже. Поскольку регуляторные взаимодействия происходят во всем растении, мы могли бы рассматривать его целиком как командный центр, подобный мозгу, но тогда метафора мозга потеряла бы всю эвристическую ценность, которую она изначально должна была иметь».
Комментарий должен был звучать пренебрежительно. Но в моем представлении он свидетельствует о недостатке воображения. Пожалуй, весь завод можно рассматривать как командный центр, похожий на мозг. Что тогда? Я подумала об осьминоге с его щупальцами, похожими на мозг, с нейронами, распределенными по всему телу. Мы только начинаем понимать, как выглядит мир с их точки зрения. Несомненно, он выглядит совершенно иначе, чем для нас. Также нет сомнений в том, что распределенные нейронные субстраты являются частью того, что дает им способность к такому разумному поведению, а также то отличие сознания, которое мы так недавно соизволили им приписать. Такой взгляд на растения позволил бы упоминать их в дискуссиях о различных формах распределенного интеллекта, как идею о том, что децентрализованные сети, созданные грибами и слизевиками, могут быть разумными и, возможно, даже более гибкими в способности реагировать на новые вызовы именно благодаря своей диффузной природе.
Даже человеческий мозг, являющийся объединенным центром обработки информации для тела, не так четко централизован внутри. Нейробиологи, заглядывая внутрь мозга, обнаруживают там распределенную сеть. Никакого заметного командного пункта не существует. Наш интеллект, похоже, возникает из сети специализированных клеток мозга, обменивающихся информацией, но они не подчиняются какой-то одной управляющей силе. Разумные решения, которые мы принимаем, исходят не из одного конкретного места, а из своего рода сети, похожей на город, все части и районы которого взаимосвязаны в нашем черепе[60]. Как однажды выразился журналист Майкл Поллан, за занавесом может не оказаться волшебника[61].
Новые идеи в науке порождают новые методы и теории. Без революций наука деградирует, важно об этом помнить. Кун говорил, что смена научной парадигмы способна изменить взгляд человека на мир, в котором мы живем. «Конечно, сам мир остается неизменным», – писал Кун. Растения будут оставаться растениями, что бы мы ни решили о них думать. Но то, как мы решаем думать о них, может изменить для нас все.
Глава 3
Общаются ли растения?
Я просыпалась на рассвете, потому что некоторое время назад обратила внимание, что именно в это время мир наиболее активен. Как я раньше этого не замечала? На рассвете все вокруг сверкающее, оживленное. День в самом зените по сравнению с этими моментами казался мертвым периодом. Птицы в солончаке под домом истошно кричали, словно глотнули крепкого кофе. Мне до такого состояния было еще далеко, по крайней мере в тот момент, но мне нравились эти минуты утренней полудремы, пока разум не переключался на более прозаические дела. Я находилась в писательской резиденции на Пойнт-Рейес в Калифорнии, где продолжала размышлять и писать о растениях. Мне хотелось понять, какие вопросы задавать, по какому руслу направить свое любопытство. Наша небольшая группа жила прямо на краю разлома Сан-Андреас, одной большой тектонической плиты, обращенной через солончак на другую. Двор был засажен растениями из семейства шалфейных, на мой взгляд, правящими монархами царства душистых растений, источающими аромат камфары и пряного масла. Здесь были огромные экземпляры пустынного пурпурного, серебристо-голубого шалфея и маргаритки из Медного каньона с тысячью золотых цветков. Густые кусты глянцевого розмарина были усыпаны нежно-голубыми цветами, которые на ночь закрывали свои похожие на крылышки лепестки.
Я вышла на крыльцо. Бородатый лишайник, прилепившийся к белой березе, выглядел так, словно нарочно пробирался вверх по молодому дереву, облепляя ствол, как гетра. По нижним ветвям он тоже продвигался клоками. В какой-то момент мне почудилось, что он хитроумно застыл на месте как раз когда я на него взглянула. Время для лишайника течет медленнее, чем для человека, поэтому я предположила, что он, как и все его собратья, находится в движении, но замер, когда его заметили. Я, как олень, принюхивалась к воздуху, кралась по заросшей кустарником лужайке, словно любое резкое движение могло рассеять завесу аромата. Но этого не произошло: конечно, эти запахи были предназначены не для меня. Накануне вечером я прочитала о новых теориях, посвященных языку растений, которые, несомненно, повлияли на мой разум в рассветные часы. Ученые утверждали, что с помощью языка запахов можно передавать сообщения по воздуху. Я начала понимать, что вокруг меня разыгрывается многоплановая драма, в которой больше персонажей и сюжетных линий, чем в русском эпосе. Некоторые из этих запахов я могла учуять, но было и много других, различить которые моему носу не хватило чувствительности.
Для начала я решила выяснить, общаются ли растения. И если да, что это меняет? Общение подразумевает осознание себя и того, что лежит за его пределами, – существования других «я». Общение – это протягивание нитей между людьми. Это способ сделать одну жизнь полезной для других, сделать себя важным для других «я». Оно объединяет отдельных индивидуумов в сообщество. Если и правда все в лесу или поле находится в состоянии общения, это меняет их природу и представление о том, что такое растение. Что такое растение без средств коммуникации? Оболочка. Лес без общения не лес.
Накануне вечером я читала статью, которая раз и навсегда изменила ботанику[62]. К тому времени она уже была почти забыта и, похоже, исчезла в цифровом формате; Ричарду (Рику) Карбану, специалисту по растениям и насекомым из Университета Калифорнии в Дэвисе, пришлось прислать мне ее фотокопию. Я узнала, что из-за нее вспыхнули споры, которые положили конец карьере по крайней мере одного ученого и поставили вопрос о коммуникации растений перед будущими ботаниками. Но учитывая последствия, которые статья вызвала, ее тон показался мне довольно безобидным. Язык предельно сдержанный. Почему нет? Статья балансировала на острие ножа; выводы оказались настолько новаторскими, что их было легче отвергнуть, чем принять. В то время, когда она была написана, отвержение считалось обычным делом. Ситуация в биологии растений оставалась напряженной. Дэвид Роудс должен был действовать осторожно.
Шел 1983 год, и последствия книги «Тайная жизнь растений» все еще ощущались. Дэвид Роудс – для многих Дейви – работал зоологом и химиком в Вашингтонском университете и в основном изучал насекомых. Грузный общительный англичанин, заядлый курильщик, который в разговоре активно жестикулировал. Его густые усы свисали у уголков рта, он имел привычку зажмуриваться, когда смеялся. Он относился к результатам своего труда со звериной серьезностью и любил ставить эксперименты, на которые почти не тратился, придумывая приманки для насекомых из того, что можно найти в продуктовом магазине. Его статья изменит все и по жестокому стечению обстоятельств положит конец его карьере. Ведь тогда ему никто не верил.
Статья, опубликованная в журнале «Устойчивость растений к насекомым», относительно малоизвестном (можно ли в это поверить?) издании Американского химического общества, завернула свое провокационное предложение в войлочные оболочки наукообразной речи. На протяжении двенадцати страниц Роудс добросовестно фиксировал данные о весе гусениц в куколках и потере листьев на деревьях. Несколько лет он наблюдал, как университетский экспериментальный лес опустошался в связи с нашествием гусениц-коконопрядов. Но вдруг что-то изменилось – гусеницы стали умирать. Почему, задается он вопросом, прожорливые гусеницы вдруг перестали питаться, оставляя листья деревьев нетронутыми? Почему они внезапно вымерли?
Ответ, как выяснил Роудс, оказался невероятным, удивительным и парадоксальным: деревья общались друг с другом. Деревья, до которых гусеницы еще не добрались, были подготовлены: они превратили листья в оружие. Гусеницы, которые их ели, заболевали и умирали.
То, что между деревьями существует связь через корни, было установлено раньше, но здесь дело обстояло иначе. Чтобы передавать информацию таким образом, деревья находились слишком далеко друг от друга. Но сообщение о приближении гусениц все равно дошло. Роудс не смог скрыть волнения по поводу того, что это все значило. Когда все возможности для простого описания были исчерпаны и ничего не оставалось делать, как высказаться, Роудс не удержался и выпустил джина из бутылки, используя самый эмоциональный знак препинания: «Это позволяет предположить, что результаты могут быть обусловлены феромонами, передающимися по воздуху!»[63] По его словам, деревья подавали друг другу сигналы на больших расстояниях по воздуху.
Общение – это еще один из многих основных жизненных процессов, не имеющих общепринятого научного определения. Для большинства из нас общение – это нечто, что мы передаем другому существу, то, что ему необходимо знать. Это предполагает сложную форму преднамеренности, продуманности и осознания причинно-следственных связей. Возможно, это и так, но общение – в зависимости от того, как вы его определяете, – началось еще до появления более сложных форм жизни, с возникновением первого многоклеточного организма, по меньшей мере шестьсот миллионов лет назад.
Чтобы жизнь открыла возможность многоклеточности, отдельные клетки должны были координировать действия между собой. До этого момента все живое было одноклеточным.
Эти автономные маленькие «я» дрейфовали в древнем море, самостоятельно прокладывая свой путь. Для возникновения более сложных форм отдельные клетки должны были обмениваться информацией друг с другом.
И по сей день, чтобы объединиться в организм, каждая клетка в нем должна знать, кто она и что делает. Одни клетки понимают себя через другие; например, в цепочке из трех экземпляров третья клетка знает, что она именно третья – и, следовательно, наделена особой задачей, стоящей перед третьими клетками, – потому что ей известно о присутствии первой и второй. Такова природа самоорганизующейся системы, целостного организма. Но откуда эта клетка знает, что она именно третья, остается загадкой. Мы знаем, что информацию должны ей передать клетки-коллеги[64]. Эта коммуникация, какой бы она ни была, начинается с первого клеточного деления, когда одна клетка превращается в две, а затем в четыре – такова стратегия, которую использует каждый многоклеточный организм для роста. Может быть, способ передачи информации электрический? Химический? Какая-то другая форма? Неизвестно. Природа коммуникации также остается главным вопросом в эмбриологии млекопитающих: нам хотелось бы знать, как сперматозоид и яйцеклетка самоорганизуются, чтобы создать нас[65].
Клетки растений тоже так делают. В самом смелом понимании этого термина они «разговаривают» друг с другом. Таким образом, каждая клетка понимает, для чего она предназначена или, говоря иначе, кто она[66]. Барбара Мак-Клинток, нобелевский лауреат по генетике, обнаружившая, что гены могут менять свое положение в кукурузе, назвала это клеточное осознание «знанием, которое клетка имеет о себе».
Когда клетки разговаривают, происходят великие вещи. Вся жизнь растений протекает на основе этих основополагающих взаимодействий. В 2017 году исследователи из Бирмингемского университета выявили наличие внутри спящих семян «центра принятия решений»[67], который интегрирует информацию и определяет, когда растение должно появиться на свет. Он состоит из кластера клеток, расположенных на кончике эмбрионального корня семени. Клетки сообщают друг другу о содержании в семени двух гормонов: одного, способствующего замиранию, и другого, отвечающего за прорастание. Клетки интегрируют информацию об изменении температуры почвы вокруг них, чтобы регулировать каждый гормон. Таким образом кластер клеток определяет, когда нужно щелкнуть выключателем и выйти в мир. Время принятия решения о появлении имеет очень важное значение.
Для более точного решения можно опираться на совокупный ответ множества клеток; принимая решение на основе двух противоположных переменных – относительного количества двух гормонов, оба из которых чувствительны к изменениям температуры, – растение имеет больше шансов сделать правильный выбор в непостоянном мире. Исследователи отметили, что это метод межклеточной коммуникации аналогичен некоторым структурам в мозгу человека. Наш мозг также передает гормоны-антагонисты между клетками, чтобы улучшить процесс принятия решений, когда мир постоянно находится в состоянии изменения. Вместо того чтобы принимать решение о движении мышцы на основе единственного сигнала, мозг делает это, накапливая гормональную информацию от отдельных клеток и отсеивая при этом нерелевантную информацию. По сути, это и есть коммуникация клеток.
Благодаря тому что клетки могут общаться, растения представляют собой самоорганизующиеся системы. Но то, что растения могут намеренно общаться друг с другом, что коммуникация может распространяться не только на одно растение, но и на другие, это относительно новая и все еще спорная концепция в ботанике. Одна ключевая проблема ведет к спорам: нет согласованного определения[68], что считается коммуникацией, даже у животных. Должен ли сигнал посылаться целенаправленно? Должен ли он вызывать ответную реакцию у получателя? Так же, как устоявшегося определения нет для сознания и интеллекта, коммуникация лавирует между философией и наукой, не находя надежной опоры ни в одной из них. Чтобы внести ясность, буду определять коммуникацию как процесс, когда сигнал послан, принят и вызывает ответную реакцию. Заметьте, я не сказала, когда сигнал послан намеренно. Намерение определить сложнее, отчасти потому, что мы не знаем, каково это – быть растением. Намерение представляет собой самую сложную проблему, потому что его нельзя обнаружить напрямую. Мы можем лишь строить знания вокруг проблемы намерения, сужая их окружность и надеясь, что таким образом его форма начнет приобретать понятные нам очертания.
Однако поначалу на научной карте отсутствовала сама идея о том, что растения могут передавать друг другу какую-либо информацию. Все, что знал Роудс, – что мор начался, а затем прекратился. К тому моменту в 1977 году экспериментальный лес Вашингтонского университета уже третью весну подряд подвергался продолжительному и страшному нападению гусениц-коконопрядов. Красная ольха и ситхинская ива, которые обычно могли выдержать несколько месяцев нашествия этих паутинных листоедов, гибли сотнями. Гусеницы почти полностью уничтожали их, то есть насылали на них голод: дерево, лишенное листьев и возможности фотосинтеза в вегетационный период, не может производить сахар и фактически умирает от голода.
Но следующей весной, в 1978 году, баланс сил, казалось, изменился. Теперь уже погибали гусеницы-коконопряды. Их популяции вымирали. На оставшихся листьях деревьев почти не появлялось яиц, тогда как предыдущей весной их находили повсюду. А из тех, что все же были отложены, новые гусеницы не вылуплялись. К весне 1979 года гусеницы исчезли совсем. Деревья перестали умирать, листья оставались целыми и здоровыми. Та к удача повернулась к каждому из участников другой стороной.
Как известно каждому экологу, ничто не меняется в экосистеме просто так, что-то послужило причиной этих изменений. Роудс, имевший докторскую степень по органической химии и зоологии, начал искать объяснение. В течение многих лет он продвигал провокационную идею, не получая особой поддержки со стороны коллег[69]: Роудс считал, что растения, подвергаясь определенным угрозам, могут развивать устойчивость к ним, подобно тому, как иммунная система животных вырабатывает антитела к болезни, с которой организм уже сталкивался. Ученый заметил, что часто насекомые начинают есть растение, а потом прекращают, несмотря на то что остается много хороших листьев. Опять же, в природе ничего не происходит без причины, что-то заставило насекомых остановиться.
Может быть, растение фиксирует вторжение и создает своего рода иммунный ответ? Это объяснило бы задержку: растения функционируют медленнее, чем насекомые, поэтому логично, что и реагировать они будут медленнее. Лабораторные тесты Роудса это подтвердили. Он заметил, что, если листья некоторое время страдали от повреждений, их химический состав менялся: дерево делало их менее питательными. Однако в свете научных представлений о том, как функционируют растения, идея, что они могут активно защищать себя, казалась полной ерундой. По мнению ученых, растения не могут проявлять такую активность или реагировать настолько впечатляюще продуманно. Сторонников у гипотезы Роудса нашлось не много.
Но нашествие гусениц-коконопрядов на территорию университета стало идеальным сценарием для изучения теории в реальном мире. Осажденные деревья в конце концов изменили состав листьев, что привело к гибели гусениц, которые, по сути, умерли от голода и диареи. Роудс был доволен, теория подтвердилась. Но он заметил и другое: листья даже находящихся на отдалении деревьев, до которых гусеницы еще не добрались, тоже изменили состав. Они были готовы к нападению: каким-то образом предупреждение распространилось на большое расстояние. Ученый знал, что растения способны к химическому синтезу и некоторые химические вещества растений распространяются по воздуху. Уже было известно, что созревающие фрукты, например, выделяют в воздух этилен, который способствует созреванию соседних экземпляров. Плодоовощная промышленность использовала это свойство, чтобы бананы на переполненных складах дозревали как раз к моменту продажи, что делало глобальную торговлю скоропортящимися фруктами успешной. Можно предположить, что растительные химические вещества, содержащие и другую информацию – например, что лес находится под угрозой, – тоже могут распространяться по воздуху.
Роудс представил свою гипотезу на конференциях. История о говорящих деревьях быстро разлетелась, ботаники перешептывались и разносили ее как дендрологическую сплетню. Неужели это правда? Но никто из коллег не захотел рисковать и публиковать нечто столь необычное. В итоге открытие оказалось похороненным в малоизвестном издании. Следующие несколько лет Роудс занимался обычными академическими обязанностями: преподавал и читал лекции как приглашенный педагог, в то же время подвергаясь нападкам со стороны коллег в журналах и на конференциях. Он все больше склонялся к роли наставника, находя в студентах и молодых профессорах гораздо больше готовности воспринимать новое, возможно, потому что их еще не ослепил научный консерватизм.
Роудс начал переписываться с Риком Карбаном, новоиспеченным профессором энтомологии, заинтересовавшимся идеей «индуцированной резистентности» – явлением, при котором растение после нападения насекомых изменяет химический состав и становится менее пригодным для дальнейшего поедания. Карбан подумал, что привычное представление, что растения зависят от капризов окружающей среды, может оказаться ошибочным. Он изучал цикад, которые откладывают яйца на деревьях. Когда личинки вылупляются, то падают на землю, зарываются в корни дерева и остаются там на семнадцать лет, высасывая сок. Дереву очень неприятно, что питательные вещества вытекают из нижних частей, не доходя до верхних. Будучи молодым ученым, Карбан прочитал новаторскую работу исследовательницы цикад Джоанн Уайт[70], которая обнаружила, что некоторые деревья способны отыскать на ветке место, где находятся яйца цикад, и выращивать вокруг них каллюс, стискивая яйцо, пока оно не погибнет, не давая вылупиться личинке.
Карбан, как и Роудс, считал, что растения не могут бездействовать. Он пригласил Роудса выступить перед аспирантами. После этого они оставались на связи; Роудс читал рукописи Карбана и оставлял рецензии на его заявки по грантам. Но жизнь Роудса рушилась. Осуждающие голоса все еще звучали, а повторить исследование ему никак не удавалось. На попытки ушло два года – иногда получалось, иногда нет. Роудс подавал заявки на гранты, но постоянно получал отказы и поэтому перестал это делать, что для исследователя равносильно отказу от еды. В конце концов он ушел из мира научных открытий, устроился преподавателем органической химии в муниципальный колледж и открыл мотель на тихоокеанском побережье. В 1990-х годах у него диагностировали последнюю стадию рака, и в 2002 году он умер. Со своей работой он оказался в нужном месте, но в неподходящее время.
Но наряду с этим, по крайней мере для других специалистов, ситуация постепенно менялась. Через полгода после того как Роудс обнародовал свою работу, Ян Болдуин и Джек Шульц, тогда еще молодые исследователи из Дартмутского колледжа, опубликовали очень похожий результат. Не всегда понятно, почему в научной истории судьба благоволит одним и отворачивается от других. В данном случае, скорее всего, совпали удача и дизайн исследования. Свою работу Болдуин и Шульц проводили в безопасных лабораториях. Условия для занятий наукой на открытом воздухе не всегда идеальные, а в лабораториях всегда чистота, контроль и конкретика. Болдуин и Шульц поместили пару саженцев сахарного клена в стерильную камеру[71]. Саженцы находились в одном пространстве, но не соприкасались. Затем исследователи сорвали листья с одного и измерили реакцию другого. Через тридцать шесть часов нетронутый саженец клена напитал свои листья танином. Другими словами, несмотря на отсутствие повреждений, невредимый клен принялся за работу, чтобы сделать себя крайне невкусным.
Болдуин и Шульц отметили[72], что они не первые обратили внимание на это явление, признав заслугу Роудса. Ученые пошли еще дальше и использовали в своей работе слово «коммуникация» (Роудс никогда не употреблял слово на букву «к», предпочитая ходить вокруг да около). Пресса по понятным причинам ухватилась за эту формулировку, статьи в национальных газетах пестрели заголовками о «говорящих деревьях». Коллеги, в общем-то, порицали их за использование терминов, обычно применяемых к человеку, для растений, но нельзя не отметить, что их карьера, в отличие от карьеры Роудса, пошла вверх. Сегодня Болдуин – один из самых успешных и продуктивных специалистов, занимающихся изучением поведения растений. У него большая команда аспирантов и постдоков, которые выясняют, как табачные растения общаются, защищаются и выбирают экземпляры для интимных отношений. Джек Шульц, на протяжении десятилетий вносивший большой вклад в изучение коммуникации между растениями и насекомыми, прославился еще и тем, что утверждал, будто запах скошенной травы – это химический эквивалент крика растения. Оба ученых отмечают, что вдохновил их именно Роудс.
Спустя годы после смерти Роудса Джек Шульц высказал мнение, почему Роудсу так и не удалось повторить эксперимент с деревьями[73]: сегодня известно, что наряду с множеством других резких изменений, которые происходят с деревьями в зависимости от сезона, химические вещества, выделяемые ими в воздух, также связаны с временем года. Роудс проводил первое исследование весной, а повторить его пытался осенью. Неудивительно, что результат изменился. Деревья находились в другой фазе годового цикла. Он не заблуждался, просто существовало больше переменных, скрытых от его глаз.
Роудс напомнил мне Грегора Менделя, монаха-августинца и отца генетики, который пытался перенести эксперименты по скрещиванию гороха на ястребинку[74]. Казалось, ничего не получилось; он умер разочарованным и побежденным, считая, что работа всей его жизни не поддается воспроизведению и поэтому бессмысленна. Конечно, все было совсем не так. Он не знал, что у ястребинки есть странная особенность: она может производить семена в произвольном порядке без опыления. Другими словами, она периодически клонирует себя, вместо того чтобы размножаться половым путем, что заводит в тупик весь процесс изучения генетического скрещивания.
Природа – это не ровная поверхность, здесь есть множество граней и преломлений, пока недоступных человеческому пониманию. Мир – это прозрачная призма, а не плоское окно. Куда ни посмотри, обнаруживаются новые преломления.
Примерно в то же время, когда Роудс, Болдуин и Шульц защищали свои работы, один южноафриканский биолог, исследователь дикой природы, пришел к невероятным выводам. Это исследование нельзя назвать строго научным, его никто не рецензировал, но я слышала о нем много раз – в том числе от самого южноафриканского профессора, – так что есть ощущение, что о нем стоит рассказать со всеми надлежащими оговорками. Не судите строго, это не более чем просто история.
В 1985 году Ваутер ван Ховен работал в кабинете на кафедре зоологии в Университете Претории, когда ему поступил необычный звонок от смотрителя дикой природы. Он сообщил, что за последний месяц на нескольких ранчо в соседней провинции Трансвааль погибло более тысячи куду – величественных антилоп с изящными полосками и длинными закрученными рогами. То же самое произошло и предыдущей зимой. В общей сложности умерло около трех тысяч животных. Казалось, с куду было все в порядке: не выявили ни открытых ран, ни болезней, хотя некоторые выглядели немного исхудавшими. Смотритель спрашивал, может ли ученый приехать как можно скорее. Владельцы ранчо хватались за голову, не зная, что делать. Ван Ховен был зоологом, специализировавшимся на питании африканских копытных. Надо разобраться с этой загадкой, подумал он, и ответил смотрителю, что сейчас же приедет.
Когда ученый добрался до первого ранчо, повсюду лежали мертвые куду, словно здесь произошло побоище. Но первое, что он заметил, если не считать зловония, – особей было слишком много для ранчо такого размера. Как правило, на 100 гектаров должно приходиться не более трех куду, а на этом ранчо их оказалось около пятнадцати. Та же картина открылась и на нескольких других ранчо, где побывал Ван Ховен. Охота на диких животных набирала популярность, и, чтобы получить прибыль, владельцы расширяли границы своих угодий.
Ученый произвел вскрытие нескольких куду и увидел, что их желудки набиты непереваренными измельченными листьями акации. В то время как жирафы, бродившие по саванне и обгладывавшие деревья акации, умирать явно не собирались.
Через несколько недель картина начала проясняться: когда акацию употребляют в пищу, в ее листьях увеличивается содержание горького танина. Ван Ховен об этом уже знал. Таков мягкий защитный механизм дерева. Сначала танин повышается совсем чуть-чуть.
Это не опасно, но на вкус неприятно. Обычно этого достаточно, чтобы отпугнуть куду. Но обе последние зимы были чрезвычайно засушливыми, погибла вся трава. Слишком многим куду, запертым за изгородями, больше нечего было есть и некуда идти. Ван Ховен решил, что животным ничего не оставалось, как продолжать есть листья акации, несмотря на горький вкус. Он вытащил из кишок куду несколько комков пережеванных листьев и отнес в лабораторию.
Ученый знал, что безопасный уровень содержания танина для куду около 4 %. Превышение показателя грозит неприятностями. По его мнению, акация постоянно повышала уровень танина в листьях. Куду продолжали их есть. И тут, очевидно, акация выдала смертельную дозу. Непереваренные листья из желудков куду, которые Ван Ховен исследовал, содержали 12 % танина.
«Природа решила: нужно сократить популяцию этих животных, – говорит он. – И затем она это сделала». Ван Ховен вспомнил, что несколькими годами ранее читал, скорее всего, в работе Роудса или Болдуина и Шульца, о химической сигнализации между деревьями. Тогда он сломал несколько веток акации и взял пробы воздуха. Конечно, поврежденные деревья выделяли широкий шлейф этилена, достаточный для того, чтобы он добрался до соседнего дерева. Окружающие деревья получили сигнал и изменили свое поведение, решил он. Произошло скоординированное отравление.
Он вернулся к жирафам. Как им удалось выжить при поедании листьев акации? «Они едят и едят – и вдруг прекращают есть и уходят, даже если листьев много». С точки зрения экономии энергии это бессмысленно. Но вскоре стало ясно, что они едят листья только с одного из десяти деревьев, и никогда не выбирают ветки с подветренной стороны. Ученый догадался, что жирафы научились обгладывать только те деревья, которые не получили предупреждения о выбросе танина.
Рику Карбану не нравится ни эта история, ни то, как ее пересказывают. Он посвятил карьеру борьбе за публикацию нетрадиционных работ, но не утратил веры в то, что сложный процесс рецензирования является важнейшим средством защиты от ложных путей. Без этого наука утратит всякий авторитет. Совет коллег нужен любому ученому, чтобы не допустить ошибки, обусловленной человеческим фактором. А история с куду такой проверки не прошла. Другие ботаники, придерживающиеся самых разных взглядов, очень уважают Карбана, даже если не допускают мысль о том, что растения делают что-то с умыслом. Но, говоря о Карбане, они используют такие характеристики, как «бескомпромиссный», и советуют мне поехать и посмотреть, как он работает.
Карбан – высокий подтянутый мужчина, у него идеально ровная осанка и взъерошенные белокурые волосы. Я застаю его в кабинете на третьем этаже здания биологического факультета Калифорнийского университета в Дэвисе, на ногах у него ярко-оранжевые теннисные туфли, а вместо стула он использует мяч для йоги. Сейчас 12 часов дня, и часы c птицами на стене за его спиной пронзительно щебечут. «Они старые, с птицами что-то не то», – объясняет он, почему зяблик кричит голосом голубой сойки.
Кабинет Карбана прямоугольный, скромных размеров, он отделен от большой энтомологической лаборатории с открытой планировкой, где на скамейке стоят контейнеры с крошечными мертвыми бабочками, а к стене прислонены два сачка на длинных ручках для ловли насекомых, каждый из которых выше моего роста. Я спрашиваю его, что ботаник делает в лаборатории жуков. Он пожимает плечами. «Я начинал с цикад», – напоминает он мне, и большая часть его работы все еще связана с территориями, на которых встречаются растения и насекомые. Последние двадцать лет его полевой участок располагается на склоне горы курорта Маммот-Лейкс в штате Калифорния, это великолепный лунный пейзаж субальпийского леса и полынной пустыни высоко в горах. Мы отправляемся туда.
Экологический полигон Валентайн в Маммот-Лейкс, принадлежащий Калифорнийскому университету в Санта-Барбаре, – это заповедник площадью 156 акров[75], расположенный в кратере древнего вулкана на высоте восьми тысяч футов[76] над уровнем моря. Здесь нет забора, преграждающего путь туристам, установлен лишь знак, предупреждающий о том, что посещение территории запрещено. Большинство, впрочем, даже не поняли бы, чем здесь можно полюбоваться: вход в заповедник – это участок неухоженного соснового леса без тропинок, совершенно непривлекательный по сравнению с горнолыжной зоной, расположенной практически по соседству.
Но сразу за живой изгородью открывается возвышенность, которую в июле в день моего приезда устилает заиндевевшая зелень полыни и глянцевые кустики толокнянки. Над низкими растениями возвышаются гигантские сосны Жеффрея, покрытые чешуей ржаво-оранжевой коры с запахом ванили. Вьюнок полевой, бледно-розовый флокс, белая орхидея рейн, виеция, ирга и оранжевые пучки полупаразитической пустынной ястребинки пробиваются сквозь пересохшую почву. При моем появлении два оленя, молодые самцы с бугорками на месте будущих рогов, срываются с места. Поспешно скрываются и кузнечики. Над землей возвышаются зазубренные пики Сьерра-Невады, все еще в снежных шапках, не тающих даже под июльским солнцем.
Карбан склоняется над кустом полыни и собирает пинцетом крошечных черных жуков. Он протягивает мне пинцет и бумажный стакан объемом примерно пол-литра – в таких продают мороженое, только этот с отверстиями для воздуха – и велит собирать жуков, которые нужны для будущих экспериментов. Как научный журналист, я готова снова и снова удивляться, как похожи полевые исследования на художественное творчество. Накануне вечером Карбан сам разложил жуков по кустам, а потом пересчитывал оставшихся к утру и делал вывод, насколько старательно растение пыталось избавиться от хищника.
Но и жукам угрожают хищники.
«Ой, одного поедает божья коровка, – говорит Карбан, на мгновение разочарованный потерей единицы информации. – Ну и ладно! Это жизнь!»
Исследования Карбана показали, как химические вещества, выделяемые полынью, могут быть интерпретированы даже близлежащим растением махорки, и, как та же самая махорка, когда ее листья начинают грызть гусеницы, может вызвать хищников, чтобы те в свою очередь съели гусениц. Он также обнаружил, что кусты полыни лучше реагируют на сигналы своих генетических родственников. Когда полынь получает по воздуху химический сигнал, указывающий на возможное присутствие поблизости опасных хищников, она с большей вероятностью прислушается к предупреждению, если оно исходит от близкого члена семьи.
Как раз в то время, когда я знакомилась с работой Карбана, финский эволюционный эколог Айно Кальске, японский химический эколог Каори Шиоджири и его коллега из Корнелльского университета Андре Кесслер обнаружили, что золотарники, живущие в спокойных районах, где им не особенно угрожают хищники, в редких случаях, когда на них нападают, подают химические сигналы тревоги, которые невероятно специфичны и понятны только их близким сородичам. Но на более враждебной территории золотарники подают сигнал соседям с помощью химических фраз, которые легко понимают все золотарники в округе, а не только их биологические сородичи. Другими словами, эти растения, вместо того чтобы передавать закодированные предупреждения шепотом, используют громкоговоритель. Впервые исследования подтвердили, что подобные химические коммуникации полезны не только для растения, которое их получает, но и для отправителя[77]. Если вы – растение и наступают по-настоящему тяжелые времена, вряд ли вам захочется остаться одному в поле после того, как все закончится. Не с кем будет спариваться и привлечь опылителей. Эти сигналы подают, чтобы их услышали, – вот к чему пришли ученые, показывая, что растения общаются намеренно. А как мы знаем, намерение – это показатель разумного поведения.
Карбан раз за разом находит способы использовать методы, применяемые для исследований поведения животных в отношении растений, и всегда они оказываются действенными. Он приводит результаты исследования певчих птиц, которые, как ему показалось, могут быть применимы к тому, что происходит с полынью. Чтобы выяснить это, он попытался воспроизвести результаты исследования в финской статье. Это сработало. Полынь, когда угроза от жуков в целом невысокая, также использует «частные» средства коммуникации[78], чтобы предупреждать о нападении насекомых только свои семейные группы. По сути, они задействуют «тайные каналы» – химические соединения, которые сложны, специфичны и понятны лишь им и ближайшим союзникам. Но когда уже все сообщество подвергается агрессивному нападению, полынь переключается на «общественные» каналы, подавая более понятные всем сигналы тревоги[79]. Это прекрасно согласуется с тем, что давно известно о певчих птицах. В спокойных местах, где обитает относительно мало опасных хищников, птицы используют крайне специфические песенные фразы[80], чтобы предупредить только свою семейную группу о том, что что-то не так. Но когда птицы сталкиваются с масштабной опасностью, они меняют позывные, издавая тревожные звуки, которые могут понять все в округе, даже представители других видов птиц. Это имеет смысл опять же с точки зрения выживания сообщества: когда под угрозой все в округе, лучше спасти как можно больше своих сородичей, независимо от того, являются ли они членами семьи или нет.
Я задумалась о том, что это означает для растений. Раз это было обнаружено более чем у одного вида, можно предположить, что подобное происходит и у других и даже распространяется на все растительное царство. Это означает, что растения, можно сказать, владеют диалектами и достаточно внимательны к контексту, чтобы знать, когда их использовать. Более того, у них есть отчетливое понимание того, кто является членом семьи, а кто нет. Они в курсе всего, что их окружает, и знают об изменениях статуса своих врагов. Их общение не рудиментарно, а сложно и многослойно, наполнено множеством смыслов.
Способность к изменению сближает растения с нами важнейшими, хотя и грубыми способами. Изменения в нашей жизни, конечно, вызывают различные реакции. Мы оцениваем угрозы и подстраиваем под них реакции.
Но это заставило меня задуматься о различиях между людьми: мы не одинаковы, и наши реакции на угрозы очень индивидуальны. Уровень храбрости или страха, смелости или осторожности у всех разный.
Я и не предполагала, что такое человеческое понятие как «страх» может быть напрямую применимо к растениям, но более осторожный вопрос все же стоило задать: а есть ли подобный спектр реакций и у отдельных растений?
Я была рада узнать, что последние эксперименты Карбана касаются именно этого: он хочет выяснить, есть ли у растений особенности личности. Исследования личностных черт вошли в мир зоологии относительно недавно; за последние 20 лет наука о животных начала всерьез относиться к идее о том, что у отдельных животных есть индивидуальные черты[81] – последовательные, уникальные способы реагирования на окружающий мир – и что они достойны внимания.
Карбан часто общается с коллегами, изучающими черты характера животных, и он пришел к простому, но революционному выводу о том, как подходить к своим исследованиям: животные и растения явно отличаются друг от друга, но мир у них общий. Их повседневные заботы очень похожи: нужно искать пищу, находить партнеров. И всем этим приходится заниматься на фоне того, что другие существа пытаются их съесть. «Если животные справились с какой-то проблемой определенным образом, нелишним будет спросить, есть ли что-то подобное у растений».
Обычно, когда ученые измеряют характеристики организмов – будьто растения или животные, – они смотрят на среднее значение показателей, характерных для всей группы.
По крайней мере последние сто лет в биологии растений отдельные экземпляры внутри вида рассматриваются как копии друг друга. Ни одна индивидуальная черта не имеет значения для науки, которая рассматривает только среднее значение черт всей популяции. Если одна особь слишком сильно отклоняется от среднего значения, ее обычно выбрасывают из исследования как выпадающее значение. «То, что делают отдельные особи, рассматривается как помехи», – объясняет Карбан. Но его работа с полынью отбрасывает значение средних показателей. В исследованиях личности индивидуальные различия рассматриваются как ценные данные. Каждое из них – это точка на спектре поведения. Помеха становится сигналом. «Это противоположный подход: он обращает внимание на различия между отдельными особями».
После долгой работы по изучению того, как кустики полыни посылают друг другу сигналы, Карбан тонко чувствует изменения в этом процессе. Он видит, что обмен не всегда происходит одинаково. Иногда растение подает сигнал бедствия, а соседи не вырабатывают защитных соединений или производят их меньше. По мнению Карбана, это может быть связано с тем, что отдельные растения могут по-разному относиться к риску, а это один из показателей индивидуальности. Некоторые, по его словам, могут проявлять индивидуальность как пугливые от рождения кошки: бурно сигнализируют при малейшем беспокойстве. В этом случае другие растения того же семейства будут относиться к пугливому сородичу как к мальчику, который кричал «Волк!», и игнорировать его. Они не будут производить собственные соединения.
Мы идем по заросшему полынью лугу и беседуем о жизни. Оказывается, Карбан из Нью-Йорка, но живет далеко от родного города. Выяснилось, что он вырос в том же многоквартирном доме в Нижнем Ист-Сайде, где сейчас живет моя мама. Нижний Ист-Сайд в 1960-е годы был неспокойным местом, и от мальчика требовалось всегда быть готовым ввязаться в драку, чтобы защитить себя, или лишиться денег на обед. Карбану это было не по душе. Он называл себя «несклонным к риску». Он не вписывался в окружающий мир или, по крайней мере, всегда чувствовал себя отделенным от него, скептически относясь к его намерениям. Такая белая ворона. Поэтому он проводил много времени, замкнувшись в себе и мечтая оказаться где-нибудь в другом, более дружелюбном месте, за пределами безжалостного городского общества. Как только появилась возможность, он переехал на противоположный конец страны, чтобы изучать сложности существ, не относящихся к миру людей. Он по-прежнему настаивает на том, чтобы почти все исследования проводить на свежем воздухе, в сумбурной реальности непредсказуемых экосистем.
Конечно, работа Карбана над исследованием особенностей личности для изучения поведения растений в целом – дело далекого будущего. Но он может себе это позволить: Карбан – уважаемый ученый с сорокалетним стажем научной работы за плечами, и его пристальный интерес к потенциальным личностям растений – сигнал для всех, кто задумывается об этом, что пришло время провести хотя бы мысленный эксперимент. Если его результаты окажутся убедительными и их реально будет повторить, они могут иметь колоссальные последствия, далеко за пределами крошечного мира исследователей растений. Кто-то может возразить, что разнообразие человеческих реакций на окружающую среду делает нас более устойчивыми в целом. То же самое можно сказать и о растениях.
В 2017 году Шарлин Кушу, поведенческий эколог из Университета Квебека в Монреале, написала Карбану письмо с предложением. Чтобы защитить диссертацию успешно, ей следовало поработать в сотрудничестве со специалистом не из своей области: она разработала методику выявления индивидуальных поведенческих различий у животных, которую он мог бы использовать для растений. Кушу провела тысячи летних часов в лесу на границе Вермонта и Квебека, наблюдая за бурундуками. Ухо каждого из десятков животных было помечено цветным колечком. К тому времени, когда период наблюдения закончился, она не только знала каждого не только «в лицо», но и различала по поведению.
Бурундуки подают разные сигналы тревоги: одни – когда обнаруживают хищника в воздухе, например ястреба, а другие – когда угроза исходит с земли. По ее словам, некоторые животные то и дело поднимают шум. «Бывает, ест такой зверек зернышки, и тут на землю падает лист. Ему кажется, что это хищная птица, и он в панике начинает вопить во все горло, – говорит Кушу. Бурундуки из этой группы были пугливые. – Некоторые просто продолжают есть». Когда она учла пол, социальный статус и возраст, в характере бурундуков все равно обнаружились явные различия, которые не менялись с течением времени. Одни были склонны к риску, другие – нет.
Конечно, эти сигналы бедствия слышат и другие бурундуки. Что они станут делать с этой информацией, зависит от уровня доверия к подавшему сигнал бедствия. «Главная идея в том, что если кто-то постоянно кричит „Волк!“, то ему не стоит доверять». Она записала крики разных бурундуков, расположила их на шкале, которую составила вместе с коллегами, «от застенчивости до смелости», а потом воспроизвела другим бурундукам. Когда сообщение об опасности исходило от дерзкого и смелого животного, слушатели вострили ушки и прислушивались, а вот на крики паникеров, казалось, не обращали внимания.
С точки зрения эволюции выживания сильнейших можно подумать, что более пугливые особи обречены. Но Кушу обнаружила, что это не так. Менее агрессивные рисковали меньше, поэтому они меньше ели и у них рождалось меньше детенышей в год. Но они, как правило, жили дольше. Меньшая склонность к риску означала меньший шанс оказаться загрызенным орлом. На противоположном конце шкалы оказались очень смелые бурундуки. «Они размножаются раньше, много едят, больше рискуют. У них рождается больше детенышей, скажем, трое за год. Но потом они умирают, потому что их съедает хищник».
«Стратегии у них разные, но обе они могут работать на протяжении всей жизни, – говорит Кушу. – Это было обнаружено у многих видов, от толсторогих баранов до рыб». Когда дело касается личностей, каждый может проявить себя.
На другой полевой станции, расположенной в 185 милях[82] к северу от Маммот-Лейкс, Карбан наблюдает за полем, где растет девяносто девять кустиков полыни, и все из них он различает. Он и его аспиранты составили для каждого генетический профиль и знают, в каком родстве находятся все экземпляры. Они уже доказали, что полынь лучше реагирует на сигналы генетических родственников. Теперь же ученые адаптировали свою методику отбора проб химических веществ для изучения личностных качеств растений.
Для этого Карбан и аспиранты повреждают растение полыни, обычно обрывая несколько листьев. Затем надевают на него пластиковый пакет, чтобы задержать летучие химические вещества, которые оно неизбежно выделяет. С помощью шприца большого размера они захватывают часть воздуха из пакета, насыщенного химикатами. Далее распыляют воздух рядом с другим растением и фиксируют его реакцию. Следующий шаг – составление профиля личности каждого растения. Получив его, они смогут отслеживать реакцию каждого с течением времени и проверять, сохраняются ли их личные особенности на протяжении жизни. Если пугливый куст так и останется пугливым, как ожидает Карбан, тогда действительно родится область исследования личности растений, а также четкий способ ее изучения.
По мере того, как развивается изучение коммуникации между растениями, новая информация появляется, казалось бы, везде, куда только может заглянуть исследователь. Коллин Нелл, ученый из Калифорнийского университета в Ирвине, недавно обнаружил, что среди цветущих пустынных кустарников бакхариса женские растения слушают сигналы, посылаемые как мужскими, так и женскими экземплярами, а мужские растения слушают только мужские особи[83]. В других случаях растения предпочитают получать информацию от родственников: в одном из исследований Карбан выяснил, что экземпляры полыни прислушиваются к своим генетическим родственникам[84], а не к чужакам.
Это новое исследование поднимает актуальные вопросы о том, что мы считаем здоровым растительным сообществом и что значит на самом деле защищать его. Учитывая эти выводы, просто выращивать растения недостаточно; если коммуникация является жизненно важной функцией растений, то, заботясь о своих зеленых питомцах, мы должны также обеспечить им защиту их способности «разговаривать» друг с другом.
Позже, вернувшись домой и размышляя об исследовании Карбана, я с ужасом думала о своих комнатных растениях: неужели их заставили замолчать? Неужели эти соседи, благодаря которым моя квартира кажется более живой, лишились необходимой им растительной индивидуальности? Теперь это казалось вероятным. Во-первых, они сидели в горшках. Если говорить о связи между корнями, то, несомненно, они были отрезаны от других растений, не говоря уже о сети грибков и бактерий, с которыми они обычно связаны. А что с химической формой речи растений, она тоже исчезла? И если они, как и их дикие собратья, выдыхали в воздух химические соединения, содержался ли в них смысл? Почти все растения в моей квартире были тропическими сортами, широко выращиваемыми в питомниках. Они оказались далеко от своих диких предков.
Являются ли эти растения уменьшенной, одомашненной версией диких сородичей, на столько поколений удаленных от мест обитания их рода, что они забыли, как говорить, а возможно, никогда не слышали их языка?
А если отбросить родственные связи, неужели я теперь держу их в горшках, как животных в клетках, безмолвных затворников поневоле? От этой мысли становилось жутко. Или мои растения больше походили на собак, которые произошли от волков, и нуждаются в моей заботе теперь, оказавшись в непривычных условиях и среде, а также утратив черты полной самодостаточности? Я не знала, как к этому относиться. К тому же я понимала, что это просто полет фантазии. Возможно, я позволила своим мыслям зайти слишком далеко. Это нетрудно, когда размышляешь о месте растений в нашем мире. И все же я ругаю себя за то, что еще больше запутываю ситуацию. Что такое «слишком далеко», когда речь идет о том, что ты имеешь дело с живыми существами?
Ну а на Маммот-Лейкс, теперь уже лежа на животе в сухой гравийной пыли в нейлоновых брюках-хаки, Карбан считает жуков, пытаясь посмотреть на мир их глазами. Над кустиками полыни, в которые он зарылся, торчит только широкополая шляпа.
Я сажусь рядом на землю и вдыхаю специфический камфарный аромат полыни с нотками травы и легких пряностей. Это букет из нескольких летучих химических веществ растения, с помощью которых оно общается с различными частями своего тела, подавая сигналы, которые могут подслушать и на которые могут отреагировать его собратья. Это, считает Карбан, может отражать способ общения – «экспрессивный» или «спокойный», надо только научиться их слушать.
Как и в случае с людьми, когда о разуме можно судить на основе умозаключений, исходя из поступков человека, а не по неврологическим механизмам, Карбан ищет закономерности в поведении своих подопечных. «Я сторонник использования того, что десятилетиями изучала психология, их методов и спрашиваю, применимы ли они к растениям, – говорит он. – В некоторых случаях ответ будет отрицательным, и это прекрасно».
Но он нашел один метод из области психологических исследований, который действительно кажется подходящим. Этот метод помогает ученым анализировать поведение, разделяя его на два процесса. Первый – это распознавание или восприятие необработанной информации, второй – принятие решений, или то, как объект взвешивает затраты и выгоды от различных действий и выбирает наилучшее. По словам Карбана, этот метод прекрасно подходит и для растений. То, как разные виды оценивают угрозу нападения хищников, а затем принимают меры – например, делают листья горькими или, как в случае с махоркой, выделяющей химические соединения для вызова хищников, которые будут есть то, что ест их, – может быть ярким признаком индивидуальности.