Сказание о Радонии. Книга 1. По праву крови
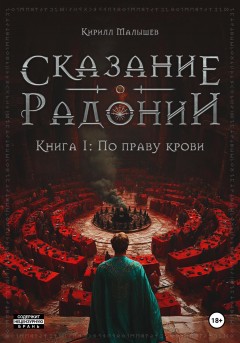
Гордость – это тонкая грань между величием и падением. Подобно свету маяка, она способна провести человека через самые тяжёлые испытания, наполняя его силой и уверенностью. Но стоит ослепнуть от её сияния – и она превратится в коварный мираж, увлекающий в бездну. То, что казалось крыльями, в одно мгновение может обернуться непосильным грузом, а путь к вершине – дорогой к разрушению.
Часть 1. Княжич Радонии
Глава 1. Всполохи в сумерках
Стоя на небольшом холме, поросшем бурьяном, Олег всматривался в мутное марево. Густой, влажный воздух, наполненный рваными сгустками зарождающегося тумана, был привычен для времени, предшествующего сумеркам в начале осени. Солнца не было уже несколько дней, и серый вечер сменил столь же бесцветный день, который, в свою очередь, последовал за хмурым утром.
Природа словно замерла. До ушей мужчины не доносилось ни единого звука. Даже ветер – и тот стих. Олег напряженно пытался разглядеть что-то в остатках уходящего дневного света. Там, в трети версты перед ним, за рыжим, глинистым лугом, виднелась узкая полоска леса – тёмного и мрачного. Над частоколом угрюмых сосен, словно подчёркивая всеобщее оцепенение, медленно парил сокол, высматривая в пожухлой осенней траве какую-нибудь добычу.
– Не ошиблись ли, княжич? – раздался сзади тихий, глубокий голос.
– Не ошиблись. Селяне указали на этот бор. Здесь они. И нас уже заметили.
Командующий повернул голову. По правую руку от него, на гнедом жеребце, сидел крепкий молодой человек. Он был похож на Олега: с небольшой горбинкой на носу, с ясными голубыми глазами, короткой, русой бородой, в цвет волос. На его спине был небесного цвета плащ с серебряной чайкой, символизировавшей принадлежность к радонской княжеской семье.
– Владимир, метательные орудия готовы? – Олег пристально посмотрел в глаза мужчине.
– Да, брат. По твоему приказу начнём, – кивнул тот.
– Сходи, проверь. Убедись, что сока Жар-Дерева не пожалели. Погода нынче сырая, нельзя, чтобы ядра затухли. Смотри, как рукой махну – стреляйте. Прицельтесь, чтобы в пятидесяти саженях от границы леса упали, прямо за их спинами. Так в чащу не уйдут.
– Добро, – ответил Владимир, развернув лошадь. Бодрой рысью он отправился за спину командующего, вскоре исчезнув из вида.
Проводив его взглядом, княжич повернулся в другую сторону. Там, по левую руку от него, тоже на лошади, сидел воин постарше. Он был высок, почти на две головы выше самого рослого дружинника в войске, и очень широк в плечах. Настоящий великан. На груди исполина густой копной лежала окладистая пшеничная борода, подёрнутая сединой. Из-под надвинутого на кустистые брови железного шлема виднелись типичные для чистокровного радонца голубые глаза – молодые и задорные, что совсем не соответствовало его зрелому возрасту.
Поймав взгляд княжича, воин доложил:
– Дружина готова. Как прикажешь – бросимся в драку. – Голос его был низким, грудным, похожим на рокот приближающейся грозы.
– Хорошо, Весемир. Это хорошо, что готова, – тихо, будто размышляя вслух, ответил Олег. – Гляди, прав я был. Там, где сокол парит.
Он указал вперёд, на кромку леса, которую внимательно разглядывал мгновение назад. Великан прищурил глаза.
– Да, княжич, вижу. Прав ты, как всегда.
Там, прямо под кружащей птицей, из тени не спеша, неровными рядами выходили люди. Дюжина за дюжиной, сотня за сотней. Появляясь, они выстраивались вдоль стволов деревьев, под голыми, лишёнными листвы кронами. Сплошь одетые в тёмные одежды, издалека, в сумерках, они походили на потревоженных муравьёв, выбравшихся из муравейника.
– Весемир, на тебе всадники. Забирай их и уводи. Сделайте крюк и заходите с восточной стороны. – Олег описал рукой, одетой в кожаную рукавицу, дугу. – Да берите широкий охват, чтобы не было видно как вы уходите! Не хочу, чтобы они успели приготовиться к удару. А как мы столкнёмся и дракой их свяжем – так вы сбоку и бейте! Только смотри, не упусти момент. За деревьями луки и сулицы прячутся, показываться не хотят. Запоздаете – мы не выдюжим, всех до единого перестреляют.
– Не оплошаю, княжич, будь уверен, – прищурившись, ответил исполин.
– Добро, воевода, ступай. А я начну.
Кивнув, великан развернул лошадь и, тронув поводья, ускакал. До уше Олега донеслось: «Конники, рысью за мной, поспешай!» Шум сотен копыт, отдаляясь, постепенно растаял в холодном, влажном осеннем воздухе.
«Хорошо. Теперь дело за мной», – пронеслось в голове командующего.
Олег аккуратно спешился. Передал поводья подошедшему оруженосцу – худому, бледному двенадцатилетнему юноше по имени Святослав. Тот был русоволосым, как и сам княжич, и мог бы сойти за его младшего брата. Но отцом парня был не государь, а посадник Змежда – одного из крупнейших городов в Радонском княжестве. По чести, оказанной ему, мальчик уже почти два года был в походе с Олегом, как его подручный, рында, учась военному ремеслу. Быть правой рукой наследника престола – большая милость.
Не спеша, командующий расстегнул серебряную застёжку накидки, имеющую форму чайки и, сняв бирюзовое одеяние, отдал его. Княжич никогда не сражался в плаще. Он помнил, как, будучи десятилетним мальчишкой, Весемир, лучший мечник в войске, обучая его бою, зашёл за спину и повалил, резко дёрнув за полы длинных одежд. Хоть с того дня прошло уже более двадцати лет, он не забыл – красивым одеждам место на пиру, а не на поле брани.
Оставшись в одной кольчуге, мужчина отстегнул от седла шлем и, держа его в руках, обернулся. Там, за спиной, в двух десятках шагов, ровными рядами выстроилась его рать. Суровые мужи, набранные в войско со всех уголков государства. Бородатые и хмурые, они были испытаны в множестве боёв и стычек. Сотни угрюмых глаз – голубых, серых, карих – впились в лицо своего лидера, ожидая от него напутствия, обычного перед сражением.
– Други! – громко воззвал Олег, подняв руку. – Дружина моя!
Всё войско разом, в едином порыве закричало, отозвавшись на клич.
– Слушайте меня! Мы с вами вместе, плечом к плечу, бились не раз. Дрались славно и не было случая, чтобы мы посрамили себя или нашу святую веру!
Дружинники одобрительно застучали секирами о круглые, покрытые облезлой синей краской, в сколах и зазубринах щиты с изображёнными на них чайками. Поверхность некоторых из них была настолько изрезана и истёрта, что цвет и силуэт птицы трудно было различить.
– Там, впереди, – княжич указал на стену деревьев вдалеке, – враг! Он терзает наши сёла, нападает на речные караваны, подрывает княжескую власть и, сбившись в могучую силу, притесняет простой люд в целых уездах! Настало время положить конец беззаконию, что творится на нашей земле!
Крики ратников, смешавшись со стуком секир, вновь наполнили воздух.
– Бейтесь за меня, как я буду биться за вас! А если увидите, что ваш командующий пал – не посрамите род мой, не оставьте неотомщённым и сметите подлого неприятеля! Победим же! Разом!
«Разом! Разом! Разом!» – хором ответила дружина.
Под непрекращающиеся возгласы, Олег развернулся и, стоя спиной к своему войску, снял правую рукавицу. Склонив голову, он аккуратно достал из неё бережно сложенный, когда-то белый, а ныне посеревший от походной жизни, вышитый васильками платок. Расправив кусочек ткани, мужчина на несколько мгновений погрузился в свои мысли, с теплотой глядя на него и кончиками пальцев дотрагиваясь до вытканных синими нитками цветов.
Уголок его рта дрогнул. Княжич позволил себе лёгкую, едва заметную улыбку. Но вскоре, словно возвращаясь в реальность, он спрятал вещь обратно, а его лицо снова стало холодным и собранным.
Надев рукавицу, командующий резко выдохнул. Затем уверенным движением водрузил на покрытую густыми русыми волосами голову прочный железный шлем. Вынул из ножен, висящих на бедре, меч и поднял его высоко над головой. Крупный сапфир на рукояти оружия, подобно синей искре, блеснул в тусклом вечернем свете.
– Метательным орудиям приготовиться!
Со стороны леса послышался грозный ропот. Враг видел, что дружина вот-вот ринется в бой. Олег резко опустил клинок, со свистом разрубив прохладный воздух, и широкими шагами двинулся вперёд, через луг, в сторону плотного строя деревьев.
– Разо-о-ом! – изо всех сил закричал княжич, постепенно переходя на бег и увлекая за собой войско.
«Разом! Разом! Разом!» – отозвались воины.
Мужчина не оглядывался, но точно знал, что вся рать, как один человек, устремилась за ним. Сколько раз он уже слышал этот громоподобный топот за спиной, сопровождаемый суровым гулом голосов – тяжело сосчитать.
Послышался громкий треск – началась работа метательных орудий. Над головой княжича, оставляя за собой чёрный дымный след, пронеслись покрытые красным, ревущим пламенем ядра. Разрезая хмурое небо, они освещали воинов, устремлённых навстречу врагу по подёрнутому инеем полю, дрожащим, неровным светом.
Через несколько мгновений эти снаряды, пропитанные соком Жар-Дерева, начали падать за спинами неприятеля и, разбиваясь о стволы сосен, с громким хлопком взрывались, расплёскивая во все стороны огненные струи и отсекая путь к отступлению. В этом липком пламени заживо сгорали притаившиеся в тени деревьев лучники и метатели сулиц.
Над кронами разгорелось кровавое зарево. Стволы вспыхнули, до самых макушек покрывшись языками обжигающего пламени. Огонь был настолько ярким и жгучим, что Олег, преодолев только половину пути, уже почувствовал волну жара, идущего от него.
Нужно бежать. Бежать как можно быстрее! Пересечь полосу луга, на которой вся его дружина была как на ладони.
Отовсюду – справа, слева, сверху – раздался свист. Вот оно! Стрелы! Не сбавляя скорости, он по привычке пригнулся. Сзади послышались сдавленные крики и глухие звуки падения.
«Владыка, впусти детей своих в чертоги Славийские…» – пронеслось в голове. Бежать. Бежать! Бежать!!!
Сто шагов. Он уже мог разглядеть искажённые оскалом, покрытые неряшливыми бородами лица врагов.
Пятьдесят шагов.
Тридцать. Будто стараясь добавить уставшим ногам сил, Олег, что есть мочи, закричал:
– Разо-о-ом!
Сзади, как нарастающая штормовая волна, усиливаясь с каждым мгновением, раздался многоголосый рёв дружинников: «Разо-о-ом!» Этим криком воины хотели не столько напугать врага, сколько подбодрить самих себя перед столкновением.
Двадцать шагов.
Пятнадцать. Олег уже видел, кого будет бить. Он выбрал его из мрачного сонма врагов, успел заглянуть в его чёрные, безжалостные глаза. Глаза, которые он собирался спустя миг закрыть навсегда.
Десять шагов.
Княжич согнулся, не сбавляя скорости. Он всегда наносил первый удар по дуге – справа налево, снизу вверх. Такая атака удобна на бегу и позволяет вложить в движение клинка все имеющиеся силы.
Пять шагов.
Олег крепче сжал рукоять меча, украшенную крупным голубым сапфиром.
Три шага. Шаг.
Не отводя взгляда от противника, мужчина ударил. Не успев защититься, безымянный воин был рассечён от левого бока до шеи. С силой дернув рукоять, Олег вырвал лезвие из тела. Кольчугу обильно залило брызнувшей во все стороны кровью.
Мгновение – и по обе стороны дружинники с глухим стуком врезались в ряды неприятеля. Первый поверженный – за Олегом, как и положено наследнику Речного престола.
Застучали секиры. Крики, стоны и звон оружия заполнили пространство вокруг. Княжеская рать, как нож, вошла во вражеский строй.
Дзинь!
Дротик ударил по шлему. Ещё один скользнул по металлическим кольцам кольчуги. Боковым зрением княжич заметил замах секиры слева. Ловко уклонившись, он ударил наотмашь, распоров нападавшему грудь.
Пригнулся.
Снова удар.
Хрип.
Третий на его счету. Качнулся вправо, уклоняясь от выпада. Замахнулся. Во врага попал их же дротик – Олег тут же добил его мечом.
Четвёртый.
Справа и слева падали его дружинники. Много стрел и сулиц. Слишком много! Будто густая туча мошкары в жаркий летний день, они наполнили воздух, врезаясь в лица и тела людей, находя бреши в латах.
В ответ они ожесточённо рубили противника секирами. Кровь в свете пожара, заслонившего собой небо, казалась кипящей на лезвиях, рассекающих горячий воздух.
Удар. Ещё удар, уворот.
Липкие брызги из горла убитого кем-то ратника. Лицо княжича покрыла багряная юшка, затрудняя обзор. Различать происходящее вокруг стало непросто. Грудь разрывалась от частого дыхания, но воздуха всё равно не хватало. Пот покрыл спину. Каждый взмах мечом давался всё труднее. Олег почувствовал, как руки наливаются свинцовой тяжестью.
Постепенно натиск его дружины ослабевал. Казавшийся сокрушительным в начале, могучий удар начал захлёбываться, сдерживаемый метательным оружием.
«Где же Весемир?»
Внезапно перед княжичем из тени деревьев вырос воин, огромный, выше его на голову. Не успев опомниться, Олег, повинуясь инстинктам, замахнулся и остриём меча пронзил его насквозь, вложив в это движение все оставшиеся силы.
Лезвие пробило кожаные латы насквозь, показавшись из спины врага. Он захрипел и начал заваливаться вперёд, на княжича. Мужчина дернул рукоять, пытаясь вытащить клинок, но ослабевшие руки не слушались его. Поскользнувшись, Олег упал. Пронзённый им детина накрыл его сверху, придавив к земле своим громадным телом.
Упершись дрожащими от напряжения ладонями в грудь поверженного неприятеля, княжич тщетно попытался сбросить его с себя. Тот был слишком тяжёлым. Не имея возможности подняться, Олег сдвинул голову неподвижного противника набок и выглянул из-под неё.
Вокруг царила кровавая вакханалия. В ревущем, прожорливом пламени, вопя, исчезали люди – свои и чужие. Повсюду было влажно поблёскивающее месиво из грязи, мёртвых тел и отсечённых конечностей.
День стремительно угасал. В багровом свете зарева сражающиеся сливались в единую массу, и было невозможно различить, где свой, а где враг. Неразборчивые силуэты метались по полю брани, сбивая друг друга с ног, рубя и калеча. Пахло смолой, жжёными волосами и жареным мясом. Дым и копоть были настолько плотными, что казалось, будто воздух хрустит на зубах. От какофонии звуков – криков, воплей, звона оружия – закладывало уши.
Вдруг одна из теней метнулась сбоку и нависла над лежащим на спине Олегом. С замиранием сердца он увидел блеснувшее в её руках короткое копьё, занесённое для удара.
«Неужели это конец? Владыка, впусти детей твоих в чертоги Славийские…»
Откуда-то сбоку послышался топот копыт. Справа, слева – сверху.
«Весемир!» – пронеслась в голове княжича мысль, прервав собой молитву.
Всадник проскочил прямо над ним, одним ударом срубив нависшую фигуру. Пространство наполнили панические вопли врага, сминаемого натиском конницы.
Олег высунул руку из-под неподъёмного тела и, что есть сил, закричал, привлекая внимание:
– Тут я! Тут я!
Битва была окончена. Теперь оставалась только одна опасность – быть раздавленным своими же всадниками.
Глава 2. Любовь и вера
Олег сидел на поваленном, обгоревшем стволе, вытирая лезвие меча пучком травы, и оглядывался по сторонам.
Прохладный воздух был насыщен разнообразными запахами: сырости, крови, металла и дыма. Вокруг него молча двигались люди – куда-то шли, поднимали что-то, волокли раненых, осматривали убитых. Всё это они делали молча. Лишь стоны изувеченных нарушали гнетущую тишину. Так всегда бывало после битвы – воины будто теряли дар речи. Они старались не встречаться друг с другом взглядами, каждый осмысливал произошедшее наедине с самим собой. Олег знал: даже самым закалённым дружинникам, побывавшим в огненной круговерти, нужно время, чтобы прийти в себя.
Боковым зрением княжич заметил массивную фигуру Весемира. Воевода, прихрамывая, медленно приближался к нему, перешагивая через тела павших, не разбирая, кто свои, кто чужие. Он двигался с трудом, опираясь на толстую палку, больше похожую на вырванное с корнем дерево средних размеров, чем на трость.
– Эй, Весемир! – недовольно окликнул его Олег. – Что я говорил? Не запаздывать! А ты где пропадал? Нас чуть не опрокинули!
– Да нигде, княжич, – устало отозвался великан, подходя ближе. – Там, где мы обходили, – низина. Грязь – жуть! Дожди несколько дней подряд лили, всю землю развезло. Копыта вязнут: быстро не продвинешься.
Командующий покачал головой.
– Да… Этого мы не учли. Ладно, главное, успел. А с ногой-то что? – Он кивнул на бедро воеводы, испачканное засохшей кровью.
Весемир перевёл взгляд на рану.
– А, это? – пробасил он небрежно. – Дротик, чтоб его! Как только врезались в драку – сразу и попали. Вонзился аккурат выше колена. Глубоко вошёл, зараза. Кровь всё никак не останавливается.
Олег пристально посмотрел ему в глаза.
– С такой раной не навоюешься. Лекарю покажись.
Исполин лишь отмахнулся и со вздохом уселся рядом, вытянув пострадавшую ногу. Дружинному врачу и без него хватало забот – битва выдалась жестокой.
– Уже почти стемнело. Может, лучше было бы дождаться утра? В ночном бою радости мало, – задумчиво произнёс воевода, оглядываясь.
– Нет, Весемир, – покачал головой княжич, продолжая чистить лезвие меча. – Лес этот всего полверсты в глубину. А за ним река – Зыть. По её берегу и тянется эта узкая полоса деревьев. А сразу за ней, недалеко отсюда, – брод. Единственный на много вёрст вверх и вниз, до самого Змежда. Мы шли по следу банды несколько дней, но нагнали только сейчас. Дай я им ночь – переправились бы на другой берег, и конец делу! Всё награбленное с собой бы уволокли. Ты ведь знаешь – за рекой наши руки связаны.
– Знаю, княжич, знаю. Ты смел, и говоришь всё верно. Но что было бы, если б мы не успели до темноты? Конники бы своих перебили в суматохе. Ум – хорошо, да осторожность – не хуже! А каменецкий князь, хоть и дядя твой единокровный, всегда рад принять всякое отребье, лишь бы с полными карманами пришло. Тут ты прав – нельзя было допустить переправы через Зыть, – тихо ответил Весемир, не отрывая взгляда от поляны, усеянной телами.
Княжич задумчиво взглянул на мрачную кромку леса, напоминавшую высокую стену, высеченную из обсидиана.
– Осторожность – удел бояр да князей. А я воин, такой же дружинник, как и остальные. – Он обвёл рукой округу. – Моя обязанность – действовать, бить врага. Одно знаю: ждали бы утра – упустили бы их. А так и банду разбили, и награбленное вернём. Отправь-ка лучше людей поглубже в лес, уверен, они даже не успели спрятать добро.
Немного помедлив, Олег добавил:
– Им было не до того, мы им даже опомниться не дали.
Весемир вздохнул.
– Уже послал. Нашли. Там же всё и свалили, в сотне шагов. Да только добра маловато. В деревнях, что они обобрали, давно уж ничего ценного не осталось. Так, одна мелочь. Это ж надо, весь север разорили, сволочи! Люди впроголодь живут, даже отобрать нечего.
Покачав косматой головой, воевода оглядел поле.
– Большая шайка, однако, – пробормотал он. – Третий год их давим, а такой многочисленной еще не видывал. Настоящее войско! Я уж думал, сам Мишка-разбойник, стервец, их ведёт.
– И я так думал, но нет. – Разочарованно отозвался княжич, отбросив в сторону окровавленный пучок травы. – Ладно, время уже позднее. Оставь полсотни воинов. Павших сожгите, как положено по обряду, дружинный езист пусть молитву прочтёт. Раненых на телеги погрузите. Остальные – разбивать лагерь, ночь спустилась. – Олег поднял глаза, посмотрев на тяжёлые, низко плывущие над полем облака. – Не дай Зарог, дождь пойдёт. Спать после битвы под открытым небом…
– Добро, – кивнул воевода.
– Да караул не забудь выставить. Разбойничьи шайки в княжестве ещё не перевелись. Кто знает, сколько их ещё в лес ушло.
– Не забуду, – пробасил Весемир.
Задержав взгляд на великане, командующий развернулся и неспешным, но уверенным шагом направился к Святославу, державшему за поводья его коня. Дружинники, мимо которых проходил княжич, останавливались, прикладывая секиры к груди и склоняя головы в знак уважения.
Взобравшись в седло, Олег поднял руку, привлекая внимание ратников. Люди, занятые своими делами, замерли и подняли глаза.
– Други, сегодня вы покрыли себя славой! Не посрамили ни род свой, ни князя! Пускай же Владыка воздаст вам за храбрость, а павших на этом поле примет в чертоги свои!
Эти слова подвели черту под произошедшим. Воины, будто очнувшись, расправили плечи. Только теперь они осознали – битва окончена. Страх, сжимавший их сердца подобно железному обручу, наконец ушёл. Напряжение ослабло и дружинники разом закричали, вскидывая оружие к небу.
Этот оглушающий рокот не был воинским ритуалом. Так эти простые мужики, сыновья бедных крестьян, рыбаков и охотников, выражали уважение своему лидеру. Тому, кто не просто не посрамил их перед врагом, но и сражался с ними наравне, не ставя свою жизнь выше их.
Разбросанные по полю, уставшие, но окрылённые победой, ратники выкрикивали кто что.
Кто-то – «Разо-о-ом!», кто-то – «Княжич!», кто-то – «Сла-а-ава!» или «Владыка!». Но в этом неразборчивом, многоголосом гуле безошибочно угадывалось главное – безграничная преданность. Было ясно: даже сейчас, измученные битвой и израненные, люди без раздумий вновь ринулись бы в схватку, если бы этот молодой воин, гордо сидящий в седле, приказал им.
– Любит тебя дружина, княжич, – восхищённо произнёс Святослав, придерживая рукой поводья.
– Не любовь важна, а верность, – тихо ответил Олег. – Любовь без верности – лишь дым без огня, легкий и бесплотный. Запомни: человек, что посылает других на смерть, не может опираться на столь зыбкое чувство. Оно приходит и уходит, а верность – вот единственное, что остаётся когда начинает литься кровь.
Опустив взгляд, он пристально поглядел на внемлющего ему мальчика.
– Я верен им, они верны мне. Этого довольно.
Командующий слегка наклонил голову и, под нескончаемый гомон дружины, направил лошадь в сторону лагеря.
Глава 3. Неожиданная весть
– Княжич! Проснись, княжич!
Олег медленно, морщась, открыл глаза.
– Гонец приехал, из Радограда!
«Святослав», – он сразу узнал голос.
– Да подожди ты, слышу! – хрипло отозвался мужчина, не спеша подниматься.
Мальчишка тут же замолчал.
Со стоном командующий сел на топчане, потирая виски. Голова была тяжёлой. Накануне дружинники, привычные к походной жизни, быстро разбили лагерь, и он улёгся спать в специально возведённом для него шатре. Однако, завалившись на лежанку, вскоре он понял, что сон не идёт.
Поворочавшись почти до полуночи, княжич велел оруженосцу принести вина – надеялся, что оно поможет забыться. Услужливый рында вскоре добыл бутылку. Пьянящий напиток действительно погрузил мужчину в дремоту, вот только она не принесла отдыха. Напротив, после выпивки Олег чувствовал себя ещё хуже, чем сразу после битвы – разбитым и измождённым.
«Сколько раз зарекался пить перед сном», – с досадой подумал княжич, покачав тяжёлой головой.
В шатре было темно и холодно. Во рту – сушь и мерзкий привкус.
– Свет! – крикнув, приказал он.
Через мгновение полог приоткрылся, и внутрь матерчатого укрытия вошёл служка, закутанный в тёплый плащ, наброшенный поверх длинной рубахи. В руках он нёс глиняную чашу с горящей свечой. Пламя фитиля дрожало, наполняя помещение зыбкими, красноватыми всполохами.
– Оставь и убирайся, – ворчливо бросил Олег, не глядя на него.
Когда служка исчез, княжич медленно встал, поёжился от утренней прохлады и подошёл к влажно поблёскивающей деревянной посудине. Опустил ладони в прохладную воду, наполнявшую её и, зачерпнув, поднёс к губам. Несколько глотков приятно смягчили пересохшее горло.
Ещё немного. Ещё. Дышать стало легче, вязкая дремота отступила.
Олег склонился над посудиной и посмотрел в отражение на водной глади. Молодое, но уставшее даже после сна лицо. Светлая короткая борода, усы, подстриженные вровень с ней. Голубые глаза, слегка припухшие после пробуждения. Острый нос с характерной для рода Изяславовичей горбинкой. В левом ухе – серебряный одинец. Высокие скулы, а на правой – узкий шрам от топорика, полученный в таком же бою, как вчера. Если бы удар пришёлся чуть выше – он бы лишился глаза. Кажется, это было давно, но на самом деле минул всего год.
Глубокие тени дрожали на его лице, в неровном свете фитиля придавая чертам что-то потустороннее, колдовское. Сколько раз за последние месяцы княжич смотрел на своё отражение, склоняясь над умывальной чашей? Сколько раз просыпался в холодном, пустом походном шатре? Не сосчитать. Олег настолько привык к такой жизни, что иной раз казалось – так было всегда.
Но всё было не так.
Насколько мужчина помнил себя до похода – его лицо считалось красивым. Живя в радоградском детинце, он не раз замечал, как девицы, появлявшиеся при дворе, заливались румянцем и смущённо опускали глаза, едва завидев его.
Высокий, широкоплечий, светловолосый, да ещё и первенец государя – Олег слыл первым женихом не только в городе, но и во всём княжестве. Не отправил бы Юрий сына в поход против разбойничьих орд, грабивших северо-восточные области страны и подрывающих торговлю, – глядишь, уже женился бы. Тем более что девушка, достойная стать его супругой, уже нашлась.
Несмотря на минувшие годы, даже сейчас, спросонья, он мог отчётливо вспомнить каждую деталь её внешности. Стройная, высокая, русоволосая, улыбчивая – как и он сам в то время.
Олег встретил её в Великом Храме Радограда, и с того дня не мог выбросить из головы. Будто пожар разгорелся в его груди прямо посреди проповеди. Всю зику́рию княжич, прости Владыка, смотрел не на архиезиста Панкратия, а на неё, стараясь снова поймать взгляд красивых серо-голубых глаз. Но девушка больше не поворачивалась.
Олег усмехнулся, вспоминая тот день. Как же далеки были тогда его тревоги от теперешних забот!
Всю следующую неделю он мечтал увидеть её снова и, наконец, дождался короткой встречи, во время которой не смог произнести ни слова. Тогда же, смущённый сверх всякой меры, он спросил у старика Захара, княжеского тиуна, кто она и откуда. Оказалось, что девушку зовут Ирина, и она дочь радоградского боярина Остапа Туманского. Главы некогда влиятельного, но обедневшего рода. Но разве подобные мелочи могли иметь значение для наследника Речного престола!
Ей было восемнадцать. Пока не обручена, хотя охотники были. Следующий за тем месяц Олег старался появляться там, где могла быть она, и, каждый раз встречая её, ужасно смущался. Прошло немало времени, прежде чем он, робея, под хихиканье её подруг, решился подойти и представиться.
Красавица лишь улыбнулась и кротко опустила глаза. Конечно, она знала, кто он. Все в столице знали.
После этого они встречались ещё много раз. Переговаривались украдкой – в Великом храме, на Торговой площади посада. Всегда в окружении других людей. Всегда лишь пара коротких фраз: не более. Олег никогда не позволял себе лишнего.
Только однажды, узнав, что отец отправляет его на войну, княжич осмелился прикоснуться к Ирине. Взяв красавицу за руку, он отвёл её в сторону и, запинаясь, признался, что полюбил. Что хочет взять в жёны, как только вернётся. Мужчина пообещал поговорить с её отцом и надеялся, что тот не будет против. Главное, чтобы она дождалась.
Ирина заплакала и, глядя на него большими, похожими на драгоценные опалы глазами, поклялась хранить верность столько, сколько потребуется.
С тех пор княжич ни разу не видел девушку. В день, когда он покидал Радоград через Бирюзовые ворота, главные в столице, к нему приблизилась одна из её подруг. Молча протянула белый платок, вышитый васильками. Княжич не успел даже что-либо спросить, как посланница уже исчезла, растворившись среди провожавших дружину горожан.
Так Олег, замерев, и стоял, сжимая в руках этот кусочек материи, пока его не окликнул Весемир.
Воспоминания вдруг посыпались на него, словно осколки чужой жизни. Сколько воды утекло с тех пор! Что с Ириной теперь? Княжич надеялся, что она сдержит обещание, но поход затянулся, а люди меняются. Даже самые искренние клятвы со временем блекнут, как высохшие чернила на старой грамоте. То, что когда-то звучало твердо, может стать лишь эхом далёкого прошлого, утратившего свою силу перед лицом перемен.
Да и сам он уже не тот, что прежде. На войне не до веселья – поводов для смеха мало. Кажется, он и улыбаться уже разучился.
Княжич попытался изобразить усмешку, разглядывая своё отражение на тёмной поверхности воды. Гримаса получилась кривой и уродливой. Он тут же перестал, неприятно удивлённый увиденным.
«Время не щадит никого…»
Голова всё еще ныла, но уже не так сильно. Вздохнув, Олег приложил влажные ладони к лицу. Прохлада освежала. Мысли постепенно прояснялись.
Вдруг он вспомнил, что видел сон. Да, точно. Но что именно? В памяти всплывали лишь размытые белые и зелёные пятна, чья-то улыбка, красивое женское лицо, обрамлённое светлыми волосами, протянутые к нему руки… Образы, обрывки, тени, не желающие складываться в единую картину. Мужчина покачал головой и снова умылся, отгоняя бесплотные видения.
Одевшись, он вышел из шатра. Было темно. Заря только занималась – кроваво-красная полоса на востоке напоминала языки пламени, пожирающие небосвод.
Лагерь ещё не проснулся. Грязно-серые матерчатые домики, наскоро возведённые накануне, были уставлены щитами, покрытыми засохшей кровью и грязью. Дружинники еще не успели их почистить. Кое-где медленно брели воины, ковыляя из нужника. Дозорные, при оружии, с сонными лицами вяло прохаживались вдоль временных, неуютных походных жилищ.
Прохладный, сырой воздух тут же пробрался под плащ, заставив княжича поёжиться. У выхода его ожидал Святослав, кутаясь в тёплое шерстяное одеяло. Парень нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
– Ну, что стряслось, шлында? Зачем командующего будишь ни свет ни заря? – хмуро спросил Олег.
– Не гневайся! Ночью гонец прибыл. Из самого Радограда… – затараторил мальчишка.
Его пронзительный, высокий голос вызвал у Олега неприятную боль в висках.
– Стой. Кто тебя прислал? – он поднял руку, прерывая рынду. – Где вестник?
Святослав осёкся, но тут же заговорил снова:
– Весемир послал. Гонца на придорожном карауле остановили, в версте отсюда. Воевода велел тебя будить, а сам отправился посмотреть, кто это к тебе так спешит. Сказал что лично приведёт его.
– Давно он ушёл?
– С полчаса как.
– Ладно, подождём.
Шумно выдохнув, Олег опустился на сырую колоду, используемую для колки дров. Юный оруженосец не унимался:
– Это ж надо! Год целый из столицы никто не приезжал! Видно, весть важная… Может, конец походу? Скоро третий год, как банды давим. Эх, хоть бы конец! – мечтательно добавил он.
Княжич не слушал парнишку, хотя его мысли пошли тем же путём, что и у помощника.
Последним, кто приезжал из Радограда, был его младший брат Владимир, второй сын в княжеской семье. Тогда отец прислал его с тремя сотнями свежих дружинников. Но с тех пор прошёл уже год.
А теперь – гонец, да ещё прибывший под утро! Значит, скакал всю ночь, без отдыха. Другой бы остановился в каком-нибудь селе, да по дневному свету и поехал. Но этот – нет. Спешил, значит. Важные вести вёз. Неужто и правда конец походу? Плохо, если так.
Мишка-разбойник, атаман всех бандитских шаек, всё ещё жив и не изловлен. Если сейчас перестать его давить – к весне вновь воспрянет. Станет ещё сильнее прежнего.
«Худо, если так, худо…»
Заря разгоралась всё ярче, заливая розовым светом постепенно просыпающуюся стоянку. Воздух был наполнен множеством звуков – криками десятков разных птиц, не успевших покинуть Радонию на зиму, шумом ветра в кронах деревьев, кряхтением поднимающихся после недолгого сна дружинников, привыкших вставать с первыми лучами солнца, даже если не предстояло похода.
Погружённый в раздумья, Олег не заметил, как из-за матерчатых крыш палаток показались три всадника.
– Едут! Едут! – пронзительно запищал Святослав, нетерпеливо подпрыгивая на месте и тыча пальцем в их сторону.
Олег прищурился, вглядываясь в утренний сумрак. Впереди – Владимир. Плащ бирюзовый с серебром, тут не ошибёшься. Позади – Весемир, второго такого великана во всём княжестве не сыскать. А между ними – кто-то в тёмном походном плаще, да ещё и в шапке, натянутой по самые брови. Видимо, это и есть тот самый вестник.
Когда всадники подъехали ближе, княжичу показалось, что он где-то видел этого человека. Но где именно? Наверное, встречал в Радограде… Одежда небогатая, но добротная. Кобыла хорошая, но не для родовитого боярина. Да и с чего бы знатному человеку ночью перевозить донесения?
Не лазутчик ли?
– Приветствую тебя, командующий! Пусть Владыка железным мечом покарает врагов твоих! – громко произнёс гонец, не слезая с коня.
Олег поднялся навстречу.
– Спасибо за доброе слово. Тебе известно, кто я. – Он нахмурился, скрестив руки на груди. – Я же с тобой не знаком. Кто ты, откуда и с чем прибыл?
– Я из Радограда. Тимофей Игоревич, посадник столичный, отправил меня с донесением две недели назад.
– Донесение? – прищурился княжич. – Какое?
Олег повернулся к Весемиру.
– Что там у него?
– Не говорит, – буркнул воевода. – Велено только тебе передать.
– Что ж, я перед тобой. Только негоже вести разговор с наследником престола сверху вниз. Слезай с кобылы, здесь твоя дорога окончена.
Все трое спешились. Владимир – ловко, молодецки. Гость – медленно, тяжело.
«Спина затекла… Долго был в пути. Видно, не врёт что из Радограда ехал», – заметил княжич.
Весемиру пришлось сложнее, чем остальным. Он долго пытался сползти с лошадиной спины, опираясь на здоровую ногу. И только когда коснулся земли, аккуратно достал стопу из стремени.
– Ну, говори. Не для того ты такой путь проделал, чтобы меня томить.
Вестник шагнул вперёд, запуская руку под плащ. Олег резко вскинул ладонь.
– Стой. Ближе не подходи, если жизнь дорога. Что там у тебя?
– Письмо, княжич, – растерянно пробормотал тот, замерев.
– Обыскали мы его, оружия нет, – проворчал Весемир.
Недоверчиво прищурившись, княжич вытянул вперёд руку. Посланник аккуратно вложил в его ладонь небольшой, сложенный втрое, серо-жёлтой клочок бумаги. Олег удивлённо поднял брови. Даже ему, первенцу князя, не часто доводилось держать её в руках. Ввозимая в Радонию ликайскими купцами, она, как и многие другие товары, после начала разбойничьей вольницы стала необычайно дорогой не только для обычных людей, но и для знати: купцов и бояр. Вести предпочитали передавать на словах, но тут, видимо, дело было серьёзным.
Взгляд мужчины скользнул по сургучному оттиску. Голова зубастой щуки. Герб посадника Радограда. Всё сходится…
– Святослав, ступай. Тебе тут делать нечего.
– Но княжич…
– Иди!
Мальчишка сник, опустил русую голову и поплёлся прочь. Ему невыносимо хотелось узнать, что было в письме, но спорить с командующим он не смел.
Проводив оруженосца взглядом, Олег сломал печать, развернул письмо и, прищурившись, принялся читать. Постепенно его лицо изменилось: хмурость и суровость уступили место растерянности и смятению.
– Не томи, брат, что там? – напряжённо спросил Владимир, внимательно наблюдая за ним.
Княжич поднял глаза.
– Отец…
– Что отец?
– Он умирает. Меня срочно вызывают в столицу.
Глава 4. Синее пламя
– Княжич Олег, храни тебя Владыка Зарог! Спешу сообщить, что батюшка твой, всевластный государь Юрий Изяславович, при смерти. Совсем стал плох. Потому оставь поход и приезжай как можно скорее в Радоград. Дела княжества требуют твоего присутствия в столице. С великим почтением, посадник Радограда, Первый наместник князя, Тимофей Игоревич.
Владимир взял записку из рук Олега и медленно прочитал вслух.
– Что это значит? – нахмурился он. – О том, что отец болен никаких вестей не приходило.
– Нам вообще мало вестей приходило в последнее время, – глухо отозвался Олег. Тяжело вздохнув, он снова опустился на колоду у шатра. – Да уж, не таких писем я ждал…
Владимир внимательно посмотрел на брата.
– Что делать будешь? – тихо спросил он.
– Как что? Ехать нужно! – ответил за командующего Весемир. – Дело-то серьёзное. Чай, не шутки! Столичный голова просто так писать бы не стал. Он тебе не влюблённая девица!
Олег отвернулся, сжав кулаки.
Отец…
Мысль о том, что князя Юрия вскоре может не стать, больно уколола его. Он, воин, привыкший рисковать и своей, и чужими жизнями, вдруг почувствовал внутри что-то вязкое, неприятное. То, что для любого мужчины вынести тяжелее всего – ощущение собственного бессилия.
Глядя на разгорающуюся полоску зари, княжич глубоко вдохнул, стараясь унять дрожь в руках, и повернулся к остальным. Посмотрел на гонца и махнул рукой.
– Ты свободен. Благодарю за службу и за то, что так спешил доставить вести, пусть и печальные.
Гонец почтительно склонил голову.
– Княжич, а что передать посаднику? Прибудешь ли ты? – нерешительно, будто стесняясь, спросил он.
– Передай, что его письмо мною получено и прочитано, – сурово ответил Олег. – Более ничего.
– Но…
– Ступай. Или не понял с первого слова? – резко бросил княжич. – Разве не видишь, не до тебя сейчас!
Вестник замолчал, вновь поклонился и, пятясь, направился к лошади. Взяв её за поводья, он ещё раз взглянул на Олега, будто надеясь всё же услышать что-то ещё. Но, поймав холодный взгляд командующего, поспешил взобраться в седло. Затем, развернув кобылу, медленно побрёл прочь.
– Коли хочешь, – крикнул ему вслед Весемир, – на заставе передохни, поешь да поспи, а уж потом отправляйся в путь! Я уже распорядился, чашка с ложкой для тебя найдутся.
– Благодарю. Пусть Владыка узрит вашу доброту! – не останавливаясь, отозвался гонец через плечо и вскоре скрылся за шатрами.
Оба княжича и Весемир молча смотрели ему вслед.
– Что будешь делать, брат? – первым нарушил повисшую тишину Владимир, повторяя свой вопрос.
– У меня нет выбора. Поеду, – без колебаний ответил Олег.
– А поход? Дружина? С собой в столицу поведёшь?
Старший княжич покачал головой.
– Нельзя дело бросать. Мы ещё не добили врага. Сейчас уйдём – за зиму оправится, а весной всё опять повторится. Душить их нужно. До конца!
– Но если ты уедешь, а поход продолжится, кто же людей поведёт? – нахмурился Владимир.
– Как кто? Ты и поведёшь, – твёрдо ответил Олег, глядя брату прямо в глаза. – Других Изяславовичей в лагере нет. Очевидно, что по старшинству командование ложится на тебя.
Владимир молчал, но внутри него словно шла борьба. Он понимал, что брат прав и заданный им вопрос не имел никакого смысла – ответ на него был ясен заранее.
– Хорошо. Но будет ли дружина так же верна мне, как была предана тебе? – наконец спросил он. – Впереди холода. Зимний поход летнему не чета. Ты с войском с первого дня, а я гораздо меньше.
– Да, зима не лето, твоя правда, – кивнул Олег. – Но ты умен и храбр. Недаром метательными орудиями руководишь – там дураку не место. Дружина это знает и потому уважает тебя. И, уверен, станет уважать еще сильнее!
Подойдя ближе, он положил руку на плечо Владимира.
– Ты мой брат. Если верны мне – будут верны и тебе.
Тот неуверенно кивнул.
– Ладно. Но одному ехать нельзя.
– Да, я тоже подумал об этом.
– Тогда кого возьмёшь с собой? Путь неблизкий, да и опасный.
Олег задумался.
– Войско ослаблять не хочу, люди тебе нужнее, чем мне, – наконец произнёс он. – Возьму десяток ратников, не больше. Да заберу тяжело раненых – ни к чему вам возиться с ними.
– Хорошо, – согласился Владимир. – Тем, кто не стоит на ногах, в зимнем походе не место. Да и нам легче будет.
– А ещё Весемира возьму, – добавил Олег, кивая на воеводу. – Навоевался. От него тебе толку мало. Марши да переходы его доконают.
– Что?! – возмутился великан. – А до столицы ехать что, не марш?!
Братья усмехнулись. Все знали ворчливый характер исполина, но также было известно и то, что за ним скрывается добрый, мягкий нрав.
– Ты прав, это тоже марш. Но не такой, как тут. На телегу тебя положат, в покое доедешь и сил наберёшься, – с улыбкой ответил Владимир. – А здесь на соломе не полежишь! Да и дружина не должна видеть своего воеводу в таком состоянии. Боевой дух испортишь! А если будешь верхом ездить по сугробам да в драки ходить – к концу просинца тебя и схороним. С ногой-то, вижу, дела плохи.
Весемир молча кивнул, понимая, что младший княжич говорит дело. Он, воевода, правая рука командующего, не хотел покидать дружину, но, как опытный воин, знал – с такой раной в походе долго не протянешь. Разбойничий дротик – страшное оружие и в его ногу он вошёл глубоко. Их зазубренные наконечники просто так не вытащишь. После битвы его пришлось вырезать ножом, рана оказалась серьёзной. Кровь до сих пор сочилась из-под туго затянутых повязок.
– Вот и решили, – заключил Олег. – Теперь отдайте приказ – покалеченных уложить на телеги. Да подберите мне десяток дружинников в дорогу.
Он вдруг вспомнил о Святославе.
– Брат, рынду оставишь при себе. Он проворный, смышлёный. Мне мальчонка в дороге не нужен, а вот тебе пригодится. Отец его в войско определил, а военное ремесло только в лагере познаётся. Будь с ним справедлив, не обижай – дорог он мне стал.
– Хорошо. Будет так, как скажешь. Когда в путь отправишься?
– К полудню. Ждать незачем. Если Тимофей не врёт, то надо спешить.
Олег уже собирался вернуться в шатёр, но, уже развернувшись, вдруг замер.
– И вот ещё что. – Обратился он к воеводе. – В полдень построй дружину в полном снаряжении. Перед отъездом хочу сам сказать им слово. Негоже слухам разноситься. Пусть знают правду. Куда и зачем я уехал.
– Добре, – пробасил Весемир.
Олег задумался на мгновение, затем добавил:
– А ещё… позови-ка ко мне Ерашку-кузнеца. Прямо сейчас. Дело одно до отбытия надобно сделать.
***
Наступил полдень.
Солнце, достигшее зенита, неожиданно щедро согревало землю, словно позабыло, что осень уже близится к концу. Прохладное, туманное утро бесследно растаяло в его ярких лучах. Если ещё вчера казалось, что вот-вот выпадет снег и мороз надолго скуёт землю, то сегодня природа будто передумала, задержав зиму и преждевременно уступив место весне.
Олег, сидя верхом на лошади, молча смотрел перед собой. По обе стороны от него, как и накануне перед битвой, находились его верные соратники – Владимир и Весемир. Младший княжич старался казаться спокойным, но руки, нервно теребившие поводья, выдавали охватившее его волнение. Воевода же хмурился, его лицо, тёмное, словно грозовая туча, выражало смиренную обречённость. Очень уж не хотелось Весемиру покидать войско.
Перед ними, выстроившись рядами, стояла дружина в полном облачении. Ратники недоумённо переглядывались, перешёптывались, пытаясь понять, что происходит, но объяснений срочному сбору ни у кого не находилось.
Когда по лагерю пронеслась весть, что раненых грузят на телеги, а десятники спешно выбирают дюжину воинов для сопровождения, никто не знал, чего ждать. Одни решили, что войско снова выступает в поход, без обычного после битвы отдыха, и были удивлены, когда им не велели разбирать шатры.
Другие опасались нападения на лагерь. Третьи надеялись, что затяжной поход наконец завершился. Но ни одни, ни другие, ни третьи не угадали.
– Воины мои! Дружина! – внезапно громко воззвал Олег, подняв руку в требовании тишины.
Разговоры мгновенно стихли. Над лагерем повисла тишина. Только ветер продолжал завывать среди шатров, колыхая полы бирюзовых, вышитых серебром плащей княжичей.
– За минувшие годы мы вместе прошли множество дорог. Пожалуй, нет на северо-востоке Радонского княжества пути, куда бы не ступала наша нога. И на каждом из них мы добыли славу! Не опорочили ни святую веру, ни наше государство. Дрались храбро, очищая нашу землю от по́гани проклятой! И я бился рядом с вами, не щадя себя!
Он сделал паузу, глубоко вдохнул, прежде чем продолжить:
– Но настал час прощаться!
По рядам дружинников прокатился недоумённый ропот. Олег снова поднял руку, призывая к тишине.
– Отец мой, ваш князь, тяжко захворал. Я, как его старший сын и наследник Речного престола, должен отправиться в Радоград, чтобы быть рядом в эту трудную пору и помочь в делах…
– Так походу конец? – с надеждой в голосе выкрикнул кто-то из строя под одобрительный шёпот товарищей.
Олег осёкся, строго посмотрев на воинов.
Выражения лиц многих изменились. В их обычно мрачных глазах мелькнул проблеск неожиданной надежды. Стоя плечом к плечу, они обменивались взволнованными взглядами и едва слышно перешёптывались. Все были измотаны походом и мечтали лишь о том, чтобы наконец вернуться домой, в объятия своих жён и детей.
Однако, под взглядом командующего дружинники замерли, мгновенно умолкнув. Олег мог бы наказать того, кто нарушил порядок, выкрикнув вопрос, но, помедлив, решил оставить выходку без внимания.
– Нет, поход не окончен, – ответил он под разочарованный гул. – У нас не будет оправдания ни перед государством, ни перед павшими товарищами, если мы оставим разбойничьи орды в покое, позволим им оправиться за зиму и снова начать грабить. Мишка-разбойник не пойман, а значит, война продолжается!
– А кто же нас поведёт, княжич? – раздался новый голос из строя.
– А ну молчать! А не то следующей ночью стоя спать будете! – проревел Весемир. – Аль забыли, кто перед вами?
Подобный грому голос воеводы моментально приструнил дружину. Олег продолжил:
– С этого дня вас поведёт мой брат Владимир. Его ум и храбрость вам известны. Он ни разу не посрамил ни себя, ни меня, ни вас. Лучшего командующего во всей Радонии не найти!
Опять послышался возбуждённый гул. И снова княжич поднял руку, требуя тишины.
– Брату я доверяю, как самому себе. Будьте и вы ему так же верны, как были мне. А кто боится, что лишаю войско своего клинка, тот ошибается! Он остаётся с вами и, как прежде, будет разить врагов нашего княжества!
С этими словами Олег спрыгнул с лошади, вытащил из ножен меч и поднял его высоко над головой. Начищенное до зеркального блеска лезвие ослепительно сверкнуло в лучах полуденного солнца, а украшенный сапфиром эфес полыхнул холодным синим огнём. Перевернув клинок, княжич положил его на вытянутые ладони, повернулся к Владимиру и громко, чтобы все слышали, произнёс:
– Брат мой, прими этот меч в знак моего благословения! Теперь ты – глава войска и должен носить его! Пусть семиликий Владыка Зарог направляет твою руку против врагов, а сила не оставляет тебя в бою!
Младший княжич, не ожидавший такого подарка, на мгновение опешил, но тут же спрыгнул с коня и, склонив голову, шагнул к брату.
Они молча стояли лицом к лицу, осознавая, что этот момент значил больше, чем простая передача оружия из рук в руки. Сейчас для них не существовало ни палящего солнца, ни ветра, ни сотен глаз, пристально наблюдавших за происходящим.
– Посмотри, – Олег кивнул на лезвие. – Дружинный кузнец, конечно, не чета столичным, но Ерашка постарался.
Владимир взглянул на меч – Синее Пламя, древнюю реликвию рода Изяславовичей. Легенда гласила, что с этим оружием сам Изяслав Завоеватель прибыл в эти земли, высадившись со своим войском на Береге Надежды. Владимир видел его сотни раз, но теперь заметил нечто новое.
У основания лезвия, там, где сверкающий, острый как бритва металл соединялся с га́рдой, появилась витиеватая гравировка.
«Гордость. Вера. Верность.»
Он прочитал слова про себя, едва заметно шевеля чётко очерченными губами.
– Это – самое важное, что у нас есть. Запомни эти слова. Когда не будешь знать, как поступить, – посмотри на них. И сделай так, как велят тебе княжеская гордость, святая вера и преданность тому пути, которым ты идёшь. Это моё братское напутствие.
Владимир поднял глаза и поймал пристальный взгляд Олега.
– Любимый брат мой, – громко произнёс младший из княжичей, хотя слова давались ему непросто. – Я с благодарностью принимаю этот меч. Отныне он станет продолжением моей руки! Не посрамлю тебя – ни в бою, ни в делах! И напутствие твоё запомню накрепко.
Последние слова он добавил тихо, почти шёпотом.
Владимир принял клинок из рук командующего. На мгновение замер, склонив голову, будто пытаясь разглядеть что-то в отражении на гладкой поверхности металла. Затем шагнул вперёд и, крепко сжав рукоять, обнял Олега. Тот, замерев на миг, ответил, с силой обхватив младшего брата обеими руками.
– Я сделал всё, что мог. Дальше всё зависит только от тебя. Береги себя и дружину, – тихо прошептал он так, чтобы больше никто не слышал. – Надеюсь, скоро свидимся.
Разомкнув объятия, Владимир коротко кивнул, тепло посмотрел брату в глаза. Затем, резко повернувшись лицом к дружине, шагнул вперёд и высоко поднял Синее Пламя над русой головой.
– Разом! – выкрикнул он изо всех сил.
Внезапный порыв ветра распахнул полы его изумрудного плаща.
– Разо-о-ом! – многоголосо грянула дружина, сотрясая воздух.
У многих воинов, растроганных тёплым прощанием братьев, на глаза навернулись слёзы.
«Разом, брат, разом…» – мысленно повторил Олег, стоя за спиной Владимира.
Глава 5. Великий тракт
Великий тракт, словно разбойничья стрела, вонзившаяся в тело несчастной жертвы, рассекал Радонию насквозь. Его начало терялось где-то в отрогах Каменецких гор, и любой путник, не сворачивая, мог проехать по нему без остановки – от Каменца, столицы Каменецкого княжества, до Радограда, столицы Радонского.
Но времена его величия давно остались в прошлом. Сегодня тот, кто впервые видел этот путь, вряд ли назвал бы его великим.
Сейчас тракт был узкой просёлочной дорогой, способной вместить в ряд не более одной телеги. Обозы, идущие навстречу друг другу, вынуждены были съезжать с колеи, а измученные лошади тащили груз по кочкам и корягам, пропуская встречных. В некоторых местах он так истончался, что только опытный следопыт мог по примятой траве и сломанным веткам определить, что здесь проходит дорога. Да и то – если телега проезжала недавно. Но с тех пор, как разгорелся пожар разбойничьей вольницы, даже такие следы стали редкостью.
Раньше Великий тракт был важнейшей артерией Великого Княжества. По нему двигались купеческие караваны, пешие путники и дружины великокняжеского войска, а сам правитель мог беспрепятственно объезжать свои земли, добираясь туда, куда не доходили суда по Радони и её притокам. Вдоль пути, словно грибы после дождя, росли сёла, в которых можно было пополнить запасы или переждать непогоду.
Но после разделения державы Великим князем Игорем, дедом Олега, на два самостоятельных государства – южное Радонское и северное Каменецкое – значение сухопутной дороги стало угасать, уступая первенство речному пути. А после нашествия Ханата тракт и вовсе был заброшен.
Без малого три десятка лет прошло с тех пор, как Великая Степь, будто проклятие, изрыгнула несметные орды неведомых ранее, чужих, кровожадных воинов.
Весемир, который уже тогда служил в дружине, рассказывал Олегу, что перед этим бедствием разразилась невиданная буря. Семь дней солнце скрывалось за густыми тучами, и день не отличался от ночи. Дождя не было ни капли – только ослепительные молнии озаряли небо, а раскаты грома были такими оглушительными, что листва осыпалась с деревьев. Лесные звери выли от страха, и этот вой разносился над всей Радонией, заставляя сердца сжиматься от предчувствия беды.
А на восьмой день к восточным границам Каменецкого княжества, у стен некогда могучего города-крепости Ротинец, появились ханатские орды.
Возникнув будто из ниоткуда, они на своих низкорослых, жилистых лошадях в считанные недели пронеслись по Великому тракту с севера на юг, грабя и убивая, разрушая и сжигая.
Сёла, когда-то густо стоявшие вдоль него, исчезли навсегда. Теперь путник, рискнувший пересечь Радонию сухопутным путём, мог лишь по вросшим в землю, обгоревшим остовам домов, скрытым высокой травой и кустарником, догадаться, что здесь когда-то кипела жизнь.
Олег был ещё ребёнком, когда случилось нашествие. В его памяти тракт всегда оставался таким, каким он видел его сейчас – заброшенным и пустынным. Он не знал его расцвета, не застал времени, когда этот путь находился в зените своей славы. И теперь, преодолевая версту за верстой, княжич всё меньше верил, что когда-то дорога могла оправдывать своё название.
Путь до Радограда – некогда столицы Великой Радонии, а ныне главного города Радонского княжества – должен был занять около двух недель. Но чем дальше Олег со спутниками удалялся от оставленного на Владимира лагеря, тем больше убеждался, что не увидит ни одного напоминания о прошлом величии.
По берегам Радони и её притоков ещё оставались крупные сёла, но здесь, на отдалении от реки, запустение было абсолютным.
«Хорошо, что ханаты не умеют плавать», – с мрачной иронией думал Олег, вспоминая другие города княжества, Изборов и Ярдум. Окажись они на пути захватчиков, их постигла бы та же судьба, что и Змежд – некогда цветущий город, практически полностью стёртый с лица земли. Лишь благодаря невероятным усилиям его посадника, отца Святослава, он был возрождён.
Слевск, Скрыжень, Ротинец… Они не получили второго шанса. Жителей там не осталось вовсе.
Однако не только те, кто жил у дорог, познали разруху. Даже города и деревни, которым удалось уцелеть, оказались в состоянии упадка. Ханатская дань, наложенная на Каменец и Радоград, истощила некогда процветающие земли. Каждый год сотни телег, гружёных добром, отправлялись в Ханатар, столицу захватчиков, в обмен на хрупкий мир.
Но хан ждал не только мехов, драгоценностей и тканей. Главным товаром были люди.
Многие сотни русоволосых юношей и девушек, сбивая ноги в кровь, преодолевали тысячи вёрст, чтобы навсегда остаться в чужом мире – рабами, наложницами, военной добычей. Чтобы жить и умереть на чужбине на правах домашнего скота.
Тяжёлые мысли вновь и вновь охватывали Олега, когда он замечал вдоль дороги покосившиеся хаты – явно построенные после нашествия, но уже брошенные. Их обитатели исчезли, были угнаны, растворившись в ненасытной бездне Степи.
– Помнишь ли ты, каким был тракт раньше? – однажды спросил он Весемира, шагая рядом с его телегой.
Воевода, угрюмо нахмурившись, буркнул в ответ:
– Помню. Всё иначе было. Каждую версту – хутор или трактир. Хоть и захудалый, а выпить и поесть можно было.
Он вытянул вперёд руку, толстую, как ствол дерева, указывая на подножие рыжего, покрытого пожухлой травой холма.
– Там стоял трактир. Да, точно там.
– Как он назывался? – с интересом спросил Олег.
– Никак не назывался, – помолчав, ответил Весемир. – Трактир, да и всё. Это у вас в столице кабакам имена придумывают, на выселках такого нет. Хозяин… то ли Гришка, то ли Мишка… не помню. Дочка у него была… С формами. Добрая баба! На лицо, правда, страшная, как навья, но улыбчивая! Мёд да пиво разносила.
Воевода хмыкнул, покачав головой.
– Пойло там было дрянное, еда – того хуже, хороший хозяин и свинье бы такое не дал. Но народу всегда тьма! Купцы, охотники, бродяги. А теперь – гляди, один остов остался. Да и тот в траве почти не виден.
Княжич посмотрел вперёд. Остатки строения едва угадывались среди мрачных зарослей бурьяна. Где-то над головой, разрезав влажный воздух с плывущими в нём клочками тумана, пронзительно закричал ворон, будто подтверждая произнесённые великаном слова.
Олег вздрогнул. Этот короткий разговор оставил у него тягостное чувство. Больше он не спрашивал Весемира о том, каким был Великий тракт прежде.
***
Длинные осенние путешествия по пустынной местности редко бывают насыщенными событиями. Они довольно однообразны и неспешны, плывут, оставляя после себя в памяти лишь смутные образы раскисших дорог и бесконечно сменяющихся унылых пейзажей.
Олег, как и подобает верному слуге Зарога, ежедневно возносил молитвы. Он строго следовал заветам, описанным в священном Зикрелате – молился дважды в день: на закате, останавливаясь на ночлег на обочине, неподалёку от тракта, и перед рассветом, вновь отправляясь в путь.
Каждый раз, собираясь обратиться к Владыке, княжич доставал из-под рубахи серебряную цепь с выполненным из того же металла медальоном, который с детства носил на груди. На его поверхности, искусно выгравированный радонским мастером, сиял священный для каждого подданного княжества знак – седъмечие, семь скрещённых мечей, заключённых в круг. Символ святой веры – заревитства.
Взяв медальон правой рукой, Олег сжимал кулак, накрывая его левой ладонью, опускался на колено и подносил сложенные руки к губам.
– Владыка, хозяин земли и неба, к тебе взываю, – тихо шептал он, закрывая глаза.
Если я виновен в прелюбодеянии – порази меня огненным клинком.
Если запятнал себя воровством – сокруши деревянным лезвием.
Если предался безделью – настигни костяным клинком.
Если возгордился, забыв о смирении, – обрушь на меня свой каменный меч.
Если убил безвинного – порази ледяным лезвием.
Если попрал законную власть на земле – пронзи железным мечом.
А если предам веру в тебя, Владыка, не дай мне сделать ни единого лишнего вдоха – срази тотчас своим сияющим серебряным клинком!
Закончив молитву, Олег просил о том, что тревожило его сердце: послать Ирине силы сдержать данное ему обещание, смилостивиться над отцом, отвести от него болезнь, помочь Радонской земле восстать из пепла, укрепить княжескую власть, даровать сил ему и близким. Просьб было много. Но княжич верил, что Владыка слышит каждое слово, если оно сказано от чистого сердца.
День шёл за днём, и Олег, погружённый в свои мысли, всё меньше мог отличить один от другого. Осенний тракт тянулся бесконечной полосой, серой, безлюдной, печальной. За всё время их обоз не встретил ни одного путника – ни пешего, ни конного.
Так минули две недели.
Глава 6. Город на скале
На отрезке последнего дневного перехода Тракт начал резко петлять между холмов, а затем внезапно вывел путников к Радони. Дальше дорога шла вдоль крутого, покрытого серыми осенними травами берега.
Для Олега этот пейзаж не был нов, но те, кто оказывался здесь впервые, не могли сдержать восторженного возгласа, когда за очередным пригорком перед ними вдруг открывался величественный вид на главную реку двух княжеств.
Радонь в этом месте раскинулась свободно. Поток лазоревой воды шириной в несколько вёрст пытались сдержать крутые, обрывистые берега, ставшие домом для бесчисленных полчищ чаек и ласточек, гнездившихся здесь, на песчаных уступах. Сбившись в стаи, они кружили над водой, заполняя воздух пронзительными криками.
Однако даже отвесные стены не всегда могли сдержать её грозный нрав – раз в несколько лет весной река разливалась настолько, что, оказавшись посреди неё в лодке, нельзя было разглядеть берега.
Как истинный речной житель, Олег почувствовал приближение к воде задолго до того, как увидел её. Студёный влажный воздух, насыщенный запахами тины, глины и трав, принёс знакомое ощущение дома и вызвал лавину воспоминаний.
К тому времени, когда обоз выбрался на этот участок, солнце уже взошло, и Радонь предстала перед путниками во всей своей гордой красе – сверкающая, переливающаяся в утреннем свете всеми цветами радуги. Мириады искр, словно россыпь драгоценных камней, усыпали её гладь. Хотя Олег провёл детство и юность на этих берегах, он не смог сдержать восхищённого возгласа:
– Радонь! – княжич натянул поводья, останавливая коня, и глубоко вдохнул влажный воздух.
Дружинники, следовавшие за ним, были поражены не меньше. Даже Ренька, молодой парень, выросший на Радони, невольно присвистнул, завидев реку.
– Отродясь столько воды не видывал! – восхищённо протянул он.
«Конечно», – подумал княжич, услышав его слова.
Змежд, родина Реньки, находился в устье Зыти, у самой границы с Каменецким княжеством. Там Радонь раза в три у́же, хоть и глубже. Такой, какой она предстала сейчас – величавой, княгиней среди рек, – её можно было увидеть только здесь, на подступах к Радограду.
Теперь тракт стал ровным, без прежних резких поворотов. К полудню начали встречаться небольшие поселения – рыбацкие деревушки. Их жители с рассветом уходили к воде, забрасывали сети и вскоре возвращались с корзинами, доверху наполненными рыбой. Радонь изобиловала добычей: здесь ловили сазана, леща, судака, плотву, а порой и знаменитых радонских щук, грозных водных хищников, чья длина достигала пяти аршин.
Вдоль крутых берегов крестьяне прокапывали лазы, по которым спускались к воде и поднимались с уловом обратно. Добытую рыбу выкладывали перед хатами, где жёны и дочери потрошили и чистили её. Лишнее отправляли в Радоград – на продажу или для обмена на соль, зерно и другие необходимые в хозяйстве вещи.
Все эти поселения были похожи друг на друга: бедные, выцветшие, немноголюдные. Олег слышал, что раньше всё было иначе, но теперь их облик вызывал лишь уныние. Воздух здесь был тяжёлым от запаха чешуи и рыбьих потрохов. Перед хижинами, на раскинутых сетях, сушился улов, которым предстояло питаться всю зиму. Обычно летом у этих сетей сидели младшие дети, отгоняя мух, но теперь, с наступлением холодов, насекомых почти не осталось, и малыши, освободившись от своей нехитрой обязанности, выбегали на тракт, чтобы посмотреть на дружину.
Стоя у самой дороги, девчонки и мальчишки в сером, ветхом рубище с любопытством рассматривали чинно проезжающих мимо ратников, внимательно изучая их тяжёлые секиры и щиты, сверкающие на солнце. Те, завидев восторженные взгляды, невольно расправляли плечи, гордо задирали подбородки, стараясь выглядеть ещё внушительнее. Воины наслаждались вниманием.
Олег усмехнулся, заметив, как простые мужики из радонских городов и деревень, едва не надувая щёки, важно покачивались в сёдлах, стремясь произвести впечатление на оборванных рыбацких детей. Юный Ренька, стремясь казаться старше, так напрягся, до отказа набрав в грудь воздуха, что его лицо стало ярко-красным. Казалось, ещё немного – и он не выдержит напряжения, лопнув от натуги.
Чем ближе вереница всадников и телег подъезжала к столице, тем оживлённее становились берега Радони. Теперь здесь можно было встретить не только рыбаков, но и торговцев, ремесленников, всех, кто стремился жить ближе к центру государства, но не нашёл себе места в самом Радограде.
Тут и там появлялись харчевни, постоялые дворы, небольшие рынки, где предприимчивые купцы за бесценок скупали у местных жителей свежую и вяленую рыбу, раков и другую добычу, чтобы затем с выгодой продать её в столице. Несмотря на низкие цены, желающих сбыть товар не убавлялось даже с приходом холодов.
Завидев бирюзовый плащ княжича, люди останавливались, склоняли головы в знак почтения. Те, кто был в шапке, снимали её и прижимали к груди. Олег, проезжая мимо, изредка кивал в ответ, но чаще просто смотрел перед собой. Он, привыкший к походной жизни, был далёк от столичных церемоний и не придавал им большого значения.
Так путники проехали большую часть дня, и, наконец, вдалеке показался поражающий воображение город.
Радогра́д.
Великая Радонь текла по этим землям тысячи лет. Где-то она разливалась в широкие затоки, где-то юлила, будто лжец, пытающийся скрыть правду. Здесь, в самом сердце княжества, она достигла своей полной мощи, но однажды встретила препятствие – огромную отвесную скалу, твёрдую, как воля Владыки. Однако река, подобно мудрой княгине, не стала бороться с преградой, а, приняв её в свои объятия, обвила с двух сторон, образовав остров. Так посреди стремительных вод возник Радоград.
Остров оказался идеальным для строительства. Его верхушка была ровной и плоской, а берега – крутыми и отвесными. В северной части, где располагался посад с ремесленными слободами и рынками, скалы поднимались над водой на три десятка аршин. В южной, где стоял детинец, отделённый от остального города стеной, высота берегов достигала сорока аршин.
Эти природные укрепления делали столицу Радонского княжества неприступной. За всю её историю город был взят лишь однажды – сотни лет назад, когда Великий князь Изяслав пришёл из Северных земель с дружиной и покорил племена, живущие здесь испокон веков: заря́н, валуко́в и ляда́нцев. От великого завоевателя вёл свой род и Олег, его прямой потомок.
Кроме отвесных скалистых берегов по приказу Изяслава была выстроена каменная стена высотой в десять саженей с бойницами вокруг всего Радограда. Камень для этих укреплений выдалбливали из самой тверди острова, углубляя его внутреннюю часть.
Попасть в столицу без разрешения князя не могло ни одно войско. А уж преодолеть стены, ставшие продолжением крутых скал, казалось делом вовсе невозможным.
Но даже если бы кто-то и сумел под тучей стрел защитников пересечь бурные воды Радони, подплыть к отвесным берегам, взобраться на них и преодолеть стену, ему предстояло бы совершить ещё один подвиг.
Остров, ровный, словно торговая площадь, имел в южной части дополнительный выступ высотой в десять саженей. Именно там, возвышаясь над посадом, находился каменный детинец – наиболее укреплённое место столицы, где жил князь со своим двором.
Какими бы силами ни обладал враг, взять столицу приступом было невозможно. Мысль о том, что кому-то это под силу, казалась столь же нелепой, как сказка, которой старики забавляют неразумных детей, сидя вечером у очага.
Воистину, грозная крепость.
Когда вдали замаячили очертания столицы, Олег невольно улыбнулся.
Здесь прошла его юность. В памяти сами собой возникли лица родных. Хохочущее, усыпанное веснушками лицо маленького Ярополка. Серьёзное лицо матери, княгини Рогнеды, которая при всей строгости всегда будто сдерживала улыбку. Скромный, кротко опустивший глаза Дмитрий. Высокий, статный отец. Жив ли он ещё?
Но больше всего сердце Олега заставляло трепетать то, что здесь его ждала она – стройная, прекрасная Ирина. Нежная и хрупкая. Добрая и нежная.
Его любимая. Та, к которой он мысленно возвращался бесчисленное количество раз. Та, о ком вспоминал всегда, отправляясь в бой, рискуя расстаться с жизнью.
Сколько же слёз пролила эта бедная девушка, страдая в одиночестве! Сколько невзгод вынесла на своих хрупких плечах! Олег хотел было пришпорить коня, чтобы быстрее достичь города, но, опомнившись, взял себя в руки.
Сырой осенний день стремительно таял. Солнце, достигнув высшей точки, постепенно начало клониться к закату. Княжич ехал молча, погружённый в свои мысли. Справа внезапно возник Весемир, держа поводья крепкой рукой и хитро улыбаясь сквозь косматую бороду. Приблизившись, он кивнул в знак приветствия.
– Весемир, ты какого лешего в седле?! – возмутился Олег. – А ну живо на телегу!
– Ты мне, княжич, конечно, голова, – усмехнулся великан, расправляя могучие плечи. – Да вот только не могу я в столицу на телеге приехать. Засмеют! Я ж, как-никак, воевода, надобно вид соблюдать. Да и умаялся я с калеками. Весь день стонут да охают на каждой кочке – сил нет терпеть!
Олег внимательно посмотрел на довольного собой воеводу и, помедлив, улыбнулся в ответ. Спорить с ним сейчас не хотелось. Что-то тёплое и светлое зрело у него в груди. Мужчина перевёл взгляд на сверкающие в закатном свете верхушки столичных бастионов. Вдалеке уже можно было различить густые тучи чаек, кружащих над посадом.
Ох уж эти чайки…
Их резкие, пронзительные крики были неизменным фоном его детства и юности. Раздражающие. Пробирающие до костей. И, в то же время, такие родные.
– Гляди, княжич, уже маковки крепостных башен видать! – радостно произнёс Весемир, указывая толстым пальцем на Радоград. – На солнце блестят, переливаются! Мне, когда я мальчишкой был, дед мой, Игорем его звали, всё про эти маковки серебряные рассказывал. Он у меня сапожником был. Бывало, сядем с ним на лавку – он сапоги чинит, а я гляжу на детинец и слушаю его рассказы.
– Не знал, что твой дед был сапожником. Что же он рассказывал? – задумчиво спросил Олег, не отрывая взгляда от приближающегося города.
– Да много чего. К примеру, про то, кто тут раньше жил. В давние времена, – Весемир понизил голос, словно раскрывал древнюю тайну, – на этом острове уже был город. Жили в нём люди, назывались… Ляданцы или как-то так. Радонь они Ля́данью звали, оттого и сами прозвались ляданцами. Так вот верили они в Матерь-Землю, а прямо посерёдке их города, где сейчас Храмовая площадь, стояли фигуры. Здоровенные, чёрные, из чернодерева выточенные. Матерь-Земля и её… как их… сподручные, духи или вроде того.
– Истуканы? – недоверчиво переспросил Олег.
Представить что когда-то на месте главного святилища Зарога стояли языческие идолы было трудно.
– Истуканы, да. Только не простые. Тела у них были деревянные, а вот головы – другое дело. Из чистого серебра отлиты!
Княжич скептически покачал головой, но Весемир лишь ухмыльнулся.
– Ты не смейся. Это не байки! Предок твой, Великий князь Изяслав, семь раз благослови, Зарог, его имя, когда с дружиной сюда пришёл, этот самый ляданский город и взял. Вошёл, а там эти истуканы. Ну, он и приказал веру святую не срамить и Владыку не гневить – идолов убрать. Дружинники давай их топорами рубить.
– И что, ляданцы не воспротивились?
– А как же! Хотели. Да куда там! Норов у князя был крутой. Самых ретивых сразу в Радонь, то бишь в Лядань по их названию, сбросили. А идолов всё равно посекли. Те, что поменьше, – просто выкорчевали и повалили, а тулова на дрова пустили. Только Матерь-Землю не стали рубить – больно велика была. Ей только руки отсекли, да потом, как остальных, в реку сбросили. Ляданцы стояли, глядели и плакали, но сказать что-то поперёк князю не смели.
Весемир рассказывал взахлёб, увлечённо. Было видно, что он свято верит в каждое слово этой истории.
– А головы истуканьи-то, серебряные, Изяслав повелел переплавить на пластины, да ими маковки башен в детинце покрыть, чтобы слава Радограда издалека была видна. – Воевода сделал глубокий вдох, переводя дыхание. – Говорят, что серебро то не простое, а заговорённое, и коли вражья дружина к городу подступает – маковки зелёным светом сиять начинают. Сам не видел, да люди рассказывали. А истукан Матери-Земли, что в реку сбросили, по Радони плыл, да его далеко отсюда на берег вымыло.
Он махнул рукой вниз по течению.
– То место, где его из воды выбросило, теперь Бесовой Ренью зовут, и если человек нашей веры – лучше туда не соваться. Бесовщина там творится.
– Какая ещё бесовщина?
– Того не знаю, – развёл руками великан. – Говорю же – не ходят туда те, кто в Зарога верует.
– А откуда знаешь тогда?
– Люди говорят.
– А не байки ли это? – с сомнением протянул Олег.
– Может, и байки, конечно, – обиженно буркнул Весемир. – Да только я сам видел, как маковки те натирают, чтобы блестели. Бережно так, точно как сокровище какое! Парнишка залазит наверх и давай тряпочкой по ним водить, сильно так…
– Весемир, гляди, – внезапно прервал его Олег, указывая вперёд. – Кто это с княжеским знаменем скачет?
Воевода прищурился. Впереди, вдоль берега, навстречу им мчались всадники. Ветер трепал их плащи, а над головами развевался княжеский герб – серебряная чайка на бирюзовом полотнище.
Глава 7. Возвращение домой
– Княжич, – коротко склонив голову, громко обратился к Олегу один из трёх всадников. – Позволь представиться. Меня зовут Ростислав. Я голова Радоградской стражи. Прибыл по поручению посадника Тимофея Игоревича.
– Ростислав? – переспросил Олег, перебив его.
Княжич сложил руки в походных перчатках на передней луке седла и пристально посмотрел на собеседника, внимательно изучая его лицо.
– А где Глеб Васильевич? Верно, Весемир? Был ведь Глеб головой стражи, я не путаю?
– Верно, верно, – подтвердил воевода. – Глеб, Василия Железнорукого сын. Мы с ним вместе в дружине служили. Ох, и силён был мужик, хоть и на голову ниже меня!
Олег медленно перевёл взгляд с великана на посланника Тимофея. Ростислав, высокий мужчина в кожаных латах, поверх которых был наброшен плащ с серебряной вышивкой – отличительный знак городской стражи, смутился.
Повисла тишина. Княжич молчал, изучал его лицо. За спиной нетерпеливо сопели дружинники. Всем, и здоровым, и раненым, хотелось скорее добраться до города, где их ждали мягкие, насколько возможно, постели и свежая, горячая пища.
– Так где Глеб? – прищурившись, повторил Олег. – И почему посадник посылает гонцов с княжеским знаменем? Тимофей Игоревич, конечно, рыба крупная, но, чай, не государь.
– Глеб, княжич, захворал, – неуверенно ответил новый голова стражи. – Летом, месяца три назад. Бесову болячку подхватил, да и отправился к Зарогу. Меня вместо него назначили…
– Кто назначил?
– Тимофей Игоревич, посадник наш.
– Понятно. А знамя княжеское тоже Тимофей Игоревич тебе дал?
– Да, он велел взять. Князь-то наш, батюшка твой, хворает сильно. Так Тимофей Игоревич в делах ему главный помощник. Первый наместник всё-таки! От его имени нас и направил.
Олег поджал губы. Ответ ему не понравился. Он снова посмотрел на Весемира. Тот, склонив голову набок, изучал лицо посланника и не спешил встречаться взглядом с княжичем.
Помедлив, Олег вновь обратился к всаднику:
– Ты знамя-то убери, – строго произнёс он. – Не хватало ещё, чтобы кто попало прикрывался гербом моего рода.
– Но я ведь не кто попа…
– Убери, – с нажимом повторил мужчина
– Да, конечно, прости, княжич.
Ростислав повернулся к своим спутникам и подал знак. Те молча свернули полотнища и аккуратно спрятали их.
– Так-то лучше, – Олег улыбнулся уголком рта, откинувшись в седле. – И чего же желает Тимофей Игоревич?
– Посадник Радограда смиренно просит тебя, княжич, в город через Бирюзовые ворота не входить, а подняться через Малые. Опасается, что горожане, завидев тебя, поддадутся волнениям, ведь никто не знает о тяжкой болезни твоего отца. Если кто-то заметит, что ты вернулся раньше срока, могут поползти слухи. А всякого рода пересуды, сам понимаешь, могут к чему угодно привести, и любой может ими воспользоваться чтобы как-то навредить государству. Лучше проявить разумную осторожность.
В Радоград можно было войти только через двое ворот. Первые, главные, носили название Бирюзовые – они были украшены княжеским гербом и выложены бирюзой. К ним вела лестница, вырубленная прямо в отвесной скале. Такая узкая, что по ней могли идти лишь двое в ряд. Подняться можно было и с помощью подъёмных приспособлений, платформ, коих у Бирюзовых ворот было две. Сбитые из чернодеревных досок настилы крепились к тяжёлым цепям, которые тянули тягловые лошади, наматывая их на бобины. Так наверх доставляли знатных людей, которым не по чину было идти пешком, товары и припасы.
Те, кто приплывал к Радограду, разгружали лодки, плоты и ладьи на каменном выступе у подножия скал, называемом Нижним пятаком. От него вверх шла лестница к воротам и к нему же опускались платформы. Через Бирюзовые ворота входили в город и покидали его именитые гости, бояре, купцы, а также князь, отправляясь в путешествие или на охоту.
Вторые, Малые ворота, вели прямо в детинец. Великий князь Изяслав, опасаясь заговоров и волнений горожан, древнюю языческую веру которых он решил искоренить, повелел прорубить секретный путь в породе, на которой стоял город.
Завоеватель рассчитывал воспользоваться этим ходом лишь в крайнем случае – если потребуется скрытно покинуть столицу. Узкий коридор, освещённый мерцающим светом факелов, вёл вниз по сотне грубых ступеней. Спустившись по ним и пройдя сквозь тяжёлые дубовые двери, укреплённые железом, человек оказывался на узком карнизе у самого основания скалы, прямо над водой.
Малые ворота считались тайным выходом и почти не использовались. О них знали лишь высшие бояре, старшие члены княжеского рода, и голова городской стражи.
– Значит, посадник требует, чтобы я, первенец и наследник Радонского князя, пробирался в собственный дом тайком, будто вор?! – голос Олега стал жёстким, полным возмущения. – Ты слыхал, воевода, как нынче княжичей в столице встречают?
– Нет, что ты! Не требует, княжич! – испуганно залепетал Ростислав, склонив голову. – Просит, милостиво просит! Умоляет даже! Ради блага государства.
– Просят тебя, княжич, просят, – ухмыльнулся Весемир, поглаживая подёрнутые сединой усы. – Политика, однако! Мы-то привыкли – на войне всё просто: напрямик да напрямик. Видишь врага – бей. Не можешь бить – беги. Не можешь бежать – молись. А тут вона как! Понимание надобно иметь.
Олег заставил себя подавить вспыхнувшую внутри злость. Он оглянулся. Позади него замер обоз с ранеными дружинниками, уставшими от долгого перехода. Княжич задумался.
Возможно, Тимофей Игоревич был прав.
Возвращение из похода раньше срока, да ещё и с телегами, полными калек… Не решат ли в городе, что они – это всё, что осталось от княжеской дружины? Слухи разойдутся мгновенно. И кто их потом опровергнет? Разнесётся молва, будто радонская сила сгинула на северо-восточных рубежах. Такие пересуды опасны, ведь всегда найдётся тот, кто попытается ими воспользоваться.
Ростислав нетерпеливо ёрзал в седле, ожидая ответа.
– Добре. Раз уж посадник челом бьёт – так и быть, – наконец решил Олег. – Пойду через Малые ворота. Дружину мою на ладьи посадите, а как прибудем – позаботьтесь о людях. Накормите, к раненым лекарей приведите.
– Княжич, нельзя дружину в город, – тихо, почти заискивающе, вставил Ростислав. – Мужики пить начнут, болтать по трактирам, разнесут по столице всё в один миг! Что было и чего не было, расскажут. Мы их тут, на берегу, в деревне оставим и позаботимся, конечно же. Тимофей Игоревич уже и лодки со снедью снарядил. О людях своих не беспокойся!
– Что скажешь, Весемир? – спросил Олег, взглянув на воеводу.
– Тебе решать, княжич. Люди утомились, переход длинный был. С обозом до города только к ночи доберёмся. Это самое быстрое. Велишь ехать – поедем, не велишь – горевать не станут. За стенами и пиво, и топчаны найдутся.
– Хорошо, – после короткого раздумья согласился Олег. – Но ты, Весемир, поедешь со мной.
Воевода коротко кивнул.
– Назначь кого-нибудь главным. Будет командовать обозом. Пусть людей разместят, кого куда.
Великан развернул коня и поскакал отдавать распоряжения.
– А ты, – Олег повернулся к Ростиславу, – головой за них отвечаешь. Если хоть чего не хватит – еды, пива, лекарей – берегись!
– Будет исполнено, княжич! – поспешно кивнул посланник.
– Ну, где лодка ждёт?
– Тут, недалече. Вмиг доскачем! Без телег-то быстрее, к закату будем в детинце!
Олег, дослушав слова командующего городской стражей, усмехнулся и поднял глаза к небу.
Там, кружась, будто в танце, плыла стая чаек, крича пронзительно и требовательно. Издалека их силуэты, розовые в свете заката, казались мошкарой, клубящейся над водной гладью.
Княжич медленно вдохнул прохладный, влажный речной воздух, будто пробуя его на вкус.
Поход окончен. Он вернулся домой.
***
Всадники добрались до лодки, когда красный солнечный диск своим краем уже коснулся линии горизонта.
Осенние дни коротки, и, чтобы успеть добраться до Малых ворот до темноты, трое путников скакали быстрой рысью, не позволяя себе отвлекаться на созерцание величественного образа приближающейся столицы.
Ростислав оставил своих спутников в деревне, поручив им следить за размещением дружинников, так что теперь путь продолжали только Олег, Весемир и сам голова Радоградской стражи.
Лодка, на которой предстояло пересечь Радонь, стояла привязанной к вбитому в землю колу в уединённом месте, укрытом зарослями лозы. Рядом, на берегу, сидели четверо крепких мужиков – гребцы. Они были одеты в одинаковые тулупы, накинутые поверх выцветших холщёвых рубах, а их головы покрывали меховые шапки из нутрии, которой в Радони водилось великое множество.
Мужики вполголоса о чём-то переговаривались, но, завидев княжича, сразу замолкли. Поднявшись, они сняли мохнатые шапки и, прижав их правой рукой к груди, низко склонились.
– Она? – спросил Олег у Ростислава, указывая на лодку.
– Она, княжич, она. Можно отправляться, – быстро ответил голова стражи. – Поспешать надо, коли хотим до темноты успеть.
Олег внимательно осмотрел судно, затем бросил короткий взгляд на гребцов, стоявших смирно, не поднимая глаз. Убедившись, что всё в порядке, он махнул рукой Весемиру и направился к лодке.
Княжич приблизился к берегу и ступил в воду. Осенний холод мгновенно обжёг его ноги через сапоги. Он невольно поёжился, но не задержался ни на миг – ухватился за борт, подпрыгнул и ловко взобрался внутрь.
Весемир полез следом, и лодка опасно накренилась под его тяжестью. Если бы гребцы вовремя не подскочили, чтобы удержать судно, оно наверняка опрокинулось бы.
– Бесова приблуда! – пыхтя, выругался воевода. – Неужто нельзя было на берег её втащить, чтоб проще забираться? Аль лесенку какую придумать…
Наконец, вскарабкавшись, он пригнулся, держась обеими руками за борт, прошагал к носовой части и уселся рядом с Олегом. Лодка вновь опасно качнулась, корма приподнялась, оторвавшись от воды. Гребцы быстро заняли свои места. Последним, сняв верёвку с кола, внутрь забрался Ростислав.
– Гребите! – коротко скомандовал он.
Вёсла разом погрузились в воду, вспенив её, и резко толкнули лодку вперёд. Мужики гребли слаженно, с молодецкой силой двигая судно, оставляя за бортом расходящиеся в стороны волны. Их ритмичные вдохи и выдохи смешались с плеском волн и пронзительными криками чаек над головой.
Набрав ход, судно стремительно понеслось к южным отрогам Радограда.
Олег молча разглядывал реку. Вдалеке, на её гладкой поверхности, блестящей в последних лучах осеннего солнца, сновали сотни лодок. Одни плыли к острову, другие – от него, перевозя грузы и людей. Водный путь был оживлён не меньше, чем главный посадский рынок столицы в седьмицу.
По реке двигались самые разные суда – от крохотных рыбацких долблёнок до тяжёлых купеческих барок. Виднелись и военные ладьи со свёрнутыми парусами на высоких мачтах. Радонь жила своей жизнью, полной движения, звуков и суеты.
Олег знал – ещё несколько недель, и суровые морозы, столь частые в этих краях, скуют её воды. Тогда вереницы судов превратятся в цепочки повозок и пеших путников, пересекающих замёрзшую реку, таща, неся и катя свои грузы к Нижнему пятаку.
Студёный воздух, так и не успевший прогреться за короткий осенний день, подсказывал: зима в этом году явится, как обычно, без промедления. Надеяться на то, что тепло продлится и смягчит наступление холодов, не следовало.
Судно шло в стороне от оживлённого маршрута, соединяющего берег с главным входом в город. Олег бросил взгляд на Весемира и вдруг поймал себя на мысли, что никогда прежде не плавал с воеводой в одной лодке.
Великан сидел молча, сложив могучие руки на коленях, глядя на покрытое сосновым варом дно стеклянными глазами. Его лицо казалось бледным, напряжённым.
– Весемир, всё ли хорошо? – тихо спросил Олег, подавшись вперёд так, чтобы никто, кроме воеводы, не услышал его.
– Хорошо, княжич, – глухо ответил тот, не поднимая головы. – Ох, хорошо.
– А я гляжу – не очень-то и хорошо. Чего замер? Нога разболелась?
И с улыбкой, но твёрдо добавил:
– Как княжич твой повелеваю – говори!
Исполин поморщился, поднял глаза и поймал взгляд Олега. В тусклом свете заката княжич разглядел на лице своего воеводы нечто, чего прежде никогда не замечал – страх.
Великан глубоко вздохнул, потом едва слышно пробормотал:
– Боюсь я воды, княжич.
– Что? – Олег не расслышал слов из-за плеска вёсел.
– Плавать я боюсь, вот что! – резко повторил Весемир и тут же быстро обернулся, будто боялся, что кто-то узнает его тайну.
– Боишься плавать? – недоверчиво переспросил княжич. – Ты ведь радонец! Как такое может быть? Ты же в Радограде родился, разве нет?
Он не просто так не поверил воеводе. Хоть языческие культы были искоренены с приходом истинной веры, радоградцы по-прежнему относились к Радони как к живому существу, обладающему чудотворной силой.
Беременные женщины, предчувствуя скорые роды, садились в лодки, чтобы разрешиться от бремени прямо посреди реки, а затем омывали младенца её водами, зачерпнув их перекинутой за борт рукой. Считалось, что так дитя будет крепким, а могучая Радонь защитит его от зла. Дети, рождённые в столице, с первых дней привыкали к воде. Слышать, что кто-то её боялся, было в диковинку.
– Я, княжич, радонец, да только очень уж тяжёлый, – угрюмо пробормотал воевода, будто смущаясь собственного признания.
– Как это?
– Ещё когда дитём был, уразумел – не держит меня вода! Как ни старался, грёб что есть мочи, а всё равно – как топор ко дну шёл.
Он помолчал, затем тихо добавил:
– Знаю, если выпаду из лодки посреди реки, ни за что не выплыву. Захлебнусь. А для воина такая смерть – настоящий срам! Как потом, в Славии, предкам в глаза смотреть? Засмеют ведь!
Тишину нарушил резкий стук – одно из вёсел ударилось о деревянное брюхо лодки. Весемир вздрогнул.
Олег посмотрел на него с лёгкой улыбкой. Много всего они прошли вместе. Княжич видел, как воевода, шутя, поднимал на плечи взрослого жеребца. Он помнил, как однажды Весемир, оказавшись в схватке без оружия, схватил вражеского воина и, будто куклу, разорвал надвое.
Весемир всегда казался Олегу непоколебимой скалой. Непобедимой силой. Олицетворением необузданной природной мощи. Былинным исполином, которому чужд страх.
Но оказалось, что даже этот неукротимый воин чего-то боится.
Княжич невольно усмехнулся.
– Не переживай, старый друг, – Олег положил руку на могучее плечо воеводы. – Раньше времени ко Владыке не попадёшь. Если не суждено тебе утонуть – не утонешь. А уж если у Зарога был такой замысел, то хоть бойся, хоть не бойся – не убережёшься. Так что перестань терзаться, успокойся. Уверен, для такого силача, как ты, у него припасён куда более достойный конец!
Весемир молча кивнул, но пудовые кулаки так и не разжал. Олег ещё мгновение глядел на него, потом обернулся к корме.
Там, за широкими, натруженными спинами гребцов, держась за борт одной рукой, сидел Ростислав. Он пристально, исподлобья, словно филин, не мигая следил за княжичем.
Олег встретился с ним глазами.
Голова городской стражи тут же отвернулся и принялся рассматривать лодочные караваны, снующие между островом и берегом.
Княжич, немного задержав на нём взгляд, затем тоже отвернулся.
«На своём уме этот Ростислав…» – подумал Олег.
Глава 8. Посадник Радограда
Борт лодки глухо стукнул о каменный выступ у основания скалы. Гребцы вынули вёсла из воды и сложили их на покрытое смолой дно. Двое сразу же выскочили на карниз и принялись крепить судно к железным скобам, вбитым в твёрдь острова. Один закрепил нос, другой – корму, чтобы легче было сходить.
Закат догорал, окрашивая породу в кроваво-красный свет. Тусклые лучи солнца освещали вырубленный в камне проход, массивные дубовые двери, окованные железом, и едва заметную рябь на чёрной глади реки.
– Вот и приплыли, княжич, – бодро произнёс Ростислав, поднимаясь со скамьи. – Прошу спешиться.
Гребцы, закончив швартовку, отступили к стене, освобождая проход.
Олег встал, упёрся одной ногой в борт лодки, оттолкнулся и легко спрыгнул на твёрдую каменную площадку. Затем повернулся и протянул руку Весемиру, который, стараясь сохранять невозмутимость, с некоторым трудом всё же выбрался на карниз.
Места здесь было мало. Узкая полоса между стеной и обрывом едва позволяла стоять бок о бок.
– Ступай, княжич, – Ростислав с улыбкой указал на дубовую дверь. – Она открыта. А я следом пойду. Мужиков отпущу, да дверь запру за нами, чтоб не влез никто ненароком.
«Уж больно он весёлый. А ещё совсем недавно сидел надутый, как сыч…» – подумал Олег.
Сделав шаг вперёд, он толкнул створку. Петли жалобно заскрипели, поддавшись нажиму, и дверь медленно открылась, выпуская наружу ледяной, сырой сквозняк, пахнущий камнем и землёй.
Княжич прищурился, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте. Глаза, привыкшие к свету, ничего не могли различить. Он шагнул вперёд, намереваясь войти.
– Постой, – раздался низкий голос Весемира. – Дай-ка я первым пойду. Мало ли что.
Олег кивнул и отступил в сторону, пропуская воеводу.
Великан, согнувшись почти вдвое, протиснулся в узкий проход. Сзади он казался медведем, который зачем-то пытается влезть в лисью нору. Его могучие плечи едва помещались между стенами, и даже если бы княжич захотел обойти его, места для этого не нашлось бы.
Тоннель был почти полностью погружён во мрак. Лишь несколько факелов, кем-то заранее зажжённых, скупо освещали грубую, высеченную в породе лестницу. Чем выше они поднимались, тем слабее становился красный свет заката, струящийся из дверного проёма.
Вскоре он пропал совсем.
Олег осторожно двигался вверх, ступень за ступенью, одной рукой держась за шершавую стену, чтобы не споткнуться. Постепенно глаза привыкли к темноте, и княжич начал различать впереди очертания крупной, пыхтящей фигуры Весемира.
Мрак и замкнутость внушали беспокойство.
«Как в западне. Если хочешь убить кого – лучше места не найти. Ни за что не сбежишь», – промелькнуло в голове.
Внезапно за их спинами с грохотом захлопнулась дверь.
Глухой металлический лязг, отражаясь от потолка и стен, усилился, пронёсся по узкому лазу и, докатившись до ушей Олега, прозвучал словно раскат грома. Сквозняк внезапно прекратился, воздух стал неподвижным, тяжёлым и вязким.
Княжич резко обернулся, пытаясь разглядеть идущего позади Ростислава, но ничего не было, лишь непроницаемый мрак.
«Будь у кого злой умысел – поставь сюда метателей с дротиками да сулицами, и не уйдёшь. Сперва падёт Весемир, затем и я следом…».
Осторожно, прислушиваясь к каждому звуку, они продолжали путь в почти полной темноте. Подниматься по крутым ступеням становилось всё труднее. По спине Олега стекали липкие струйки, дыхание стало прерывистым.
Весемир, поднимая своё массивное тулово всё выше, громко пыхтел. Олег уловил резкий запах пота – крупному воеводе подъём явно давался нелегко.
Наконец впереди показалась крошечная точка серо-синего света. С каждым шагом она становилась больше, и вскоре стало ясно – это выход.
Чувствуя, что цель близка, великан ускорил шаг. Олег постарался не отставать. Оба стремились скорее покинуть душный проход.
Двадцать ступеней.
Десять.
Пять.
Воздух становился свежей. После затхлого тоннеля его прохлада казалась особенно приятной.
Выбравшись наружу, княжич зажмурился. Даже слабый, почти ночной свет резал привыкшие к темноте глаза.
– Вот же кишка каменная… – пробормотал Весемир, сгибаясь и упираясь ладонями в бёдра.
Он тяжело дышал, время от времени сплёвывая.
– Добро пожаловать, княжич!
Олег вздрогнул от неожиданности и открыл глаза.
В двух шагах впереди, в тени зарослей, скрывающих вход в Малые ворота, стояли две фигуры. Одеты они были просто – как слуги.
Весемир выпрямился, пытаясь разглядеть, кто перед ними.
– Вы кто такие? – резко спросил Олег, прищурившись. – Чего прячетесь в тени, словно разбойники? Или недобрые мысли затаили?
Размытые силуэты подались вперёд, выходя из тени. Оказалось, это были двое юношей – на вид совершенно безобидных. Один из них, как показалось Олегу, был младше. Оба одновременно склонили головы, и старший заговорил:
– Не гневайся, княжич. Я Глеб, а это, – он кивнул в сторону второго, – мой младший брат Иваська. Тимофею Игоревичу служим, он нас и прислал.
– Зачем?
– Велел встретить тебя и немедля к нему отвести. Там и умыться с дороги можно будет, и потрапезничать за беседой.
– Меня? А что с моим воеводой делать прикажете? – холодно спросил Олег.
Глеб, растерявшись, перевёл взгляд с княжича на Весемира.
– Про него Тимофей Игоревич ничего не говорил, – неожиданно пискнул Иваська, с трепетом разглядывая исполинскую фигуру.
– Интересные дела, – Олег недовольно качнул головой. – Уж больно прыток ваш хозяин, всё по его указке. Неужто вы думаете, что Весемиру тут, в кустах, ночевать?
Юноши сжались, испугавшись гнева наследника престола.
– Ну, чего молчите?! Что делать будем? Или до утра тут простоим? – голос Олега стал жёстче.
– Мы… Нам… Ничего… – растерянно пробормотали оба, запинаясь от страха.
Олег переглянулся с Весемиром, который едва заметно усмехался в густые усы, и уже не столько грозно, сколько ради забавы продолжил:
– Так вы, значит, старшего сына государя встречаете? Может, вы и власть княжескую не признаёте?
Не дослушав до конца страшные слова, звучавшие как обвинение, Глеб согнулся вдвое, а Иваська, громко вздохнув, бухнулся на колени, едва не ударившись лбом о землю.
Оба жалобно заголосили:
– Милостивый княжич, прости, помилуй! Не говорил Тимофей Игоревич про твоего воеводу…
Глядя на них, Олег не смог сдержать улыбку. Весемир и вовсе – расхохотался так, что заросли, скрывавшие ворота, заколыхались. От неожиданного шума из них выпорхнула птица, уже приготовившаяся ко сну.
Братья застыли, не понимая, что происходит, и с испугом смотрели на воеводу, чей смех сотрясал воздух, подобно грозовому раскату.
– Ох, да не бойтесь вы, птенцы, – отсмеявшись, вытирая слёзы тыльной стороной ладони, произнёс Весемир. – Княжич шутит. С дороги мы, уставшие, вот и шутки у нас такие, дрянные.
Он хитро усмехнулся и добавил:
– Ты, Глеб, веди наследника к посаднику, а ты, Иваська, покажи мне дорогу к стряпухам. Я сам попотчуюсь и где-нибудь устроюсь на ночлег. Да и женщины на кухне ладные – авось, хоть какую-нибудь ущипнуть удастся. За меня не переживай, княжич. Где-где, а в столице не пропаду.
Воевода подмигнул Олегу из-под густых бровей.
– Добре, пусть будет так.
Проводив взглядом великана и Иваську, который поспевая за исполинской фигурой Весемира казался кроликом рядом с медведем, он повернулся к Глебу.
– Веди, куда велено. А уж потом с Ирин… С семьёй повидаюсь. Дело вперёд.
***
Серые, мрачные сумерки уступили место ночной темноте. Олег быстрым шагом следовал за удивительно прытким служкой, скорости которого мог бы позавидовать и взрослый мужчина.
«Видать, дело и впрямь срочное», – думал княжич, наблюдая за ловко перебирающим ногами Глебом.
Терем посадника, куда служка сопровождал мужчину, находился в центральной части детинца, рядом с княжескими хоромами. Олег хорошо помнил это здание – большое, приземистое, в два этажа, богато украшенное резьбой.
Не было во всём Радограде домов больше посадского, разве что княжеские палаты, стоявшие в сотне шагов, прямо напротив, с другой стороны Храмовой площади.
Но если палаты государя возвели из седого дерева – бело-серебристого, как и главное святилище Владыки, – то посадный терем был сложен из толстых брёвен чернодерева, чёрных, как уголь. Ещё до прихода Изяслава в эти земли язычники использовали его для строительства своих капищ.
Захватив город ляданцев, впоследствии ставший Радоградом, Завоеватель первым делом велел возвести здесь величественный храм семиликого бога и княжеские хоромы из священного для каждого последователя заревитства седого дерева, словно подчёркивая связь власти небесной и земной.
А просторное, ладное здание из чернодерева, где некогда жили языческие жрецы и которое уже стояло на этом месте, пожалели и трогать не стали. Так они и остались стоять друг напротив друга, по разные стороны Храмовой площади – светлые, отливающие серебром палаты князя и чёрный, будто высеченный из обсидиана терем посадника. Стоят, напоминая, что в незапамятные времена здесь, в самом сердце великой Радонии, столкнулись старое и новое, истинное и ложное. А сбоку, ровно между ними, будто судья в этом противостоянии, возвышался Великий храм Владыки Зарога. Всё рядом.
Посадник Радограда считался ближайшим помощником государя Радонии, первым его наместником, и такое соседство было весьма удобным.
С трудом поспевая за проводником, Олег оглядывался по сторонам. С наступлением темноты жизнь внутри стен внутренней крепости столицы замирала. В отличие от посада, где были трактиры и постоялые дворы, открытые всю ночь, детинец считался личным владением князя, и ночного разгула здесь не допускали. Хоть тут и было тесно от множества боярских изб и мастеровых хат, порядок был для всех единым – с заходом солнца требовалось соблюдать тишину.
Княжич брёл безлюдными закоулками, иногда заглядывая в окна, освещённые мягким сиянием восковых свечей. Тихие сцены мирной жизни казались ему чем-то новым, неизведанным и даже таинственным.
Вот башмачник, не успевший завершить дневные дела, сидит за сбитым из грубых досок столом, заканчивая ремонт ладных, явно барских кожаных сапог. А вот дети – мальчишки и девчушки, собравшись на лавках, с раскрытыми ртами слушают байки седого, как лунь деда в простой, холщовой рубахе. Простая и понятная жизнь, о которой Олег уже успел позабыть.