Штаны господина фон Бредова
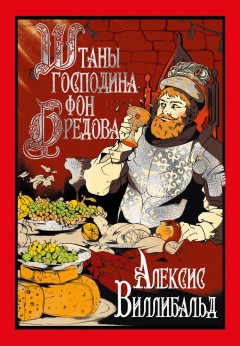
Старая добрая…
Willibald Alexis
DIE HOSEN DES HERRN VON BREDOW
Перевод с немецкого Елены Кормилицыной
© Е. Г. Кормилицина, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®
Предисловие переводчика
Автор романа «Штаны господина фон Бредова» – Виллибальд Алексис (настоящее имя – Георг Вильгельм Генрих Геринг) – по праву считается в немецкой литературе основоположником жанра реалистического исторического романа. Почти каждый герой его произведений – реальная личность, сыгравшая определенную роль в становлении Бранденбурга и всего королевства Пруссия.
Родившийся в 1798 году будущий писатель происходил из бретонской протестантской семьи, перебравшейся в Германию во времена гонений на гугенотов. Получив гимназическое образование, молодой человек успел добровольцем поучаствовать в Освободительных войнах, которые знаменовали собой конец наполеоновской эпохи. Вернувшись, он начал изучать историю и право и стал юристом, но вскоре оставил это занятие, чтобы посвятить себя литературе. Постепенно писатель нашел в творчестве свое направление – патриотические исторические романы, в самом благожелательном духе повествовавшие о «старых добрых временах» в Германии, а потому именовавшиеся «патриархальными». Именно на этой ниве он снискал большую популярность. Восторженные читатели сравнивали его романы с произведениями Вальтера Скотта. Начиная с 1840 года автор публикует целую серию книг, каждая из которых посвящена определенному периоду в истории Бранденбурга. С 1846 по 1848 год писатель работает над романом «Штаны господина фон Бредова» – произведения, в котором слились воедино суровые исторические реалии, благородная рыцарственность, народные сказания и суеверия, дух авантюризма, густо замешанные на незамысловатом немецком юморе. Собственно, все то, что автор считал характерным для «старой доброй Германии». Что же касается современной ему жизни, то в ней Виллибальд Алексис видел катастрофическую нехватку этих проявлений германского духа.
Он искренне мечтал о возрождении единого германского государства, делал в этом отношении ставку на революционные перемены и был крайне разочарован поражением революции 1848 года: социальные проблемы, вызванные национальной раздробленностью Германии, не были решены; нашедшая широкое распространение среди либеральной буржуазии идея объединения немецких земель так и осталась идеей. Мало того, из-за обрушившейся на него критики ему пришлось покинуть Берлин и долгое время прожить за пределами страны, в Риме. Лишь много лет спустя он смог вернуться на родину и поселиться в Арнштадте.
Последние годы жизни писателя были омрачены бедностью и тяжелыми болезнями. Скончался он в 1871 году, успев застать воплощение своей мечты – провозглашение Германской империи, когда прусский король Вильгельм I принял присягу в качестве германского императора. Впрочем, Виллибальд Алексис, ослепший, парализованный, измученный психическим недугом, похоже, этого уже не осознавал.
Маркграфство Бранденбург, которому он отдал столько творческих сил и о котором пойдет речь в романе «Штаны господина фон Бредова», являлось наиболее значительным княжеством Священной Римской империи, существовавшим с XII по XIX век. Его возникновение было связано с тем, что в 1157 году маркграф Северной марки Альбрехт Медведь захватил славянскую крепость Бранибор и основал на этих землях новое государство – марку Бранденбург. Славяне, которых здесь именовали вендами, постепенно ассимилировались. К XIV веку маркграфы, правившие в Бранденбурге, окрепли настолько, что получили престижный титул курфюрстов, узаконивший их право голоса на выборах императора Священной Римской империи. Впрочем, это не спасло курфюршество Бранденбург от смутных времен и войн, растянувшихся на годы.
В начале XV века наследным главой и правителем Бранденбурга император назначил Фридриха VI из рода Гогенцоллернов. При этой династии началась постепенная стабилизация обстановки, связанная с возвращением когда‑то потерянных земель и централизацией власти.
В самом конце XV века к власти в Бранденбурге пришел юный курфюрст Иоахим I Нестор из династии Гогенцоллернов. Он был полон благих намерений и мечтал о том, чтобы свет латинской учености озарил земли, над которыми он поставлен властвовать, чтобы во Франкфурте-на-Одере открылся университет, а все его подданные стали равны перед законом. Впрочем, как это обычно и бывает, путь к преобразованиям оказался тернистым, поэтому в памяти потомков Иоахим Нестор остался не только просветителем, но и жестоким, бескомпромиссным политиком, готовым отправить несогласных с его решениями на виселицу. Именно об этом времени и повествует роман Виллибальда Алексиса.
Местные феодалы (не без оснований именуемые в немецких рыцарских романах «рыцарями-разбойниками») все еще прекрасно помнили те времена, когда могли чинить произвол, чувствуя себя независимыми не только от курфюрста, но и от императора Священной Римской империи. Неужели этой свободе настал конец? Как мальчишка, находящийся у власти, осмелился пролить благородную кровь? Разве он не боится, что против него выступит старая аристократия? Ведь многие из тех, чьи свободы он пытался ограничить, все еще помнили о своих мужественных славянских предках, которые ни перед кем не гнули спины и отступали лишь тогда, когда действительно нельзя было иначе.
На фоне трагических и важных для Бранденбурга событий, описанных в романе, происходит нечто, казалось бы, совершенно незначительное и даже комичное. Супруга господина Гётца фон Бредова из замка Хоен-Зиатц решилась выкрасть кожаные штаны собственного мужа, чтобы их постирать. Дело в том, что сам благородный господин добровольно не расставался с этой частью костюма. Он и несколько поколений его предков не без основания считали штаны своим талисманом, поэтому очень страшились оказаться без них перед лицом опасности. Собственно, пропажа волшебного талисмана и стала отправной точкой для целой череды событий, так или иначе связанных с семейством фон Бредовых и историей Бранденбурга.
Особое значение кожаных штанов для старой аристократии, в том числе и тех, что не принадлежали конкретно господину фон Бредову, прослеживается на протяжении всего романа. Этот предмет одежды, пошитый из выделанной оленьей шкуры, служит символом вольных «старых добрых» времен. В таких штанах не пойдешь выказывать курфюрсту верноподданнические чувства, зато в них легко отправишься на охоту, войну или грабеж. Для дворцов нужны необъятные плюдерхозе [1] с буфами из тонкого сукна на богатой шелковой подкладке – но это уже признак совсем другой эпохи и совсем другой культуры. Недаром потомок самого «правдивого человека на свете», барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, посвятил кожаным штанам стихотворение, которое могло бы с легкостью послужить эпиграфом для этого романа, не будь оно написано десятилетиями позднее.
- Этот царский олень жил бы тысячу лет,
- Но его подстрелил на охоте мой дед.
- Его кожа была и толста, и крепка —
- Можно сшить превосходную вещь на века.
- Долго дед над оленьею шкурой мудрил,
- Наконец он штаны из нее смастерил,
- Потому что идут за годами года,
- А штаны остаются штанами всегда.
Сага о кожаных штанах [2]
- Это дивные были штаны, и мой дед
- Их носил, не снимая, почти тридцать лет,
- А когда по наследству отцу перешли,
- То стоять без труда уже сами могли.
- Задубев на морозе, они вечерком
- Перед жарким камином стояли колом.
- От колючих метелиц, от хлестких дождей
- Становились штаны лишь прочней и прочней.
- Вот родителю стукнуло за шестьдесят.
- Он решил починить свой любимый наряд.
- Оказалось, что кожа все так же крепка,
- Только пуговицы поистерлись слегка,
- Как зубцы шестеренок в старинных часах.
- И отец гарнитур поменял на штанах.
- Не вернуться веселым денькам никогда:
- Очертела отцу верховая езда,
- Да и правду сказать, сумасшедший галоп
- Разутешит едва ли почтенных особ.
- Над подарком недолго раздумывал я:
- Очутились штаны на заду у меня.
- Был приказ воевать в кавалерии мне,
- И штаны в тот же час подскочили в цене.
- Во спасенье не раз на баталиях им
- Приходилось сливаться с моим вороным,
- А потом на просушке они вечерком
- Перед жарким камином стояли колом.
- В тех местах, где я рос и мужал на глазах,
- Сохранился от деда рассказ о штанах,
- Что когда‑то весенней цветущей порой
- Отливали они изумрудной волной.
- Но позднее отец подмечал между строк
- Сероватый оттенок, мышиный намек.
- А сегодня штаны эти выглядят так,
- Как чуть-чуть побуревший турецкий табак.
- Что ж, меняя хозяев, штаны каждый раз
- Обретали внезапно и новый окрас.
- И, как знать, не придется ли им покраснеть,
- Если кто‑нибудь вновь пожелает надеть,
- Потому что идут за годами года,
- А штаны остаются штанами всегда.
- Сквозь далекую дымку все чудится мне:
- Старший сын поутру скачет в них на коне.
- Пусть он носит штаны круглый год напролет,
- Ни в дожди, ни в метелицу не бережет.
- Их дубленая кожа, как прежде, крепка,
- Только пуговицы поистерлись слегка.
- По примеру отца пусть мой сын дорогой
- Гарнитур поменяет на них роговой.
- Если будут штаны так и дальше служить,
- Если будет штаны честолюбец носить,
- Если будут штаны так же ездить верхом,
- Если будут стоять так же сами колом, —
- Мальчик мой, пусть идут за годами года,
- Но не сносятся эти штаны никогда.
Глава первая
Осенняя стирка
Если вам доведется гулять по саксонскому сосновому лесу, необъятному и сверху напоминающему огромное темное пятно, куда не заглядывает солнце, вы заметите, что чем ближе к опушке, тем все больше он редеет, что стройные стволы деревьев становятся золотистыми в закатных лучах, а пышные кроны легко покачиваются под нежными дуновениями ветра, отчего душа наполняется покоем. Но, достигнув края леса, вы не увидите привычные поросшие виноградниками склоны, прорезанные журчащими ручьями, сбегающими с далеких голубых гор и пенящимися в своих каменных ложах. Перед вами предстанет долина Эльзенбрух, с ее бурыми вересковыми пустошами и протянувшимися над ними песчаными откосами, где гуляет ветер, воющий над тощей, робко проглядывающей зеленью, словно злая собака, стерегущая голые кости.
Кажется, здесь мало жизни: лишь одинокие березы отчаянно цепляются корнями за почву да осторожный аист вышагивает по болоту, а вверху, над кустами, кружит ястреб. Но как же легко дышится путнику, когда длинный, извилистый путь сквозь сосновую темень наконец остается позади. Идущего окутывает прохлада, и вот он уже слышит шелест тростника в воде, лягушачий хор, жужжание насекомых, видит, как мелькают среди камышей трясогузки, и невольно следует взглядом за ветерком, тихо проносящимся над зарослями вереска. Очарование природы наполняет пустошь жизнью, радует взор и позволяет отдохнуть, когда после черного колючего соснового леса перед путником открывается спокойное и чистое озеро. Оно кутается в темно-зеленые берега, словно застенчивая девушка, прячущаяся от непрошеных взоров в свой кружевной воротник. Его темная вода подобна зеркалу, а тихий плеск воды напоминает едва различимый шепот. Внезапно рассеиваются облака, темная поверхность делается прозрачной, в ней загорается серебристая дорожка и отражается ясное небо, в котором купается луна и сверкают звезды.
Избыток воды из полноводного озера изливается в речку, что бежит, петляя, от опушки леса на равнину. Она омывает тенистые заросли, жадно пьющие ее воды, струится по мокрым лугам, зарывается в песок и гальку, вьется вокруг холмов, дробится о валуны и поит вечно испытывающие жажду ивы. Отдельно стоящие сосны – своеобразный форпост леса, – израненные и искалеченные ветрами, напрасно пытаются дотянуться до ее прохладных вод. Их гигантские корни, пролегающие под береговым песком, не могут украсть для себя ни единого глотка.
Но если бы кто‑то сегодня взглянул на это место с высоких холмов, он не ощутил бы ни тишины, ни покоя. В глаза случайному путнику бросилось бы белое бурлящее марево, поднимающиеся клубы дыма и фигуры, двигающиеся вокруг тлеющих костров. Но эту белизну нельзя было бы назвать снегом, поскольку деревья, хоть и покраснели уже совсем по-осеннему, не торопились сбрасывать увядшие листья, а луга и вовсе еще блистали буйной зеленью. Определенно, это был не снег еще и потому, что он не лежал спокойно на месте, а трепетал и шуршал, бросал яркие отблески и снова пропадал из поля зрения.
Это были не белые лебеди, расправляющие и складывающие крылья, – такие гигантские птицы никогда не водились в Хафельланде [3] и Заухе [4]. Это были не паруса больших кораблей, раздуваемые ветром и опадающие, потому что по реке могли бы проплыть лишь маленькие лодчонки. И это были не шатры кочевников, потому что они не стояли на месте, да к тому же, если подойти поближе, сразу становилось понятно, что в шатрах нет никакой нужды, так как между кострами стояли аккуратно сложенные из соломы и сосняка шалаши. Это было целое становище, но одинокому путнику не стоило опасаться разбойников.
Несколько копий, поблескивая в солнечных лучах наконечниками, мирно стояли, прислонившись к столбам шалашей и к деревьям. К тому же разбойники не смеются и не поют так весело, а если и становятся где‑нибудь лагерем, то никак не в диких местах, находящихся между пустошами и болотом, где не проходят торговые пути. Если бы все происходило в ночное время, можно было бы сказать, что это ведьмы забрались в самые дебри, чтобы варить свои зелья там, где этого никто не увидит. Но стоял солнечный день, и так же солнечно смеялись все вокруг. Со звуками смеха сливались и другие звуки – хлопки и стук.
Короче говоря, это действительно был лагерь, но не военный стан и не привал паломников, не лагерь купцов или цыган, ищущих уединения: это был походный лагерь, где женщины составляли большинство. Перед путниками открывался вид на большую прачечную. В этом можно было легко убедиться, поднявшись на песчаные холмы, голые вершины которых выглядывали из-за вересковых зарослей.
Тем временем в седловине среди холмов остановилась тяжело груженная повозка. Ее владелец – торговец Клаус Хеддерих – спрятал ее подальше от дороги, чтобы никто не мог обнаружить ни лошадей, ни саму повозку. Он хотел прежде убедиться, что ему и его добру ничего не угрожает. Торговец тихо и осторожно взобрался на сосну, и его встревоженное лицо просветлело. То, что он увидел, не только не представляло собою опасности, но даже показалось ему весьма приятным для глаз. Белоснежное струящееся сияние исходило от полотнищ холста, которые сохли на веревках, время от времени трепеща под порывами ветра. Другие, более крупные отрезы ткани, отбеливались, лежа буквально повсюду: вдоль реки, по краям холмов и даже среди сосен. Везде чувствовался порядок и ощущалась властная хозяйская рука. У многочисленных слуг и служанок, у хозяйских дочерей, у родственников и друзей – у всех, вплоть до собак, было свое особое занятие. Кто‑то, черпая воду из реки, наполнял емкости, а кто‑то таскал их. Одни возились с веревками, натянутыми между стволами деревьев, другие подносили прищепки, а третьи следили за тем, чтобы мокрое белье не сдуло ветром. Над догорающими кострами висели огромные котлы с горячей водой, а неподалеку стояли большие и маленькие бочки. Работа, казалось, подходила к концу, лишь на мостках, построенных на поросших камышом берегах реки, служанки, подоткнув юбки и закатав рукава, еще достирывали белье. Это была тонкая работа, оставленная на самый конец, и каждая из них стирала с особым усердием. Молодые слуги то и дело пытались, спрятавшись среди камышей, подкрасться к стирающим девушкам. Однако стоило только кому‑то из них подобраться поближе, его безжалостно обливали с ног до головы. Один молодой сорванец с невинным выражением лица делал вид, что просто прогуливается вдоль берега, но какая‑то плутовка чуть не вылила ему на голову целое ведро. К счастью для себя, он успел отскочить и отделался лишь несколькими каплями воды, попавшими ему на лицо. Шалунья, смеясь, погрозила ему, но юноша вдруг посерьезнел и быстро приложил палец к губам. Дело в том, что он увидел приближающуюся хозяйку, которая была известна своей строгостью.
– О, это же милостивая госпожа фон Бредова из замка Хоен-Зиатц!
Проговорив эти слова, торговец со вздохом облегчения стал спускаться с дерева и делал это намного проворнее, чем когда на него забирался. Без всякого опасения вернувшись к повозке, он почистил лошадей, запряг их и двинулся в сторону лагеря. «Госпожа устроила большую осеннюю стирку, – размышлял он. – Если бы я знал об этом раньше, мог бы неплохо заработать. Впрочем, еще не поздно. Глядишь, мне тут что‑нибудь обломится». Он задумчиво приложил руку ко лбу и вдруг остановил лошадей, так и не выехав на тропинку. Затем поднял полог повозки и принялся переупаковывать, перекладывать и перетаскивать лежащие там товары. Некоторые он спрятал подальше, а другие, напротив, положил сверху. Так и должен поступать хороший купец, знающий своих клиентов и имеющий представление о том, что им может понравиться, а что нет.
Это была большая осенняя стирка госпожи Бригитты фон Бредовой из Хоен-Зиатца. Она часто повторяла: «Зима – это белый человек. Когда он постучит в ворота, дом тоже должен быть белым и чистым, чтобы хозяин смог чествовать гостя». Бранденбургский декан [5] фон Круммензее, который в это время гостил у нее, резонно замечал в ответ, что зима – незваный гость, какого и за дверь не грех вытолкать. Однако благородная госпожа возражала: «Возможно, подобное поведение было бы уместно в старые времена, достопочтенный, когда еще не существовало духовенства. Все мы знаем, что в любой дом всегда проникнут трое незваных гостей: холод, клопы и попы. Как ни закрывай дверь, они обязательно найдут щель». Декан лишь посмеивался над этими словами. Да и стоило ли обижаться, если, возвращаясь в замок, благородная госпожа велела погрузить со своими вещами и его тюк, что избавляло декана от необходимости везти его самостоятельно в Бранденбург, когда придет время возвращаться в свое теплое убежище вместе с незваной гостьей – зимой.
Осенняя стирка в замке Хоен-Зиатц была делом совершенно обычным, происходившим каждую осень. С одной стороны, это была большая работа, труд, от которого трещали кости, а с другой – самый настоящий праздник.
Хозяйка придерживалась того мнения, что любое занятие, требующее прилежания, уже само по себе является праздником. И все вокруг относились к этой ее позиции очень серьезно. Когда приходило время, госпожа буквально переворачивала старинный замок вверх дном. Она сама карабкалась по узким лестницам, поскольку не доверяла ничьим глазам, кроме собственных, и следила, чтобы во всех комнатах, во всех углах, каждая, даже самая маленькая вещь, каждый отрез шерсти или холста имели праздничный вид.
Большая стирка обычно начиналась с того, что вещи грузились на три повозки – их обвязывали веревками и накрывали чистой рогожей. Сама госпожа при этом садилась в первую повозку, и начинался большой исход из замка. За тремя первыми повозками ехали еще две, везущие служанок и Евхен с Агнес – дочерей благородной госпожи. Когда юнкер [6] Ханс Йохем захотел было подставить лесенку, чтобы помочь девушкам занять их места, фрау Бригитта не одобрила его действий. По ее мнению, молодые девицы должны были понимать, что день большой стирки – это день их битвы и их славы, как сражение для рыцаря, но только если они, подобно тому же рыцарю, умеющему при необходимости самостоятельно обращаться и со стременами, и с подпругой, со всем справятся сами. Так что не успел Ханс Йохем предложить свою помощь, как Евхен и Агнес уже забрались на высокую повозку и посмеивались сверху над незадачливым юнкером.
Процессию возглавляли двое слуг в островерхих шлемах и с копьями в руках, за ними шел егерь со сворой собак. Далее везли чаны, котлы, солому, скамейки, покрывала, бочки, корзины и еще массу нужных вещей. Если кто‑то удивлялся такому обилию скарба, госпожа отвечала с улыбкой: «Не заграждай уста волу молотящему!» [7] Сзади и с боков процессию прикрывали всадники и пешие слуги с охотничьими копьями и арбалетами. Был среди них даже один с тяжелым мушкетом.
Сопровождаемая музыкой и смехом, вся толпа перебиралась по скрипучему подъемному мосту, а стражники со стены долго еще смотрели им вслед, пока они не скрывались в лесу. Тот факт, что для такого чисто женского занятия, как стирка, были взяты с собой собаки, копья, дюжина крепких вооруженных мужчин и даже огнестрельное оружие, не удивлял тех, кто знал, что представляла собой Бранденбургская марка [8] в начале шестнадцатого века. Любой оказавшийся за стенами замка или города, если только он не носил наброшенное на голое тело нищенское рубище, стремился заручиться поддержкой железа, спрятанного под камзолом, ибо залогом каждого доброго дела является то, что совершающий его находится в безопасности.
Можно было бы удивиться, что в процессии принимают участие те, чьи руки слишком нежны, чтобы закреплять бельевую веревку или развешивать простыни. Странным было и наличие священника. Однако удивление было бы уместно лишь для тех, кто не осведомлен о большой осенней стирке в Хоен-Зиатце. Для такой грандиозной задачи между стенами, сложенными из камня и глины, было слишком мало места. Где в замке найти проточную воду? Откуда взяться свежему воздуху, так необходимому для просушки белья, и ровным полянам, нужным для отбеливания?
Наши предки любили праздничные увеселения под открытым небом, так что за пределы замка отправились все, кому было тесно в его стенах, кто любил шутки и игры, охоту и розыгрыши – а стирка никогда не обходилась без всего этого. Но и страх Божий тоже должен быть всегда – так думали декан и благородная госпожа, хотя при этом каждый имел в виду что‑то свое.
К тому же хозяйке, вероятно, было приятно чувствовать неограниченную власть, ибо ее прочная репутация в замке поддерживалась благоразумием и безукоризненным поведением, здесь же она правила согласно древним законам, будучи единоличной руководительницей всего происходящего вокруг. Никто на земле не захочет отказать женщине в абсолютном контроле над стиркой. Нет такого закона! А уж правила она твердой рукой. Даже если на ней не было ни чепца, ни фартука, всякий за сотню шагов узнал бы в ней хозяйку. Зоркость ее глаз не уступала ястребиной. Она стояла на возвышении, небрежно подбоченившись левой рукой, держа в правой связку ключей и расслабленно поигрывая ею. Ее слегка расставленные ноги были обуты в туфли, каблуки которых утопали в земле на половину золля [9]. Корсаж облегал фигуру, подобно доспехам. В этот момент госпожа фон Бредова была похожа на генерала, который устроил смотр своей армии. Служанки восхищенно говорили: «Наша строгая госпожа, уж она‑то во всем разбирается».
То же самое они говорили, правда, совсем другим тоном, когда госпожа фон Бредова ловила их на том, что считала нерадением и ленью. В общем, она уверенно себя чувствовала, если все шло надлежащим образом, и выходила из себя, стоило только чему‑то разладиться. Она не любила длинных речей и лишних замечаний, и там, где ей казалось, что ее плохо слышат, не тратила лишних слов. А провинившийся слуга, и сам толком не понимая, как это вышло, вдруг начинал все слышать прекрасно и лишь потирал при этом ухо или плечо. Вот какой расторопной дамой была фрау фон Бредова. От нее не слыхали лишний раз похвалы, ей это казалось излишним. Она считала достаточной наградой возможность каждому заниматься своим делом. Но если уж госпожа мимоходом похлопывала кого‑то по плечу, этот человек ощущал себя так, будто после сильной усталости и тревоги выпил немного крепкого вина, которое разбежалось по венам, давая новые силы.
Вот так и обстояло дело во время осенней стирки на реке Липер. Лагерь находился в добром часе езды от замка. Путь к нему преграждал дремучий лес, а также глубокое и широкое болото. Следовало учесть, что в лагере приходилось не только стирать и отбеливать белье, но и готовить, обустраивать ночлег, петь, молиться, охранять людей и имущество. В общем, делать все то, что принято делать в городских стенах. Молитву вместе со всеми читал по утрам декан, сразу после того как перед хижиной госпожи Бригитты звенел колокол. Стирка и приготовление пищи осуществлялись своим чередом, день за днем, с пением и играми, да и вообще все как‑то само складывалось должным образом, и только охраной госпожа фон Бредова озаботилась лично. Ни один воришка не смел стянуть с веревки чулок, ни одна лиса не могла украсть курицу из корзины.
Стирка длилась уже почти неделю. Спасаясь от шума и хлопков по воде, рыба уплыла от лагеря на целую майле [10]. Цапли сначала с любопытством смотрели вниз, свесив длинные желтые клювы с сосновых ветвей, на которых гнездились. Но вскоре они стали добычей и развлечением для мальчишек. Стойкие птицы храбро переносили арбалетные болты и лучные стрелы, летевшие в их хрупкие жилища. Даже если стрела попадала в крыло и вниз падали капли крови, цапля не поддавалась страху, продолжая цепляться за ветку. Однако когда стрелы начали сыпаться градом, вниз, смешавшись в один ком, полетели куски коры, перья и мертвые птицы, так что, наконец, даже для этих упрямых существ в лагере стало слишком опасно и беспокойно.
В первый день несколько сотен их кружило над верхушками деревьев. Они улетали с испуганными криками и возвращались вновь, в надежде, что суета улеглась. Но затем и цапли не вынесли бесконечной охоты, шума и стука, плеска и скрежета, хлопков и резких движений, пения и смеха. А на третий день вообще все животные и птицы уступили место людям, и все вокруг затихло. Казалось, даже воздух застыл. Днем не кричали лягушки на лугу, и только вечером, когда гасли костры и смолкало пение, когда переставали стучать бельевые вальки и вода тихо текла по руслу реки, отдыхая от дневной работы, раздавалось глухое лягушачье кваканье. Оно смешивалось с храпом служанок, лаем псов, который сменялся воем, когда на небе появлялась луна, шумом ветра, полощущего белье на веревках, и скрипом сосновых стволов, к которым эти веревки были привязаны.
На шестой день, в субботу, работа была в основном закончена. Собраться в обратный путь следовало до того, как с далеких башен монастыря Ленин [11] раздастся колокольный звон, приглашающий к вечерней мессе. На следующее утро на веревках уже не должно остаться ни одного чулка, а к вечеру, когда полумесяц прольет на землю свой свет, лагерь должен полностью опустеть.
С каким нетерпением служанки собирали прищепки и набивали корзины отбеленным бельем! Как поспешно слуги снимали веревки с деревьев и сматывали их, а потом трясли столбы шалашей, чтобы проверить, крепко ли они еще стоят! Даже завершение праздника может стать добрым событием для тех, кто праздновал слишком долго. В конце концов, когда устаешь чем‑то наслаждаться, приветствуются любые перемены.
Благородная госпожа с удовлетворением смотрела на результат проделанной работы: у ее ног выросла куча из тюков с чистой одеждой, освещаемая мягким полуденным солнцем.
– Не думаю, что во всем Заухе найдется настолько чистое белье, как у нашей дорогой госпожи фон Бредовой! – сказал декан, поднимаясь из-за походного стола, за которым он что‑то прихлебывал из оловянной кружки в компании со своим старым знакомым.
– Его отбеливают здешние ведьмы, – вставая, заметил его собеседник.
Это был юнкер средних лет. Его светлая борода отдавала рыжиной, вьющиеся волосы уже тронула седина. Лицо этого господина не выглядело грубым, но и красивым его тоже никто бы не назвал. Черты его казались несколько вялыми, к тому же во время разговора он часто щурил светло-голубые, тусклые глаза, что не позволяло поймать его взгляд.
– Белье отбеливают здешние ведьмы, – повторил он. – Это место проклято. Любой ребенок об этом знает. Нужно иметь мужество, как у моей кузины, чтобы не побояться сразиться с демонами.
– Вас что‑то побеспокоило ночью, господин Петер Мельхиор?
– Нет. На мне ведь был мой амулет. Но как можно устраивать стирку в таком месте! Рассказывают, что много лет назад, проснувшись ночью, люди видели здесь кое-что. Две седые, изможденные женщины шлепали длинными паучьими ногами прямо по белью и лили на него из кувшинов яркие лучи лунного света. Как вы можете догадаться…
– Но, Петер Мельхиор, – парировала госпожа фон Бредова, – вы ведь знаете, что достопочтенный господин декан каждое утро благословляет все белье.
– Ну и что? – отвечал тот. – Разве белье от этого может стать чище? Этот самый декан еще и кости обязательно благословляет, перед тем как их метнуть, в надежде на то, что выпавшее число удвоится. К тому же он всегда их носит с собою в кармане, но они становятся все темнее.
– Благословение Господне все делает лучше, – отвечал декан и, по обыкновению, хотел уже сложить руки перед своим округлым животом, но заметил устремленный на него хитрый взгляд благородной госпожи. Этот взгляд зачастую производил на окружающих воздействие такой же силы, как пощечины, которые она раздавала служанкам.
Госпожа фон Бредова улыбнулась, и декан улыбнулся ей в ответ. При этом ему пришлось проглотить очередное благочестивое замечание, которое уже готово было сорваться с языка.
– Кто скажет, – пробормотал он, – что моя дорогая госпожа – плутовка, только из-за того, что у нее время от времени мелькает в глазах что‑то этакое?
– Я бы сказала, что рыбак рыбака видит издалека, – отвечала она. – Все грешны. Кстати, если бы вам пришлось делать уборку в разных домах, вы нашли бы в них вещи, которые ну никак не могут принадлежать тем, кто в них живет. Например, в доме священника нашлись бы женские юбки…
Декан опустил глаза. Он хотел было привести какой‑то пример из Священного Писания, но госпожа Бригитта не дала ему вставить ни слова. Было не совсем понятно, почему она так напустилась на давнего друга семьи, который столь преданно помогал ей во время стирки.
– Священное Писание гласит, – опередила она его, – «делай добро и никого не бойся, а как испачкаешься, – умойся» [12]. Везде течет вода, и у каждого есть руки, чтобы умыться, разумеется, не так, как это делал Пилат. И если у вас чистая совесть, вам не нужно ничего скрывать. А вот если у вас имеется скелет в шкафу, то остается лишь быстро захлопнуть дверь, чтобы никто ничего не увидел. Некоторые начистят все снаружи, но приходит день, когда выясняется, что внутри‑то все выглядит совсем иначе.
– Давайте, кузина, – закричал юнкер Петер Мельхиор, – умойте его как следует, он не скажет лучше, даже если будет стоять за кафедрой!
– Праведник станет с нетерпением ждать того дня, который имеет в виду наша почтенная госпожа, – пробормотал декан. – Ну хотя бы со страхом.
– Да, высокочтимый господин, – проговорила госпожа фон Бредова и очень пристально посмотрела на него большими глазами. – Когда настанет тот день и все исподнее, запрятанное в углы поповских каморок, во время великой стирки повиснет в лучах Божьего солнца, будет любопытно посмотреть, как господа священнослужители осмелятся поднять свои головы. Можете кадить сколько угодно, так, чтобы у милых ангелочков заслезились глазки, – это не поможет. Святому Петру придется молитвенно сложить руки и воззвать: «Господи Боже, Отец Всемогущий, если бы мы знали, что они притащат с собой еще и детские вещи, я бы не открыл им врата рая!»
– Но святой Петр все‑таки отпирает их, и все нечистое и греховное испаряется, как испаряется роса с растений, когда на них светит Божье солнце. В этом и есть тайна, непостижимая мудрость и благодать Господня, заключающаяся в том, что согласно Его замыслу, в мире, устроенному по Его воле, Он иногда попускает, для непостижимых целей, впасть во грех. Это касается даже тех, кто Ему служит. Иногда они и сами этого не осознают, но Он знает, почему все произошло именно так. И когда ваше сердце начнет усиленно биться, осознавая бремя греха, которое вы на него взвалили, Он одним волшебным ударом освободит грудь от тяжести. Грязная одежда, которой мы стыдились, спадает, как прах под Его дыханием. И пока мы будем дрожать, оттого что нас окружает такая благодать, Он протянет руку и скажет: «Войдите, ибо вы чисты».
– Прямо без одежды, господин декан?
– Да. Как и все в природе. Кто смывает туманы осеннего утра, кто смывает с земли грязный зимний покров, чтобы весна могла появиться пред Господом в чистом цветочном одеянии, окруженная пряным благоуханием? Человеческая рука здесь бы ничего не смогла сделать.
– Господин декан, я имею в виду, что в каждом хорошем доме чистота – наипервейшая добродетель, а кто не вымылся на земле, тот не будет чист и на небе. Не знаю, как там в духовной сфере, пусть об этом заботятся другие. Но если бы это меня касалось, знаете, что бы я сделала?
– Так его, кузина! – воскликнул юнкер, потирая руки. – Прополощите его как следует в котле вашего гнева!
– Какой смысл полоскать его одного?! Котел должен быть размером с Мюггельзее [13], чтобы туда поместилось все духовенство со всеми елеями, аббатами, епископами, монастырями, монашками и монахами. А уж щелочь я бы намешала едкую-едкую…
– Кузина, обязательно такую приготовьте! И огонь под святошами не мешало бы разжечь, иначе они не очистятся.
– Вода почернела бы даже от их мелких тайных грешков: от тщеславия, высокомерия, чревоугодия, глупости, склонности к азартным играм и пьянству. Но воды в нашей марке достаточно. Уже очищенных, я бы бросила их в другое озеро. Ведь они искупили бы грехи своей плоти, но это было бы еще не самым важным. Понадобится отстирать их жадность и властолюбие, тягу к осуждению и хуле.
– Кузина, предоставьте это дьяволу, – прервал ее Петер Мельхиор. – Вы не сможете вынести этот запах. Оставьте то, что ему принадлежит, для него это будет подношением.
Декан благосклонно слушал благородную госпожу, не обращая никакого внимания на грубые выпады ее кузена.
– Таким образом, мы станем чисты перед людьми, – сказал он. – Но если мы предстанем перед Господом такими застиранными, то откроет ли нам Петр небесные врата? Не скажет ли он: «Хотя вы и очистились, но благодать, которую я даровал вам, также поблекла. Я не узнаю в вас больше своих созданий. Для меня вы были чисты, даже имея на себе пятна. За то, что вы позволили людям вас отмыть и привести в порядок по своему усмотрению, возвращайтесь к ним. Вы мне больше не принадлежите»?
– Возможно, в этом что‑то есть, – ответила госпожа фон Бредова после некоторого размышления. – Но следует учитывать тот факт, что вы и перед святым Петром перевернете все с ног на голову, ведь ваш главный грех – передергивание смыслов. Вы делаете кислое из сладкого и сладкое из кислого в зависимости от того, что вам нужно, а то, что вам нужно в данный момент, вы выдаете за Господню волю. Вы нам, не скрывая, демонстрируете, что во имя благой цели или во имя того, что вы называете благой целью, можно всячески юлить, вилять хвостом, подмигивать и прищелкивать языком. И хоть это делается ради добрых намерений, дьявол все равно унесет вас на своем горбу.
Небольшой переполох, вызванный прибытием в лагерь торговца с повозкой, избавил декана от необходимости отвечать. Тот, кто развозил товары по городам и весям, был в ту пору желанным гостем повсюду. Даже те, кто не хотел или не мог ничего купить, все равно были рады видеть все это великолепие вычищенных, красиво разложенных и должным образом расхваленных товаров. К тому же странствующий торговец был одновременно и источником новостей. Он прекрасно понимал, что все рассказанные истории без труда превращаются в звонкую монету. Однако для начала торговли требовалось разрешение госпожи Бригитты. Она его дала, хотя и после некоторого колебания, так как полагала, что купцы со своим товаром, как и священники, отвлекают людей от дел. Впрочем, ей было ясно, что даже для той абсолютной власти, какой она обладала в лагере, борьба с общими желаниями подданных могла бы оказаться непосильным испытанием. А тут еще и Евхен так настойчиво просила позволить посмотреть на товары, а Хансу Йохему понадобился новый ремешок для шпаги. Да и сама она была не прочь приобрести новые пуговицы к предмету одежды, о котором мы не раз еще расскажем в нашей истории.
Глава вторая
Признание
– Она сверкает, словно серебро, – сказал декан, поднеся одну из пуговиц поближе к свету. – Как обрадуется наш рыцарь, когда такая красота заблестит на боку его кожаных штанов!
– Это было бы прекрасно! Но он не должен ничего знать. Слуге приказано так их затереть, чтобы они стали похожи на старые свинцовые пуговицы. Те самые, что оторвались во время стирки. Будем надеяться, что Гётц [14] ничего не поймет.
– Чего он не поймет?
– Что они потерялись именно во время стирки.
– Значит, ваш супруг ничего об этом не знает?
– Боже упаси! Когда его несли в постель, он очень сопротивлялся, поскольку у него хотели забрать оружие. Я улучила нужный момент и под шумок просто выкрала штаны. Оставайся у него хоть капля здравого смысла, он положил бы их под подушку, как привык это делать после той роковой истории на мельнице, когда я попыталась их выстирать в прошлый раз. Ах, он тогда мчался за мной, словно вихрь! Можно подумать, что случилась бы беда, попади на оленью кожу хоть капля воды.
– Это было так уж необходимо?
– Совершенно необходимо! В последний раз я получала разрешение на их стирку от госпожи матушки Гётца. А это было в те времена, когда курфюрст Иоганн Цицерон еще не был женат [15].
– Конечно, их кожа с того времени несколько загрязнилась!
– Да вы не поняли бы, где заканчиваются штаны и начинается седло.
– Готтфрид – благочестивый рыцарь, и теперь, когда он снова увидит свои штаны чистыми и свежими, он, безусловно, возрадуется.
– Преподобный, вы не знаете моего Гётца. Иногда он рычит, как медведь, а если что‑то идет против его воли, просто сходит с ума. Как тогда, на мельнице. Он сжимал нашу дочь в руках, как мешок, отбрасывал в сторону и снова накидывался на нее – у моей Евы появился тогда багровый рубец вокруг шеи. Его было видно восемь дней.
– Бедное дитя! Почему именно Ева?
– Она украла у него штаны, когда он задремал. Ева щекотала пальцами его бороду, как он это любит, а когда Гётц заснул, плутовка подала мне штаны из окна.
– Маленькая Ева, – произнес декан задумчиво.
– Нет, почтенный господин! Муж ничего не должен знать, иначе эта история опять повторится. А сейчас он спит.
– Как же так! Ведь после его возвращения с ландтага уже прошло шесть дней!
– Господи, это немудрено после такого пира! Таким он еще ни разу не возвращался. Я всегда думаю: для чего вообще нужны ландтаги? А кто платит за пир и выпивку? В конце концов, наше графство.
– Но три дня назад я слышал…
– Тогда Гётц немного пошевелился. На третий день он всегда так делает. Затем Каспар дает ему суп, после чего супруг поворачивается на другой бок и спит еще несколько дней. Наверное, муж проснется завтра. Так что все нормально. Кузен Петер Мельхиор, как давно вы с ним выехали из Берлина?
– Всего восемь дней назад, кузина.
– Ну тогда все в порядке.
– Гётц, будучи человеком благородным, решил все вопросы, кроме одного. Они с маршалом [16] очень сокрушались, что не сумели выпить всего, чем угощали в Хольцендорфе. Это был прекрасный ландтаг.
– О нем действительно можно услышать много хорошего, – согласился декан. – Но как же все‑таки быть, ведь добрейший господин Бредов когда‑нибудь проснется?!
– К этому времени штаны должны лежать перед его кроватью, как будто он сам их там снял. Гётц не должен заметить, что они выстираны. Я велю слегка измазать их золой и немного испачкать колени.
– Кузина, в чем смысл стирать одежду, если вы ее тут же собираетесь снова пачкать! – рассмеялся юнкер. Впрочем, выражение его лица изменилось, когда он заметил, с какой серьезной миной смотрит на него декан. Впервые благородная госпожа, казалось, не сумела найти подходящего ответа: «Ну это же очевидно: она все равно выстирана».
Когда священник и госпожа Бригитта прогуливались взад-вперед по опушке леса, перемена в выражении их лиц бросилась бы в глаза любому. Губы декана были сомкнуты. А Бригитта время от времени смущенно поглядывала на него.
– Почему же вы, госпожа фон Бредова, еще не принесли покаяния после такого поступка? – спросил священник, покачивая головой. Впрочем, тон его не был укоризненным.
– Прямо здесь, в лесу?
– Даже лес становится храмом, когда сердце требует покаяния!
– Высокочтимый господин, но штаны просто необходимо было постирать! Их кожа совсем рассохлась и задубела. Христианскому рыцарю не подобает носить такую вещь. На войне еще куда ни шло. Но вы знаете, что он так привязан к этому старому куску кожи, что никогда с ним не расстается. Гётц бы и при дворе в них появился.
– Господин Готтфрид больше не появляется при дворе…
– Но он надевал их, когда ездил на крестины и на заседания ландтага. Подумайте только, Гётц явился в них к епископу, нашему преосвященнейшему владыке. К моему великому стыду, будучи пьяным, он пришел в них и на праздник Сретенья в Бранденбургский собор. Когда пришло время возвращаться домой, он трижды забирался на каменную тумбу, чтобы сесть на лошадь, и три раза падал с нее.
– И с тумбы города Керков господин Готтфрид падал. То же можно сказать и про Стехов. Угощение у епископа было весьма обильным.
– Но смеялись‑то все не над этим! То, что мой Готтфрид падал с каменной тумбы, ничуть его не унижало, а делало честь епископу и его угощению. Но бойкие бранденбургские кумушки шипели друг другу: «Неужели в Хоен-Зиатце нет воды?» Это было оскорбительно, позорно для меня! Как честная женщина, я не могла снова допустить такое. Но по-хорошему он бы их не отдал. И вы знаете почему. Так что мне просто пришлось это сделать! И вообще, разве стирка может быть грехом?
– Сама по себе чистота есть добродетель. Но всякая добродетель может обернуться грехом из-за неумеренности. Например, если вы стираете в воскресенье, а потому пропускаете мессу.
– Мы еще сегодня все закончили.
– Или если кто‑то считает, что очищение плоти более важно, чем очищение бессмертной души. Как метко замечено, моя дорогая госпожа фон Бредова: «Господь создал воду для омовения, ровно так же, как человека для вечной жизни». Человек обязан омыться водой во время крещения, все остальные творения Бога тоже должны быть омыты для того, чтобы достичь целей более бренных. Нет в этом ничего плохого, если человек принуждает к чистоте тех, кто ему подчинен. Он любит гонять лошадей и овец на реку, потому что сами по себе они туда не пойдут. Его дети чистят и поят их, даже если жеребята и ягнята сопротивляются и кричат. А значит, нет ничего предосудительного в том, что хорошая хозяйка желает, чтобы была очищена одежда, которую так любит ее муж. Даже если он сам этого не хочет. Даже похвально, что хозяйка отнесла одежду в стирку вопреки воле своего супруга. Но лишь в том случае, если бы не существовало прямого запрета. А в вашем случае такой запрет был высказан. Он запретил вам это делать, тогда на мельнице, не так ли? И был очень разгневан!
– Да, достопочтенный господин, но…
– Тем не менее вы сделали это против его воли, прекрасно понимая, насколько ваш поступок оскорбит вашего мужа. Ведь для него так важно, чтобы никто не трогал его одежду. А вы не просто взяли штаны без спроса! Вы взяли их хитростью, по сути – украли! Все случилось, когда он спал и не осознавал, что происходит. Вы вовлекли в свой обман собственную дочь, заставив ее подыграть вам: ей пришлось вести с отцом ласковые речи и в то же время за его спиной красть одежду. Ой-ой! Какое семя посеяно в невинном сердце ребенка! Собрав все воедино, подумайте, дочь моя, а потом честно ответьте себе, не против ли это закона, ставящего мужчину выше женщины, не против ли это христианской морали, которая не терпит лукавства? Словом, не грех ли это?
Декан замолчал.
Благородная госпожа тоже молчала.
– Да, достопочтенный господин, но все же их надо было постирать, – проговорила она наконец.
– Почему?
– Почему?! Ну как бы сказать… Потому что они были грязными! И, насколько я понимаю, они такими бы и остались до последнего дня существования мира, поскольку мой супруг – своевольный дурень. Я бы не простила себе, если бы он продолжал ходить в таком виде, позоря меня! Фамильная честь принадлежит и мне, и его детям. Дом без порядка – не дом. Можете считать, что я сделала это только из-за детей! Это был мой материнский долг. Другого пути не существовало, господин декан. Я совершила это исключительно из добрых побуждений.
– Так вот почему вы это сделали… – заключил декан и внимательно посмотрел на Бригитту.
Благородная госпожа не знала, как истолковать этот взгляд, и продолжила:
– Вам ведь известны знатные господа из Фризака [17]. Когда они однажды приезжали в Заухе или когда мы один раз за все время семейной жизни были у них, в глубине души я испытала огромный стыд! Ведь мы одной крови, но они смотрят на нас сверху вниз! Боже мой, у нас нет замка Фризак, где на лестнице стоят слуги с алебардами и где такие великолепные ковры, что замирает сердце! Остроносые туфли не для таких, как мы. Нет, старый седой господин Бодо был очень любезен с нами. Но молодым господам, которые стояли, засунув руки в складки своих плюдерхозе, и таращились на нас, не хватало только трубок во рту, чтобы они окончательно стали похожими на каннибалов Нового Света, как их описывают. У старшего на штаны одного сукна пошло семьдесят элле [18], у младшего – шестьдесят, да не нашего, из Бранденбурга, а тонкого, голландского. Подкладка у них сделана из разноцветного шелка. Когда молодые господа скачут на конях, она блестит на солнце, как облака на рассвете. И вот перед ними – мой Гётц, одетый в старую кожу!
– А что он вам ответил, когда вы объяснили ему все так разумно?
– Он сказал, что его штаны, если мне хочется, тоже можно стянуть ремнями, как плюдерхозе лентами, а вообще, из-за пустяков вроде одежды не должно возникать вражды и зависти. Но ведь обитатели Фризака сказали нам, что мы стали похожи на крестьян! И это говорят наши кузены! Есть ли у них христианские сердца? И все только потому, что мы не богаты!
– Поистине, похвально сохранять достоинство перед лицом богатых родственников.
– Ах, господин декан, тот, кто собирается держаться как дворянин, должен носить плюдерхозе. А когда мы приезжаем в Берлин, как смотрят на нас тамошние бюргеры, разодетые в дорогие сукна и шелка?! Мы не богаты, но наш долг заключается в том, чтобы быть честными и благородными людьми. Ну разве я требую, чтобы мой супруг носил плюдерхозе?! Я знаю, сколько они стоят. И я не безрассудна. Просто я за порядок во всем. Мне неизвестно, что о нас думают в этом замке под Кёльном [19], но мой Гётц не грабит по проселочным дорогам. С того момента, как мы стали мужем и женой, он лишь раз вместе с Адамом Крахтом [20] побил одного малого из Магдебурга, и больше такого не было. Хотя я бы ничего против не имела, если бы это не было строго запрещено законом, а содержание доспехов, слуг и лошадей не стоило бы таких денег… Да еще торчи неделями на пустошах, поджидая проходимца‑торгаша, а ведь иные из них так бьются за свои товары! Но вот, посмотрите, как поднялся и отлично живет род Иценплиц! [21] В общем, на всех, кто ходит в кожаных штанах, да еще в таких грязных, как у моего Гётца, смотрят без всякого доверия, да и его светлость курфюрст недавно сказал, что дворянин, грязный, будто прятался по канавам, – это подозрительно! О нас без всякого на то основания стала ходить дурная слава, а мы не виноваты. Господин декан, клянусь одиннадцатью тысячами святых дев – надо уметь за себя постоять. И если этого не делает мужчина, значит, должна сделать женщина. Другого пути нет!
Декан всплеснул руками и проговорил отеческим тоном:
– О да, моя дорогая госпожа фон Бредова, теперь я согласен с вами и не сомневаюсь, что другого пути нет. Вы сделали это для своих детей, для своего рода и для своего мужа. Вы даже обязаны были это сделать. Дворянин не должен терять чести среди подобных себе благородных людей. Ибо лишь Господь на небесах видит сквозь всякую грязную одежду чистую плоть, а через плоть – душу. А люди судят по внешности. Если бы вы находились на необитаемом острове, и черт, отвечающий за искушение стиркой, подбил бы вас украсть одежду вашего мужа, чтобы стирать и полоскать ее, вы были бы неправы. Вы бы сделали это только для того, чтобы предаться греху «чистолюбия», как это свойственно всем женщинам. Но в данном случае – совсем другая ситуация. Здесь проявляется ваше внимание к соседям, родственникам и к репутации семьи, а еще больше – к молодому курфюрсту и его советникам, которые в старой грубой одежде видят признаки грубого нрава ее владельца. Вы избавляете вашего супруга от опасности того, что при дворе на него станут смотреть с недоверием и, возможно, даже предадут суду. Потому что никто не знает, к чему в эти ужасные времена могут привести даже незначительные мелочи. Справедливо будет сказать, что Господь возжелал спасти главу вашего рода, используя ваши слабые руки. Он решил отвести от семьи позор, а может быть, и предотвратить смерть. Теперь становится очевидна цепь событий, которые надо трактовать должным образом: благочестивый господин Готтфрид был поставлен в такое положение, когда от него ничего не зависело. Госпожа фон Бредова присутствовала в то время, когда его принесли и когда раздевали. Именно тогда Всевышний обратил ее внимание на рассматриваемую нами одежду, и она быстро ухватила ее, прежде чем ей смог помешать слуга, знавший волю своего господина. Все произошло как раз перед большой осенней стиркой. Несомненно, все случившееся является для нас, заблудших детей человеческих, знаком, дающим уверенность и утешение в наших сомнениях.
– Значит, это не было грехом?!
– Именно, мой друг! Однако следует помнить, что у каждой вещи есть две стороны, и все на земле подвержено переменам: меняются наши задачи и обязанности, и нам предначертано Провидением, прежде чем судить, рассмотреть все вещи с разных сторон.
– Не надо – ведь они уже сохнут. И Ханс Юрген их сторожит, – проговорила госпожа фон Бредова, которая не знала, что еще сказать. – Так что же делать, господин декан?
– Помните, друг мой, если кто‑то что‑то скрывает, то прежде чем осудить его, мы должны задаться вопросом: а не утаиваем ли мы сами чего‑нибудь? Ведь грехи подкрадываются к нам, смертным, со всех сторон. Однако Божья воля – это конечная цель всех наших путей. Если мы, используя силы, которые дал нам Господь, будем иметь благие намерения и благую цель, то благочестивой христианке не придется опасаться, что она двигается к ней верхом на дьявольском горбу.
Госпожа фон Бредова поняла, что она окончательно запуталась.
– Так мне рассказать обо всем моему Гётцу?
Декан доверительно погладил ее по руке:
– Я думаю, что мы поступим иначе.
– Должна ли я снова измазать их грязью?
– Если это скроет обман, то есть, я хотел сказать, позволит убедить господина Готтфрида, то почему бы и нет.
– А Ева, не проговорится ли она…
– Она ничего не скажет! Если только одна моя знакомая объяснит все ребенку правильно…
– Это как?
– Вот так. – Декан подхватил госпожу фон Бредову под руку, чтобы отвести ее обратно в шумный лагерь. – Моя госпожа фон Бредова лучше всех знает, как внушить ребенку, что маленькие угрызения совести не идут ни в какое сравнение с тем, чтобы выполнить высший долг перед родителями, а особенно перед матерью.
Глава третья
Мостки
Даже на солнце есть пятна, даже в самом лучшем хозяйстве можно найти изъяны, и то, что мы считаем совершенно идеальным, может получить незаметное повреждение, после которого все пойдет наперекосяк.
Госпожа Бригитта фон Бредова считала, что у нее полный порядок, поскольку она самолично все организовала и расставила всех по своим местам. Но она просчиталась в том, что даже самый бдительный сторож может уснуть и лучший из людей все равно остается всего лишь человеком. Да и никто не обещает господину, будь то правитель империи или повелительница осенней стирки, что в его подчинении окажутся сплошь хорошие и способные люди. Мир многолик, и мы должны принимать его таким, какой он есть. Приходится выбирать между великанами и карликами, кривыми и хромыми, глухими и слепыми. Высшее мастерство проявляется в том, чтобы найти применение каждому человеку, со всеми его сильными и слабыми сторонами.
Ханс Юрген был ни на что не годен, вот почему его услали на отдаленные песчаные холмы над рекой, где дул самый пронизывающий ветер. Все смеялись над бедолагой и отворачивались от него. Несчастный парнишка! Ему исполнилось уже шестнадцать лет (правда, сам он измерял свой возраст зимами), он был сыном дворянина – одного из лучших среди всех, какие жили в марках между Эльбой и Одером, – и все же для обитателей Хоен-Зиатца он, видимо, был недостаточно хорош. Теперь ему поручили охранять кусок старой кожи, болтающийся, как висельник, между двумя соснами.
Росту в Хансе Юргене было пять фуз [22] и один золль. Он был достаточно силен, чтобы выкорчевать молодой бук, мог усмирить кобылу в загоне, если бы ему приказали, мог бы проскакать три майле без седла, чтобы передать важное сообщение. Глаза у него были как у рыси. Его стрела поражала птицу влет. Юноша без всякого разбега перепрыгивал изгороди и канавы. И все же с ним не хотели обращаться сообразно его рыцарскому положению.
Когда хозяин Хоен-Зиатца, господин Готтфрид, сердился, он говорил, что с рыцарством покончено и нет смысла зарабатывать шпоры, раз их больше не носят. Но почему же он при этом позволил двоюродному брату Ханса Юргена, Хансу Йохему, чье происхождение было не хуже и не лучше, учиться верховой езде и танцам в Бранденбурге и присутствовать с ним на скачках? Однажды фон Бредов даже послал его на турнир в Майсен со своим родственником – благородным господином фон Линденбергом, чтобы Ханс Йохем набрался там хороших манер.
Ханс Юрген был сиротой, но и Ханс Йохем тоже не имел ни отца, ни матери. Господин Готтфрид и его жена взяли в свой дом обоих детей умерших двоюродных братьев и поклялись воспитать их как собственных сыновей. Возможно, все дело в том, что у Ханса Йохема осталось от матери крупное наследство, которым управлял Хафельбергский собор, а Ханс Юрген был беден. Взяв сирот в замок, благородная госпожа Бригитта сказала, что делает это, поскольку Господь Бог не дал ей и Готтфриду совместных сыновей (но зато у нее были дочери). Она обещала, что окружит любовью и добротой маленьких деток, у которых Господь отнял сначала матерей, а потом и отцов.
Госпожа фон Бредова была честной и поступила благородно, но слова не имеют никакого веса, если они не подтверждаются делами, а разум человеческий весьма переменчив, так что отношение к сиротам сложилось по-разному. У Ханса Йохема было гладкое лицо и живые глаза, он всем умел угодить, люди вокруг него всегда смеялись и хорошо к нему относились. Про Ханса Юргена тоже никто не говорил ничего плохого, никто не знал за ним грехов, но не знали за ним и добрых дел. Можно было бы сказать, что он никогда не делал что‑либо хорошее так, чтобы это видели окружающие.
Некоторые говорили, что Ханс Юрген почти не открывает рта, что, несомненно, считалось признаком коварства. Но когда он пытался открыть рот, ему не давали вымолвить и слова, потому что не ждали от него ничего умного. Он вечно не успевал: стоило ему начать фразу, как кто‑нибудь другой уже заканчивал ее за него, но вовсе не так, как ему хотелось. А когда он обижался, все от души смеялись. «У него нет мыслей», – говорил про него декан. «Ты не дал мне возможности их высказать», – думал Ханс Юрген. Его лицо не было таким гладким, а глаза не казались такими живыми, как у Ханса Йохема. Как говорили люди, оно всегда сохраняло то ли высокомерное, то ли застывшее выражение.
Теперь Ханс Юрген сидел в одиночестве, глядя на речную воду. Время от времени выражение его лица менялось, и тогда в реку падали слезы. Но длилось это недолго, покраснев, он быстро вытирал рукавом глаза. «Хорошо, что этого никто не видел», – бормотал Ханс Юрген. Поднявшись и широко расправив плечи, он принялся бродить взад-вперед вдоль реки. «Если бы у меня был конь, закованный в броню, увидели бы вы тогда, какой я рыцарь», – думал Ханс Юрген. Но стоило ему расслышать звуки громкого смеха, как он вздрагивал всем телом.
Остальные молодые люди тем временем играли в «Увальня», пятная друг друга мокрыми тряпками, дразня и кидаясь чем ни попадя, словно беззаботные дети, для которых любая работа мгновенно становится игрой. Тому же, кто одинок, только и остается, что грустить и страдать от тяжелых мыслей. Не то чтобы Ханс Юрген все это время, не отходя от штанов, караулил их, но он был не со всеми. И если бы он попытался присоединиться к остальным, его бы не прогнали, – вот только оказалось бы, что, как всегда, его очередь водить. А когда слуги, растянув между собой большие куски ткани, стали бы выяснять, кого на них подкидывать, он бы не сомневался, что жребий выпадет именно ему. Ханс Юрген знал, что его считают нелюдимым, но не возражал, поскольку справедливо рассудил, что главное заключается не в том, что про него думают другие, а в том, что он сам про себя знает. «Все, чего я хочу, – это стать старше и больше», – подумал Ханс Юрген и при этом с такой силой стукнул по земле коротким охотничьим копьем, что его тупой конец вошел в землю.
Вокруг все затихло, лишь со стороны долины Эльзенбрух подул легкий вечерний ветерок, освежая его разгоряченное лицо. Из далекого монастыря Ленин донесся звон колоколов, призывающих к вечерней службе. Ханс Юрген покачал головой: «Нет, монахом я быть не хочу. Даже думать не буду об этом». Раздосадованный одной лишь мыслью о такой возможности, он быстро выкинул ее из головы – и тут кто‑то наотмашь ударил его по лицу. Ханс Юрген вскинул руку, мгновенно став красным от гнева, но оказалось, что его осмелился ударить не человек, которому можно было дать сдачи, а всего лишь мокрые штаны – те самые, которые он сторожил. Надувшись от затихшего было, но снова вырвавшегося на волю ветра, они раскачивались на веревке, а их мокрые ремни хлестали юного караульщика по ушам. Опять покраснев, но теперь уже не от стыда, а от гнева, Ханс Юрген протянул к ним руку. Схватив отвратительную кожу, он подумал: «Пусть это не понравится старому господину Гётцу, но придется ему скакать с голым тылом! А я больше не буду стоять на страже его штанов!» Еще мгновение – и штаны из хорошо выделанной дубленой оленьей кожи были бы в гневе брошены на песок, но тут Ханс Юрген услышал пронзительный и резкий вскрик.
Он знал этот голос. В следующее мгновение юноша уже сбегал с холма, закрывавшего вид на реку. Один из хлипких мостков упал в воду, и течение относило его к перекату, на камни. На мостках стояла испуганная девушка, и под ее весом они раскачивались, грозя вот-вот перевернуться. Если бы не мысль об опасности, угрожающей девушке, вся эта картина выглядела бы даже красивой: молодая прелестница в белом платье с красным корсажем и с закатанными рукавами, не выпуская из рук тонкое полотно, с трудом удерживала равновесие. Ее взгляд был прикован к ненадежной опоре под ногами, а из-за полуоткрытых губ блестел жемчуг зубов. Она побледнела, а затем залилась румянцем, поняв, что ее несет течением прямо на большой гранитный валун. Девушка явно растерялась. Одной рукой она стала быстро прятать в лиф платья длинную золотую цепочку, чтобы та не задушила ее, зацепившись за кусты и камыши, а другой пыталась дотянуться до ивовых ветвей, чтобы выбраться на берег. Однако она не успела добраться ни до услужливой ивы, ни до страшной гранитной глыбы. Вода буквально вскипела, когда Ханс Юрген прыгнул с берега в стремнину и мгновения спустя схватил мостки сильной рукой.
– Ты меня уронишь! – воскликнула девушка. Ее утлый плот от внезапной остановки качнулся сильнее.
– Позволь уж мне самому обо всем позаботиться, – ответил ее спаситель. Он придержал мостки правой рукой, гребя левой к берегу. – Теперь держись за меня и ничего не бойся.
Она протянула ему тонкую руку. Он все еще был по грудь в воде, но ногами упирался в твердое дно. Оказалось, что вытащить мостки с их прекрасным грузом на берег не самая простая задача – мешало течение. Ханс Юрген дрожал от напряжения, а девушка, наоборот, успокоилась.
– Не бойся, Ева, – сказал он, на мгновение остановившись и тяжело дыша.
– Чего мне бояться, – отвечала она. – Как видишь, я твердо стою на ногах. И твоя рука мне больше не нужна.
Он сделал еще одно усилие и вытолкнул мостки к самому берегу. Ханс Юрген хотел подать девушке руку, но она сама легко перепрыгнула на берег.
Бедный юноша делал такие забавные движения, пытаясь стряхнуть с себя воду, что Ева, невзирая на недавнюю опасность, от души рассмеялась, вместо того чтобы поблагодарить своего спасителя.
– Ты похож на пуделя, Ханс Юрген! – весело крикнула она.
– Пудель тоже умеет прыгать в воду, – пробормотал он и тихо добавил: – Ведь он приносит только то, что ему велят.
– Не сердись, Ханс Юрген. – Девушка попыталась загладить неловкость. – Спасибо тебе.
Молодой человек встряхнулся еще раз и что‑то пробормотал, но что именно, она не поняла.
– Вытрись, Ханс, чтобы другие не заметили. Иначе они станут смеяться над тобой, и надо мной тоже.
– Надо мной, Ева? Они и так надо мной смеются. Но у меня хорошая броня.
Ева Бредова огляделась:
– Ах, мостки, мостки! Ханс, они уплывают! Все заметят, что их нет. Кузен Ханс, их нужно вернуть на место.
Мостки уже отплыли на порядочное расстояние, но Ханс Юрген не бросился за ними.
– Я сделал это для тебя, Ева, и сделал бы снова, даже если бы ты не захотела меня поблагодарить. Ты опять хочешь посмеяться надо мной, но я не буду прыгать в воду из-за этой старой деревяшки.
– Ты ворчун и совсем не галантен, кузен Ханс.
– Меня зовут Ханс Юрген, – сердито отвечал юноша. – У тебя есть другие кузены, их тоже зовут Хансами. Позови Ханса Йохема. Если ты его попросишь, он сразу поплывет куда скажешь.
По лицу хорошенькой девушки скользнула тень. Казалось, взмахом бархатистых ресниц она отбросила прочь что‑то такое, на что ей и смотреть‑то было стыдно.
– Этого и следовало от тебя ожидать, Ханс Юрген. Ты ни на что не годен! Думаю, ты достаточно часто слышал это от своей приемной матери. Если бы ты был другим…
– Я таков, каков я есть. Поднимись на ноги, Ева, и уходи, чтобы никто не увидел тебя со мной. Не нужно бояться за мостки, которые не умеют болтать. Они могли сломаться, когда ты спрыгивала на берег или их сдуло ветром. Никто этого не видел, так что все хорошо.
– Ничего хорошего. Ты дрожишь, Ханс Юрген, ты замерз.
– Вовсе не дрожу и совсем не мерзну. Не выдумывай.
– Ханс Юрген, – ласково проговорила девушка, протягивая ему маленькую ладонь, – ты ведь никому ни слова не скажешь о том, что произошло?..
– Думаю, у меня найдутся другие темы для разговоров. К тому же я уже успел обо всем забыть.
– Но я не оставлю тебя в таком состоянии. Это было бы нехорошо…
– Помнишь, как я поймал тебе живую синицу и сплел ей клетку из тростника? Ты могла бы радоваться всю зиму, ведь раньше ты не уставала рассказывать, как любишь таких птичек. Но как только она у тебя появилась, ты тут же, шутки ради, ее отпустила. То же самое было и с лисенком. Все, что я готов для тебя делать, ты принимаешь так, будто это для тебя ничего не значит и ты благодаришь лишь из милости. А когда мы были в монастыре и припозднились, как ты испугалась кнехта Рупрехта [23], который преследовал нас гигантскими шагами и сгибал сосны, а фрау Харке [24] выглядывала из-за каждого корня? А когда в кустах раздался шум, ты прижалась ко мне, и я закутал тебя в свой плащ, чтобы ты смогла подремать. Это был я, твой милый Ханс Юрген. Ты тогда гладила меня по щеке пальцами, а твое маленькое сердечко билось громко-громко. Но когда в лесу стало светлее, ты почувствовала, что тебе слишком жарко рядом со мной. А когда впереди залаяли собаки, ты предпочла их Хансу Юргену. Ты обнимала их, как брата и сестру, и бежала с ними по подъемному мосту, будто тебя преследовало пламя.
Было видно, что в нем говорит давно сдерживаемая обида. То, что кипело внутри, вдруг вырвалось наружу, воспламенившись маленькой искрой. Ева не была бы женщиной, если бы сказанное ее не задело. Лучший метод защиты – нападение. Ее хорошенькие губки сжались. Было видно, что она борется с собой и хочет выйти победительницей, хотя бы отчасти.
– Ханс Юрген, ты не сделал ничего, что дает тебе право так говорить со мной, – сказала она, помолчав. Теперь в ее голосе не было ни добрых эмоций, ни теплоты.
– Я ничего не сделал. Ничего не делаю сейчас, да и не могу ничего сделать.
– Так, как поступил ты, мог бы поступить любой другой на твоем месте. Благодарю тебя, но я уверена, что Мартин, Венцель и даже сварливый Рупрехт тоже прыгнули бы в воду. В чем, собственно, была опасность? Река не глубока!
– Жалко, ведь будь она глубже, я нахлебался бы воды, и мне пришлось бы заткнуться.
– Это плохие речи, кузен.
– Если бы на моем месте был Ханс Йохем, он бы сразу ушел, а не трясся бы так, чтобы брызги летели во все стороны. Но и посмеяться над ним, сравнив его с пуделем, тоже было бы нельзя. Я сделал это, чтобы тебя позабавить.
– Ханс Юрген, остановись сейчас же! Ханс Йохем тоже хороший юноша, но он, вероятно, сначала подумал бы, стоит ли мочить новый камзол.
– Ты действительно так считаешь, Ева?
Она снова протянула к нему руку:
– Кузен, беги к огню и обогрейся. Думаю, тогда ты не будешь настолько резок в своих суждениях. То, что я выпустила синицу, было неправильно с моей стороны. Я потом это поняла и хотела извиниться перед тобой, но не сделала этого. А тогда, когда мы вернулись с прогулки, мне было очень стыдно, что я так испугалась, и тут ко мне подбежали собаки. Я решила переключить твое внимание на них. Но я, безусловно, сохранила в сердце то, как ты вел меня через ужасный лес, как ласково ты уговаривал меня не бояться. Я молилась Богородице, пока не уснула, и за тебя тоже молилась, Ханс Юрген.
– Спасибо! – Парень все еще мрачно смотрел прямо перед собой. – Это мило с твоей стороны. Знаешь, Ева, я не знал, что ты поступила именно так. Ни один человек не способен услышать того, что слышит Божья Матерь.
Ева Бредова тоже опустила глаза. Они поняли друг друга без слов. Не было смысла все высказывать вслух. Ханс Юрген опомнился первым:
– А теперь быстро уходи, пока тебя не хватились. Ты можешь сколько угодно смеяться надо мной вместе с другими, я не буду на тебя злиться и не забуду того, что ты мне сказала. Но придет время, когда меня не будут дразнить, когда мне не придется охранять старые штаны. А потом, потом…
– Ханс Юрген, куда ты?
– Просто уходи, я уйду после тебя.
– Но ты еще не пожал мне руку в знак того, что простил меня.
– Этого никто не должен видеть.
– Тебе не подобает плакать, Ханс Юрген.
– Я не плачу, – ответил он резко. – Мне надо идти ловить твои мостки. Они уплыли слишком далеко. Просто ступай к своим оборкам и носовым платкам. Я все верну на место, прежде чем кто‑либо заметит.
Но она остановила его таким тоном, что ему пришлось ее послушаться.
– Мостки – это просто связка жердей, рыбаки поймают их, прежде чем они уплывут в Гавел [25]. Кроме того, стирка окончена, а солнце уже садится. Лучше помоги мне пересчитать выстиранное и отнести все маме. Другие девушки слишком заняты, и каждая думает лишь о своей части задания.
– Ты просишь об этом меня, Ева?
– Ничего плохого в этом нет, Ханс Юрген. Любой бы помог.
– Я посчитаю тебе постиранное, соберу все и отнесу в кусты, а потом уйду, чтобы никто не видел.
– Почему же, Ханс Юрген?
– Чтобы никто не стал над тобой смеяться из-за того, что ты общаешься со мной.
– Пойдем! – настаивала Ева.
Ханс Юрген все еще колебался, но она не дала ему опомниться. Держась за руки, они вместе сбежали с холма, туда, где ее сестра и другие девушки были заняты укладыванием постиранного.
Смеясь, она воскликнула:
– Я расскажу им, что привела кое-кого, чтобы он помог нам. Бездельник думал, что достаточно поработал, корча недовольную физиономию перед штанами из оленьей кожи. Но я сказала ему, что это еще не конец работы. Ханс Юрген, сегодня ты – мой оруженосец, и я никому не позволю тебя обижать. Где сейчас были бы мои платочки и оборки, если бы не ты? Я расскажу о том, как мостки оторвались от берега. Но пусть это не меня унесло течением, а красивое и тонкое белье, которое могло бы застрять в камышах. Оно оказалось бы потерянным навсегда, если бы ты, Ханс Юрген, не проходил мимо и не оказался бы таким отличным пловцом.
И вот она нагрузила на его плечи и руки все то, что он мог унести. А потом, не найдя более подходящего места, надела на него флюгельхаубе [26]. Когда Ханс Юрген попробовал протестовать, она так ласково посмотрела на своего дорогого кузена, что ему стало удивительно хорошо на душе. Но не успели они приблизиться к основному лагерю, как она вдруг сорвала с него чепец и взяла в руки корзину, которую он нес.
Глава четвертая
Торговец и буря
Хансу Юргену и Еве не нужно было бояться, что они повстречают благородную госпожу Бригитту – та была занята совершенно другими вещами. Удивительно, как это она раньше не услышала хихиканья, радостных криков и хлопков в ладоши. Такие звуки беспричинного веселья не потерпит ни одна уважающая себя хозяйка.
Они стояли к ней спиной, хлопали в ладоши и приплясывали от радости. «К лешему его! Так ему и надо!» – кричали они так громко, что не услышали, как сзади подошла хозяйка и сердито спросила, кто это им разрешил бросить работу и устроить гулянку.
Однако это была вовсе не гулянка – просто все веселились, глядя на какого‑то нелепого седока, явно не по своей воле оказавшегося в седле скачущей галопом полузагнанной лошади галльской породы [27]. Проказливые мальчишки хлестали ее прутьями и веревками, но сухая терновая ветка, привязанная под хвостом, подгоняла бедное животное больше, чем их усилия. В конце концов неуклюжая кляча перескочила через изгородь у дороги и помчалась через ямы и канавы к лесу, не обращая ни малейшего внимания на человека, распластавшегося всем телом по ее спине и вцепившегося в гриву. Ей было безразлично, болтается ли тот еще в седле или уже свалился.
Всадник, вызвавший такое бурное веселье, быстро таял черной точкой вдали. Между его появлением и бесславным бегством успело произойти многое. За некоторое время до описанных событий он приехал на телеге, а служанки смотрели на него, разинув рты. Пояски и шелковые ленты, гребни, цепочки и серьги, а также переливающиеся на солнце огненно-красные и ярко-желтые ткани – этот человек обладал такими сокровищами, которые могли бы осчастливить на всю жизнь любую девицу!
Женщины вытащили кожаные кошельки, пересчитали в них пфенниги, выгадывая, чтобы наверняка хватило на желанную покупку, и начался торг. Купец клялся жизнью, что браслет и кольцо стоили ему дороже, чем он просит, а отдает их вдвое дешевле исключительно ради покупателей.
Ханс Йохем, юнкер, который всегда оказывался первым, когда происходило что‑то смешное или намечалась шалость, вдруг стал серьезным. Он не отводил взгляда от чего‑то, что протягивал ему торговец. Сначала это что‑то было похоже на большую и толстую колбасу, около двух шу [28] в длину; потом, когда купец ослабил веревки и развернул сверток, оно увеличилось так, что стало напоминать мешок, настолько огромный, что в него можно было бы при желании запихнуть кабана. А потом торговец засунул в «мешок» обе руки и даже голову, но, как ни пытался, не мог ухватиться руками за противоположный край. Одна складочка разворачивалась за другой – и вот перед Хансом Йохемом предстали во всей красе чудесные плюдерхозе, искусно сшитые и подбитые изнутри шелком.
Торговец дал юнкеру подержать роскошный наряд, повернув его так, чтобы ткань освещало солнце. Когда плюдерхозе оказались в руках Ханса Йохема, он чуть не задрожал от радости.
– Даже у самого курфюрста нет наряда лучше этого, – проговорил торговец.
– Тогда и мне незачем иметь такой, – ответил юнкер вполголоса и нерешительно протянул прекрасную вещь обратно купцу.
– Что?! – воскликнул тот. – Если не для юного господина фон Рецова, то для кого же еще могут быть предназначены эти штаны? Возможно ли юному господину из Хафельланда пренебрегать тем, что уместно было бы носить самому маркграфу? Юнкер Вихард фон Рохов носил штаны из похожей ткани еще при жизни курфюрста Иоганна Цицерона. Они были так же велики в ширину, как и в длину. И росту в нем было немало. Его нисколько не смутило, когда курфюрст пошутил, что, мол, в одной его штанине поместится весь урожай из Гольцова [29], а в другой – из Рекана! [30] «Милостивый господин, – ответил Вихард, – здесь может поместиться и весь потсдамский урожай, таким образом, мне будет возвращено то, что по праву принадлежало когда‑то моим предкам». Курфюрст отвернулся от него и не сказал больше ни слова, но слышавшие это представители знати посмеивались про себя и мысленно пожимали вашему кузену руку за его смелый ответ.
– Потсдам уже никогда не вернуть, – проговорил юнкер.
– Просто приложите ткань к себе, – предложил торговец. При этом он, казалось, вообще перестал заботиться о судьбе непроданного товара и начал рыскать в других ящиках в поисках новых сокровищ. – Если не возьмете вы, возьмет кто‑то другой. Такие вещи продают себя сами. Просто примерьте, юнкер, и больше ничего, чтобы девушки увидели, подходит ли вам этот наряд.
Ханс Йохем подчинился. Широкое матерчатое одеяние без труда налезло на узкие нижние штаны, и купец мгновенно завязал его пояс.
– Ты смотри-ка, сидят как влитые! Словно на вас сшиты! Теперь мы их просто немного затянем и зафиксируем на коленях пряжками…
– Нет, мы никогда еще не видели столь нарядного и благородного юнкера, – сказали служанки и попятились, чтобы освободить ему место.
На щеках Ханса Йохема тут же вспыхнул румянец, под стать показавшейся на мгновение шелковой подкладке. Когда юноша, смущаясь, спросил о цене, торговец торопливо заверил его, что о таких пустяках и говорить незачем. Хотя, если честно, за них не жалко было бы отдать целую империю.
Ханс Йохем сделал шаг в сторону реки, чтобы увидеть свое отражение в воде. Ни один наряд никогда не подходил ему так, как этот. В голове билась мысль: «Вот бы они стоили одну марку!» Радостное настроение нарушила маленькая Агнес – дочь госпожи Бригитты. Она с тревогой прошептала:
– Спроси у него точную цену, Ханс Йохем, ведь Хеддерих – мошенник.
И теперь, когда слово, нарушившее все очарование момента, было произнесено, штаны, казалось, обвисли вокруг его бедер ледяными и тяжелыми складками. Они будто смеялись над бедным недотепой.
– На них было потрачено пятьдесят элле ткани! Тут и фламандское сукно, самое нежное, какое можно найти, и миланский шелк, и венецианские пряжки. Пара марок за такую красоту – вообще не деньги!
– О, бедный Ханс Йохем! – тихо простонала Агнес.
Тем временем Клаус Хеддерих думал про себя, что с молодого человека, очевидно, не много возьмешь. Но его деньги хранятся в Хафельберге, и лишь одного слова милостивого опекуна будет достаточно для того, чтобы немного подождать с оплатой. За эти штаны можно было бы взять три марки. Но захочет ли Готтфрид фон Бредов оплатить эту покупку?
«Какие тяжелые грозовые тучи наплывают! Скорее бы под крышу. Хотя такая покупка сделала бы честь Хоен-Зиатцу», – так думали слуги и ремесленники. И даже самый несчастный безземельный крестьянин, из тех, что спят под одной крышей со свиньями и не смеют перешагнуть грязными ногами господский порог, думал так же. Он тоже был бы счастлив, если бы симпатичный приемыш, живущий в Хоен-Зиатце, получил такую красивую вещь. Хотя что он видел от юнкера? Садясь на своего коня, тот даже не удостаивал его взглядом. А однажды, когда крестьянин недостаточно быстро отпрыгнул в сторону, он получил удар хлыстом, который оставил след на его грубой коже. Еще немножко – и конь вообще мог бы его затоптать. Ну что ж, ведь юнкер принадлежал к благородной семье. И честь его дома была в то же время честью бедного крестьянина. Своей у него не было.
Так думали собравшиеся, а Ханс Йохем тем временем возился с поясом. К его большому смущению, торговец так туго его затянул, что он теперь не мог с ним справиться.
И тут, всего через мгновение, ситуация резко изменилась. Миг – и торговец больше не стоял на телеге гордый, как владыка мира: толпа женщин с криками сшибла его на землю, повалила и принялась колотить, а он напрасно воздевал руки к небу, пытаясь доказать свою невиновность. Дело в том, что служанки решили проверить купленный у него яркий платок, который он выдавал за дорогой товар, и обмакнули его в воду.
– Это подделка! – кричали разгневанные женщины.
Им вторили слуги:
– Он продает поддельные товары!
Торговцу в лицо полетела мокрая тряпка, моментально оставив на нем причудливые желто-красные пятна. В испуге служанка Анна Сюзанна выронила из рук серебряное колечко, которое ей купил мастер Кристоф. Оно должно было вскоре стать обручальным. От удара о камень колечко разбилось – серебро оказалось спаяно свинцом.
Напрасно торговец Клаус Хеддерих пытался встать на колени, изображая раскаяние, напрасно кричал, что его самого подвели нюрнбергские купцы, напрасно обещал взамен не просто хорошие, а лучшие товары, клялся, что привезет золотое колечко, проверенное лично главным золотых дел мастером, а также платья из настоящего шелка. Напрасно звал он юнкера Мельхиора, чтобы тот защитил его, напрасно взывал к милости господ из Хоен-Зиатца, соглашаясь на суд благородных фон Бредовых, напрасно обещал за полцены отдать штаны юнкеру Хансу Йохему. Никто его не слушал.
– На виселицу его! – кричали вокруг.
Люди распрягли лошадей торговца, перевернули его телегу, порвали ремни, крепившие товар, и вышвырнули на землю вьюки, ящики и сундуки. Его щипали и пинали, а кнуты слуг успевали добраться до него раньше разгневанных девиц. Те, в свою очередь, яростно ругали злосчастного мошенника, били его кулаками и царапали ногтями.
Не хочется думать, что его в итоге повесили бы, но пришлось ему не сладко. И было бы еще хуже, если бы Петер Мельхиор не сказал своего слова. Он говорил, что неплохо было бы содрать с торговца кожу или повесить его за руки на сосне, а еще лучше – засунуть в болото по самый подбородок. Но нет никакой гарантии, что его не вытащат, и неизвестно, чем это все обернется. При этом юнкер заговорщицки подмигнул, указав на лесную тропинку, по которой до приезда купца ушла благородная госпожа.
– Вы должны позволить ему убежать и даже, черт возьми, устроить за ним погоню, чтобы он точно уж не вернулся, – заявил он. – Чем скорее вы избавитесь от этого жулика, тем лучше. А пока за ним гонятся, вы сможете разобрать его вещи и посмотреть, нет ли там чего‑нибудь, что могло бы возместить вам ущерб.
Не успел бедный торговец хоть что‑то понять, как уже сидел на лошади и несся незнамо куда, покинув все свое имущество.
А юнкер Ханс Йохем остался любоваться прекрасными штанами, которые гармонировали по цвету с вечерним солнцем. Он подумал, что в спешке торговец их просто забыл. Вторая мысль была о том, что вернуться за деньгами ему теперь будет крайне затруднительно. А от третьей мысли он покраснел так, что стал похож по цвету на огненные буфы собственных штанов. Ему показалось, что из зарослей терновника раздается голос декана: «Тут опять виден промысел Божий. Если кто‑то захочет обмануть ближнего своего, окажется обманут сам. Захочешь получить вдвое больше, останешься ни с чем!»
Так нашептывал ему терновник, сквозь который пробивался свет заходящего солнца. А может, ему это просто казалось: от ветра иногда так странно шуршат и трещат ветки. Но тут ветер подул c новой силой и качнул ствол дерева, на который опиралось копье Ханса Йохема. Оно стояло не очень устойчиво и поэтому с грохотом повалилось. И опять почудился ему в этом грохоте голос: «Позор тебе, Ханс Йохем. Ты – человек благородного происхождения, а не вор. Если бы ты бросил этого негодяя в канаву, проломив ему голову, когда он требовал от тебя денег, то продемонстрировал бы тем самым поведение благородного рыцаря. При этом ни один достойный человек не смог бы сказать тебе, что ты вор. Но если ты ничего не дал за эту вещь, ни денег, ни какого‑нибудь пустяка, то такой поступок достоин нищего или цыгана. А их, как ты знаешь, часто вешают за нечестные поступки».
Вот что говорили Хансу Йохему терновник и копье, а он стоял как вкопанный, не слыша даже приближающихся раскатов грома. Одной рукой он задумчиво теребил пояс, а другой гладил красивые яркие складки буфов.
Потом кто‑то снова прошептал ему на ухо:
– Избавься от них, дорогой Ханс Йохем! Избавься от них! Это ничем хорошим не кончится! Ах, боже, смотри, она уже тут!
То была маленькая Агнес. Она побледнела от ужаса, заметив приближающуюся мать – госпожу фон Бредову, грозную, как буря.
Ни художнику, ни поэту не следует слишком часто воспевать бурю. Тому, кто любит изображать грозу и ночь, постепенно начинает казаться, что он не выносит милого солнечного света и опасается безветрия. Но, увы, нам еще предстоит рассказать о множестве бурь, которые затронут героев этой книги. И первая из них не заставила себя долго ждать. Для того чтобы понять ее природу, надо просто вспомнить характер госпожи Бригитты фон Бредовой. Все, кто стоял вокруг нее, так низко опустили головы, что походили на поле, где ветер обломал все колоски. Госпожа Бригитта огляделась, чтобы решить, кто же должен ехать за торговцем и догнать его, и тут ее взгляд упал на Ханса Йохема. «Не самый худой вариант, – подумала она. – Он толковый малый. Но как же Ханс Йохем сядет на коня! Он толком не умеет скакать верхом, это с первого взгляда понятно».
Благородная госпожа снова огляделась в поисках новой кандидатуры.
– Ханс Юрген!
Ханс Юрген покраснел от гнева – ведь это не на нем красовались необъятные штаны.
Ева испуганно посмотрела на мать, которая тоже была красной от гнева.
– Быстро в седло! Где у нас какой‑нибудь оседланный конь? Один конь галльской породы всегда догонит другого. Надо брать именно галльского, даже если он не оседлан.
Пришлось Хансу Юргену обходиться без стремян и седла. Конь был старый и длинноногий, костей в нем было намного больше, чем плоти, поэтому тряский аллюр пробирал седока до печенок. В другое время над ним посмеялись бы всласть, но сейчас все было иначе. Если бы кто‑то спросил себя, на чьем месте он хотел бы оказаться – на месте оставшегося в лагере Ханса Йохема или уносящегося вдаль Ханса Юргена, – ответ был бы в пользу последнего.
К вечеру непогода разыгралась по-настоящему. Коварный ветер проносился низко над вереском и шевелил верхушки деревьев. В ином случае госпожа фон Бредова, внимательный взгляд которой ничего не упускал, давно бы уже заметила приближающуюся бурю. Подобно капитану корабля, она быстро и кратко отдала бы приказ: «Поднять паруса! Увязать мешки и тюки! Направить корабль в порт!» Но даже лучшая из женщин все равно остается женщиной. Разбирательство, которое она устроила по возвращении в лагерь, необходимость выполнять функции строгого судьи, решающего участь кающегося грешника, не позволили ей обратить внимание на признаки надвигающейся непогоды.
Так, вероятно, судят самых отъявленных негодяев: возмездие нависает над их головами, как грозовые тучи, чтобы обрушиться на бедного грешника, не давая ему ни малейшего шанса. Возможно, Ханс Йохем и был так плох, как его характеризовала госпожа, но следует признать, что он, по крайней мере, еще не оказался испорчен грехом притворства. То, что он испытывает чувство вины, было написано у него на лбу аршинными буквами. На его белом как мел лице застыло покорное выражение, ставшее совсем жалким, когда госпожа позволила ему оценить всю степень собственного тщеславия и стремления к роскоши. Ее насмешливые слова хлестали его, словно ливень – оконное стекло.
Ханс Йохем вяло пытался защищаться и что‑то бессвязно бормотал, одновременно пытаясь избавиться от штанов, все еще стянутых застежками. По его объяснениям выходило, что он то ли хотел оставить себе эту роскошную вещь, то ли не хотел вовсе.
Неожиданно на его защиту встала Агнес фон Бредова. Юная тихая девушка вдруг превратилась в пламенного оратора. Конечно же, заявила она, он даже не собирался примерять эту вещь. Но торговец насильно впихнул его в штаны. После этого они странным образом буквально прилипли к телу. Она сама видела, как торговец завязывал все эти ремни и застегивал пряжки – вот ведь злой человек! Воспоминание об этом кошмаре так взволновало девушку, что на ее глазах заблестели слезы. И в качестве доказательства правдивости ее рассказа она отметила то, что ее бедный кузен все еще не может избавиться от этой вещи.
Ева с изумлением смотрела, как блестят глаза ее сестры, которая тем временем закончила свою речь так:
– Я совершенно убеждена, что моего кузена заколдовали!
Агнес огляделась в поисках поддержки и почти умоляюще посмотрела на декана. Он пожал плечами и проговорил, что некоторые в Берлине считают эту пришедшую из Нидерландов моду на пышные штаны совершенно неправильной. Говорят, что в них сидят демоны, обманывающие чувства людей. Впрочем, у него слишком мало опыта в подобных мирских делах, чтобы знать все наверняка. Петер Мельхиор, который до сего момента держался в тени, теперь заявил, что он никогда не доверял Хеддериху. Слуга Рупрехт многозначительно покивал головой, а служанка Анна Сюзанна залилась слезами, назвав торговца безбожным магом. После этого декан решил снова присоединиться ко всеобщему обсуждению и заявил, что, если совместные усилия не сработают, он лично берется изгнать нечистую силу посредством надлежащего обряда. «Ну уж нет, – подумала госпожа Бригитта. – Обряд экзорцизма я, пожалуй, возьму на себя!»
Одним рывком сильных рук она порвала пояс штанов, затянутый торговцем на талии Ханса Йохема. Но наколенные ремни были еще застегнуты, и все пятьдесят элле ткани упали на землю, покрыв ноги юнкера огненно-красными волнами. Казалось, что у бочки внезапно лопнули обручи. Вот теперь Ханс Йохем действительно выглядел заколдованным.
– Он, безусловно, был под властью колдовства. Верно, господин декан? – спокойно проговорила благородная госпожа. – Я сейчас объясню, почему это произошло. Когда он надел эту цветную сатанинскую вещь, то захотел убедить себя, что она не украдена, и у него тут же появилось желание никогда ее не снимать. Что‑то подобное с ним уже и раньше приключалось. Дьявольские проделки. А дальше вот что было: пока все называли плута плутом и гонялись за ним по лесам и горам, Ханс Йохем вовсе не возражал по поводу того, что эта вещь осталась с ним. Его даже не раздражало, что ткань прилипла к его телу. Одной рукой он пытался от нее избавиться, а другой крепко придерживал. Потом пришел второй черт и прошептал ему: «Если Хеддерих не вернется за штанами, кто тебя заставит их возвращать? Третий черт посоветовал ему поклясться в том, что он не хотел красть эти штаны, и поклясться тем, чье имя сам он не смог произнести. Сколько же приходило чертей? Один, три, а может быть, семь? И только затем, чтобы юнкер бесплатно смог получить понравившиеся ему штаны! Но я хочу выгнать всех семерых, и не будь я Бригитта фон Бредова, если мне потребуется для этого святая вода или священник!
Проговорив это, госпожа направилась к Хансу Йохему. Тот же пытался отойти от нее подальше, волоча за собой целый текстильный склад и вздымая тучи пыли. Неизвестно, что бы дальше с ним случилось, если бы на помощь не пришел кузен Ханс Юрген.
Сидя на коне без седла и стремян, он вел за собой другую лошадь, на спине которой можно было разглядеть человека, всем своим жалким обликом напоминающего теленка, которого мясник тащит на базар. Поскольку никто не спросил у Хеддериха, не слишком ли быстро движется его лошадь, торговец чуть не свалился на разбросанный по земле товар, когда та внезапно остановилась.
«Что‑то мне здесь перестало нравиться, да и ветер становится все сильнее», – подумал про себя Петер Мельхиор и отошел подальше. Остальные продолжали смеяться от души: при этом одни со злорадством посматривали на торговца, другие с одобрением – на Ханса Юргена. Стоящий здесь же декан лишь поплотнее закутался в свою мантию. Наконец и остальные начали замечать, что ветер и впрямь усилился. Он уже не шелестел верхушками деревьев, а то трещал, как огонь в печи, то принимался выть и свистеть. Вода в реке тоже стала очень неспокойной, а вороны с карканьем носились над соснами.
Незаметно подкралась черная туча, огромная, как гора. Внизу она разверзлась, будто распахнув гигантские ворота, и оттуда метнулся на землю яркий всполох.
«Иисус, Мария, помилуйте меня! Что же это происходит?!» – воскликнул или подумал каждый из присутствующих. А благородная госпожа лишь спокойно прикрыла рукой глаза:
– Буря – вот что это такое!
Стоило ей это произнести, как раздался треск, похожий на выстрел. У шатра, стоявшего с краю, сорвало крепление, и он опрокинулся, ветер тут же подхватил его и с шумом пронес над людскими головами. Не только шатер, но и белье вместе с прочими вещами взлетело, как снежный ком. Вслед за этим в воздух взметнулись шляпы, шапки и плащи – все, что не смогли удержать. Когда ели гнутся, словно тростинки, стоит ли удивляться белым как мел лицам, молитвам, вылетающим из бледных уст, и призывам о помощи, адресованным самым разным святым?
– Место здесь нечистое, я всегда это говорил, – проворчал Петер Мельхиор.
Как бы подтверждая его слова, кто‑то воскликнул:
– Смотрите, вот летит ведьма!
Пожалуй, это действительно были не просто облака, гонимые бурей среди желто-красных всполохов света. Что‑то просвистело над головами, цепляясь за ветки елей. Какой‑то ком, чудовище всех возможных цветов, раскинувшее в воздухе корявые руки.
– Аве Мария, все святые! – простонал декан. – На меня что‑то напало!
Он упал на колени, поскольку какая‑то темная, непреодолимая сила распластала его по земле. Декан тщетно боролся, напоминая несчастного греческого героя, которого жена укрыла погибельным хитоном. Но каждый думал лишь о собственном спасении. Даже благородная госпожа Бригитта пробежала мимо, ничуть не заботясь о своем друге. Впрочем, добрая женщина успела подхватить Ханса Йохема, которому наконец удалось избавиться от застежек и который застыл на месте, не в силах отвести глаз от раздутых пестрых штанов, уносимых ветром. Госпожа Бригитта в свойственной ей манере напомнила ему, что сейчас не время ротозейничать. Не лучше пришлось и Хансу Юргену – ему она тут же поручила новую работу. А ведь он едва справился с предыдущей! О спасении бедного юноши она совсем не беспокоилась. Но что поделаешь: в трудные времена каждый за себя.
Вероятно, только торговец Хеддерих был тем человеком, который почти не растерялся и смог позаботиться о себе, как только представилась такая возможность. Совершив прыжок, он сшиб стоявшего у него на дороге декана. Бедный декан! Он вскрикнул от ужаса, ибо решил, что все Божье воинство обрушилось на него. Оставалось лишь бормотать молитвы. Однако Божье воинство внезапно оставило его в покое. Благочестивый пастырь лишь успел расслышать обращенные к нему слова:
– Чтоб тебя! Если уж лицо духовного звания выступает на стороне воров, чего еще ждать… Но не выйдет, поцелуйте меня в…
– Sanctissima! [31] – завопил декан и скрылся в дремучем лесу вслед за остальными.
Если бы кто‑нибудь увидел все происходящее со стороны, он, безусловно, подумал бы о шабаше ведьм. Сколько же было неразберихи и суматохи! Но прошла всего лишь четверть часа, и в лесу стало безлюдно – люди, животные и телеги исчезли среди деревьев. Если бы буря стихла хоть на мгновение, еще можно было бы расслышать, как скрипят колеса и гудит рожок, но не осталось ни платка, ни чулка, забытого на кустах, ни тех, кто был здесь занят целую неделю стиркой. Благородная госпожа все еще высматривала во тьме потерянное белье. Однако если что‑то белое и мелькало между соснами, так это была пена из озера, занесенная бурей в лес. И если в сумерках и было видно какое‑то движение, то это качались стволы. А то, что можно было бы принять за голоса, оказалось уханьем совы да тявканьем лисицы, которая проверяла, не осталось ли в лагере чего‑нибудь съедобного.
Но в лесу все еще оставался один человек, брошенный в одиночестве среди ночи. Он глухо застонал, словно выпуская на волю боль, которую сдерживал в груди долгое время. Теперь его мучителей не было рядом, и он мог себе позволить подать голос. Дикий крик, полный отчаяния и дьявольской злобы, вырвался наружу, когда торговец Хеддерих наконец сумел опомниться после неудачной торговли, закончившейся побоями и бешеной скачкой:
– Живодеры, а не люди! Сборище разбойников! И это называется благородные господа! Хуже было бы только, если бы я попал в руки Кекерица и Людерица! [32]
Он воздел к небу руки, и выглянувшая сквозь разорванные тучи луна осветила искаженное лицо человека, замыслившего недоброе. Люди с такими лицами обычно не ждут, когда к ним придет честно заработанное богатство, они берут его сами – на большой дороге.
– О вы, благородные господа, вы, рыцари, вы, феодалы, вы, облеченные властью, наступайте на червя, тычьте в него копьями до тех пор, пока не проткнете все его внутренности, катайте его шпорами по песку, сдирайте с него кожу и плюйте в него! Это замечательное времяпрепровождение! Спаси меня святой Николай, я тоже хочу от души посмеяться. Посмеяться, как смеется майский жук, который, будучи привязан к нитке, вдруг разрывает ее и улетает. Суть у меня такая же, как и у вас, но я должен извиваться всем телом, каждым его членом, когда вы топчете меня, мои шелка, мои ткани, мои мечты! Я такой же, как и вы, почему же я должен пресмыкаться, словно дождевой червь? Вы растоптали и меня, и мое сукно, и мою шерсть! Всемилостивая Матерь Божия, милосердная! Чума! Ад и дьявол! Пропащий я человек! Если они… – Казалось, он сам испугался своих мыслей.
Вздрогнув, торговец провел рукой по растрепанным волосам и бросился на мешок с товарами, вцепившись в него мертвой хваткой. Проверяя его содержимое, он то и дело сжимал тощие руки в молитве. Нервно перебирал он предмет за предметом. Его лоб взмок от ужаса. Наконец его пальцы коснулись заветного свертка. Он встряхнул его и тут же услышал прекрасный звон серебра. Лицо мужчины просветлело, губы искривились в гадкой усмешке. Он презрительно рассмеялся, а его рука, которую он хотел сложить для крестного знамения, лишь хищно пошевелила пальцами.
– Ну что, нашли, стервятники, ястребы, падальщики? – бормотал он. – Слепые дворняги, вы подняли лай слишком рано. Но подождите, долго волки прятались за забором. Справедливость восторжествует. Вы будете плакать и скрежетать зубами, когда они вопьются в ваши ноги. Я бедный человек, но вам будет житься хуже, чем мне, хуже, чем самой поганой собаке. Вы говорите, что курфюрст – мальчишка. Из мальчиков вырастают мужчины, а вот о том, что будет с вами, надо будет спросить у палача. Распрягли моих лошадей, побросали мои товары! Кто возместит ущерб? И ремни порвались. Кто их свяжет? Крышка сундука продавлена. Я подам в суд! Клянусь! Клянусь своей шеей, хоть меня здесь никто и не слышит. Золота и серебра в этом сундуке было на три тысячи… Пресвятая Дева, что это такое?!
Что‑то зашуршало и захлопало. Буря утихла, теперь дул лишь легкий ветер, который раскачивал на сосне нечто напоминающее гигантские руки. Клаус Хеддерих ловко, словно кошка, соскочил с телеги и залег под ней, стуча зубами от ужаса.
– Святой Николай, святая Урсула, Пресвятая Богородица, спасите меня! Бог Отец, Сын и Святой Дух, я всегда крестился на перекрестках дорог, я никогда не пропускал обедни, конечно, когда мог ее не пропускать, я не совершал смертных грехов, не проливал ничью кровь, я исповедуюсь и молюсь, когда заканчиваю с торговыми делами. Еретические учения мне противны, я всегда плюю вслед евреям. Я принес освященную свечу в жертву Деве Марии в Хафельбергском соборе. А еще я толкнул рабби Элиезара локтем, когда встретился с ним на лестнице. Святая Клара, святая Марта, святая Урсула и Христова кровь в Вильснаке [33], клянусь, я просто ошибся, не было в сундуке золота и жемчугов, я соврал! Уважаемые святые должны учесть, что я раскаялся! Я завышаю цены не более чем на десять монет. А еще я готов поклясться, что мой овес стоит выше рыночного на сущие гроши. Все это я делаю исключительно по доброте душевной…
Ведьма, сидящая на дереве, не спешила его хватать. Все еще бормоча, торговец поднял голову и стал всматриваться из-под спутанных волос. Но чем больше он вглядывался в то, что его напугало, тем тише делался его шепот. Нечто все еще шуршало и хлопало между сосен, но торговец уже сидел на земле и стряхивал с себя пыль. Затем он сердито прокричал:
– Ну и вздор! Это же старые штаны Гётца фон Бредова! Вот они‑то мне и пригодятся вместо порванных ремней.
Глава пятая
Замок Хоен-Зиатц
После того как буря утихла, флюгер на крыше еще долго крутился на своих ржавых петлях. Луна смотрела сквозь рваные облака на старый замок Хоен-Зиатц, и если бы у нее могли быть какие‑то эмоции, то сейчас она была бы озадачена. При свете дня любой путешественник назвал бы замок обветшалым родовым гнездом. Он находился на возвышении, среди заболоченных лугов. За ними, там, где заканчивались пруды и канавы, раскинулись сосновые леса. Их белоснежный песок постепенно переходил в темное болото. Узкие и кривые тропинки причудливо петляли по лесу, и по сравнению с ним участки, засеянные рожью и овсом, казались такими маленькими, что возникало сомнение в том, что они могут прокормить людей, живущих в замке. В тени замковых стен виднелась маленькая деревенька, убогие глинобитные домишки которой тянулись к лесу и терялись в нем.
Должно быть, в былые времена за каменными укреплениями можно было отыскать надежное убежище от врагов. Холм, на котором находился замок, не был песчаным, а состоял из плотной земли, покрытой коротким густым дерном. При ближайшем рассмотрении можно было понять, что, по крайней мере, верхняя его часть не была создана природой, но являлась делом рук человеческих.
Этот холм, на котором громоздились укрепления, являлся не чем иным, как старым валом вендов [34], на котором впоследствии германцы возвели каменные стены. Замок отличался от тех, что можно увидеть во Франконии, Швабии или Саксонии, где на горах и холмах под солнцем горят красные черепичные крыши. Толстые стены и башни, возвышавшиеся над земляными валами и за ними, были построены в разном стиле. Похоже, в какой‑то момент у владельцев фортеции закончились средства или иссякло желание тратить на строительство жилища лишние деньги, и они вернулись к материалам, освященным обычаями предков. Там, где заканчивался камень, использовалось дерево, а при нехватке кирпича фахверковый каркас заполнялся обычной глиной. Даже главная стена замка не производила впечатления законченной постройки – промежутки в каменной кладке заполняли бревна и балки, тут и там щетинились клыками окованные железом навершия. Ворота представляли собой большую каменную арку, впрочем, не намного шире, чем на некоторых крестьянских фермах в Саксонии. Восьмиугольная башня была деревянной, но обложена красным кирпичом. Там, где кирпичи выпадали, в более поздние времена довольствовались для починки строительным раствором и глиной.
Снаружи это выглядело достаточно пестро и не всегда ровно. Если бы блаженной памяти маркграф Фридрих Первый [35] расположился сто лет назад со своей «Ленивой Гретой» [36] у стен Хоен-Зиатца, дело закончилось бы быстрее, чем это было с Плауэном, Ленценом и другими замками, толщина стен которых достигала семи элле. Предок господина Гётца – Бредов фон Хоен-Зиатц – предпочел тогда подчиниться, чтобы не доводить дело до осады. «Чего нельзя изменить, то надо принять», – вероятно, думал он, когда поутихла радость от славной битвы при Креммер Дамме [37]. Он благодарил Бога за то, что франконские воины прошли мимо их болота и ни у кого не возникло желания проехать по извилистой дамбе через затопленный луг. Если бы это случилось, деду нынешнего владельца Хоен-Зиатца, скорее всего, пришлось бы отдать старое знамя, которое он отнял в драке у самого Гогенлоэ [38]. А так оно осталось в замке. Правда, не в нижнем зале, вместе с доспехами, а наверху, в маленькой спальне, прямо над кроватью Гётца. Рыцарь удалялся в эту комнатку, когда ему хотелось отдохнуть от суеты.
Древко уже давно съели древоточцы, время и пыль оказались безжалостны к шелку. Однажды летом в знамени свил гнездо маленький сыч, и добрейший господин Готтфрид заметил это лишь тогда, когда ночью распищались птенцы. Сначала он испугался, поскольку первые его мысли были о злых духах (подобные размышления не зазорны для христианского рыцаря, ведь даже самый благочестивый из них может быть устрашен нечистой силой). Разобравшись, в чем дело, господин Готтфрид справедливо решил, что даже совсем маленькие создания тоже хотят жить. Он повернулся на другой бок и заснул. Ну а в том, что это самое настоящее сычиное гнездо, любой мог бы убедиться ночью, когда его обитатели покидали дом, вылетая из окна спальни.
Возможно, вам было бы интересно узнать, как еще дикие ночные птицы уживались с людьми? Дело в том, что в домах наших предков хватало места для всех, а люди были крайне непритязательны. Что еще нужно человеку, кроме кровати и крыши над головой? Едва издав первый крик, ребенок видит вокруг стены родного дома. Так заведено издавна: потаенное не должно происходить на глазах у всего мира. Но когда младенец вырастет, Господь откроет для него свой великий дом, где найдется место для тысяч и сотен тысяч живых существ, которые обитают в нем в настоящее время и будут обитать в будущем. Солнце станет свечой и очагом этого дома, а деревья будут навевать прохладу и спасать от ветра лучше, чем самые толстые стены. Когда сядет солнце, пойдет дождь или начнет мести метель, люди снова уйдут под защиту домов, где, сидя у очага, шутками и доброй беседой разгонят ненастье. Все прекрасно понимают, что человеку негоже быть долго одному, оставаясь со своими мыслями.
В замке Хоен-Зиатц хватало места всем. У лошадей имелись конюшни во дворе, у собак – будки у ворот, у свиней – собственные загоны, даже коров и быков при плохой погоде иногда загоняли под крыши. Как уж они там ладили с лошадьми, было их личной заботой. Аист гнездился на коньке крыши господских покоев, ласточки вили гнезда на деревянных галереях, опоясывающих двор, голуби – на замковой башне, совы – в старых стенах, швабы [39] прятались по щелям, червяки – в древесине, мыши – в подвале и коридорах, а люди жили каждый в своей комнате. А если у слуги не было комнаты, он спал на одной из лавок, стоящих в коридоре, или выгонял во дворе из-под навеса собак. Одним словом, каждый находил себе место. Для замерзшего всегда горел очаг, чтобы можно было согреться, для голодного имелись хлеб и каша. Кладовая никогда не пустовала. Обо всем этом заботилась добрая хозяйка, не выпускавшая из рук ключи. От нее также зависело, чтобы любой обиженный получил ласковый взгляд и ободрение. Госпожа фон Бредова привечала в своем доме всех, не выносила только лентяев и проныр.
Так вот, имей луна эмоции, она была бы озадачена. В конце концов, всегда есть что‑то такое, чему можно удивиться. Некоторые удивляются, когда в мире какое‑то время царит тишина и все идет своим чередом, а другие, наоборот, – когда приходит буря и все переворачивает с ног на голову, нарушая старый порядок, который почему‑то не может сохраняться вечно. Луна же, умей она говорить, лучше всех рассказала бы, чему действительно стоит удивляться в этом мире. Она бесконечное число лет смотрит на землю и видит все, что нами движет. Ей все равно. Она не смеется и не плачет, ее лик всегда холоден и равнодушен (правда, нельзя утверждать, что в глубине души она не считает нас глупцами). Луна могла бы удивиться ветру, превратившемуся в ураган, какого не припомнят и старожилы, – он хлестал лес так, что верхушки деревьев напоминали морские волны, и так сотрясал замок, что треснули стропила. Гнездо аиста оказалось сброшено с конька крыши, черепица сорвана ветром, а покосившийся щипец [40] сдвинут на расстояние в половину шу [41]. Удивительно, что он вообще уцелел. Но еще больше удивляло то, что хозяин замка, спавший в своей комнате, не проснулся.
Когда буря, словно пронесшееся мимо дикое войско, отступила, вокруг воцарилась тишина, ночной воздух буквально застыл. И нигде не было видно следов большой стирки.
Через два часа после того, как последняя повозка проехала по разводному мосту, все белье уже было разложено по местам, – ничего не пропало во время долгого пути. Слуги говорили друг другу, что их госпожа относится к тем людям, которые могут противостоять и плохой погоде, и злому ветру. Теперь над потрескивающим огнем грелись котлы, а на вертеле пузырились и истекали соком окорока. Хозяйка успела спуститься в подвал и постучать по бочкам, а слуги вынесли в переднюю самые полные и тяжелые из них. Госпожа Бригитта справедливо рассудила, что после работы люди нуждаются в отдыхе. А вот себя она не жалела: пока все сидели за большим столом, она все расхаживала вверх-вниз по лестнице, а ее связка ключей гремела так, что перекрывала звон кубков.
Пиршественный зал был невысоким, с самым простым, не сводчатым потолком – прокопченные дымом балки нависали над головой бурыми ребрами, теряясь в полумраке. Если где‑то еще сохранялась какая‑то отделка – резьба и узоры, – их использовали, чтобы что‑нибудь повесить: щит, доспехи, шлем, кое-где котел или даже окорок. Пол зала состоял из утрамбованной глины, а столы и скамейки были сделаны из такой крепкой древесины, что плотник не стал особо усердствовать, обрабатывая ее рубанком и долотом. От улицы зал отделяли только порог да дверь. Когда кто‑то входил, внутрь врывались дождь и ветер, так что дверь старались лишний раз не закрывать, поэтому дым из очага не застаивался в помещении, как это бывает в старых домах, а с треском вылетал в трубу, благодаря чему искры в деревянной трубе не задерживались. Правда, для труб использовались молодые дубовые стволы, оплетенные ивовыми прутьями и обмазанные глиной, так что загорались они не часто. Но если такое случалось, хозяйке приходилось посылать прислугу на крышу с ведром воды, дабы не приключилось пожара. В замке Хоен-Зиатц труба стояла уже более ста лет. Она простоит еще дольше, если в нужный момент рядом окажется кто‑нибудь с ведром воды в руках: огонь погаснет, а дерево послужит еще.
Древесина и воздух – вот богатства наших предков. И того и другого было в избытке в доме фон Бредовых в Хоен-Зиатце. Как уже говорилось, воздух в жилище поступал через дверь и дымоход, а также через лестницы с верхнего этажа. Дело в том, что по обе стороны от очага, который мы без всякого на то основания называем камином, вверх вели сразу две массивные извилистые лестницы, украшенные резными балясинами из красного дерева. Время так же мало пощадило их, как и деревянные панели с яркими изображениями, которыми были обшиты сверху донизу лестничные пролеты. Если бы не дым и их почтенный возраст, на них можно было бы увидеть аллегории семи смертных грехов и прочесть много благочестивых изречений. Повсюду ощущался груз лет, и то, что раньше подновлялось и чинилось, теперь пребывало в печальном запустении.
В прежние времена, когда хозяин пировал здесь с семьей и слугами, благородные господа и их гости размещались подле очага, а слуги располагались внизу, у дверей. Раньше очаг большого зала использовался для приготовления пищи, теперь же, уже на протяжении двух поколений, еду готовили в боковых помещениях. Лишь иногда хозяйка замка грела над очагом теплое утреннее пиво или имбирный суп [42] для супруга, особенно если на улице было промозгло, а ему надо было куда‑нибудь идти. Порой в замке устраивались пиры, но это были уже совсем не те пиры, что в старые добрые времена. Господин Готтфрид, как правило, держался довольно угрюмо, но стоило ему прийти в расслабленное расположение духа, как госпожа Бригитта тут же отсылала слуг. Хотя те и сами были не против умять свою тарелку каши на конюшне или во дворе. Хозяйка тоже была рада такому положению дел, поскольку так еда съедалась намного быстрее. Госпожа Бригитта не видела большой пользы в затянувшейся болтовне: умному человеку и в голову не придет заниматься такими пустяками. Однако господин Готтфрид фон Бредов считал, что она заблуждается, ведь вино должно веселить сердца, а значит, выпивать в компании – хорошая привычка, доставшаяся нам от предков. Но, поскольку старые добрые времена миновали, то и он вынужден был привыкать к новому укладу и даже, если требовалось, учиться пить в одиночестве.
Казалось, в этот раз вино совсем не веселило. Все сидели вокруг потемневшего от времени стола и казались не то чтобы сонными, но какими‑то вялыми. Огонь в очаге уже погас, и сосновые факелы, висевшие на стенах, обросли пеплом. Башенные часы пробили девять.
– Надо же было так испугаться, что теперь страшно идти спать, – проговорил кто‑то из присутствующих.
Декан, пребывавший в состоянии глубокой задумчивости, откашлялся и произнес:
– С избавлением, благородные господа! Поскольку, как мне показалось, с неба падал по меньшей мере ужасный метеоритный дождь, вероятно, никто толком не разобрался, что с нами произошло. В такие минуты ужаса и смятения слабый грешный человек видит вокруг себя то, чем полна его душа.
Далее их разговор стал крутиться вокруг пережитых событий: действительно ли юнкера Ханса Йохема околдовали, не видел ли кто ведьмы, летящей сквозь бурю, и не был ли всему виной торговец, который их сглазил?
Полутемный зал в одиноко стоящем замке с наступлением ночи меньше всего подходит для того, чтобы избавляться от страха перед привидениями. Впрочем, как ни странно, те, кто, очевидно, поддался этому страху, теперь меньше всего хотели с ним расставаться. Ханс Йохем уже не первый раз демонстрировал, как именно у него застряли пальцы, когда он пытался расстегнуть пряжки на штанах, иначе он, конечно, сразу сорвал бы эту дрянь со своего тела. А Петер Мельхиор клялся и божился, что декан едва не был изувечен нечистой силой. Декан же, в свою очередь, повторив мысль Петера Мельхиора, рассказывал о том, как он улучил момент и справился с опасностью.
Спор о чем‑либо – это извечное удовольствие людей, собравшихся вместе. Каждый думает, что он умнее другого. Бывает так, что кто‑то мнит себя умнее в одном, а кто‑то – в другом, и, когда они принимаются спорить, выходит очень занятно, хотя и не всегда хорошо заканчивается. Оба молодых кузена увлеченно слушали разговор декана и юнкера, при этом Ханс Йохем к месту и не к месту вставлял замечания, а Ханс Юрген просто молча слушал, сидя в углу.
Благодаря спорам всем стало известно, что юнкер Петер Мельхиор – мот, который растратил все свои деньги и, вероятно, еще растратит, если они у него когда‑нибудь появятся. А пока у него ничего нет, ему остается лишь пьянствовать с кузенами и друзьями. Победа далась декану достаточно легко, поскольку юнкер, хоть и был неутомим в спорах, но легко раздражался и проигрывал, если кто‑то указывал ему на его слабости.
Потом поспорили, кого больше любит черт: священников или юнкеров. Петер Мельхиор утверждал, что Сатана ни о чем другом и не мечтает, как только набить ад лицами духовного звания. Декан парировал тем, что, по его мнению, тогда оруженосцы на земле получат полную свободу действий и прибегут к черту сами. Петер Мельхиор поделился мнением, что ничто не доставит Господу большего удовольствия, чем ухватить за волосы и потрясти жирного священника. Декан резонно возразил, что некоторых юнкеров бесполезно трясти за волосы, поскольку из них не вытрясти ни единой добродетели.
Постепенно спор перешел на то, кто лучше умеет обманывать дьявола. Декан признал, что в вопросах обмана священнослужители даже более искусны, чем женщины. Другое дело, что обман дьявола грехом не считается. Более того, труд доброго христианина в том и состоит, чтобы лишить дьявола того, что ему принадлежит.
Петер Мельхиор рассказал об одном аббате, который играл с дьяволом, поставив на кон свою душу. Дьявол проиграл.
– Когда дьявол уходил, он смеялся. И знаете почему? В тот момент он не забрал с собой души аббата, но все же он ее в конечном счете получил. Дело в том, что аббат играл фальшивыми кубиками. Даже дьявола не следует обманывать.
– А как же история с Ниппелем Бредовым? – спросил декан после непродолжительного молчания. Было видно, что на каждый аргумент юнкера у него имеется контраргумент.
Глаза Ханса Йохема озорно блеснули, когда он поймал взгляд, брошенный на него деканом.
– Я знаю эту историю до мельчайших подробностей и могу рассказать вам, – сказал юноша. – Вы имеете в виду Ниппеля, который жил в роскоши и тратил все исключительно на себя. Говорят, что это случилось еще во времена язычества. Рассказывали о шести трубачах, которые должны были играть, пока он принимал пищу, о том, что остатки трапезы он бросал псам, вместо того чтобы раздавать беднякам, а еще о том, как он постепенно лишился богатства и вынужден был туманной ночью бежать от кредиторов.
История про Ниппеля Бредова могла быть отнесена и к Петеру Мельхиору. Более того, его даже насмешливо называли «бедным Ниппелем». Он прекрасно понял, зачем вспомнили эту историю, и злобно посмотрел на Ханса Йохема. Эти двое всегда не ладили друг с другом.
– А потом бедняга Ниппель попал в лапы дьявола, – проговорил декан. – Так и бывает в жизни, когда ты теряешь надежду.
– Когда больше никто не дает взаймы, – добавил Ханс Йохем, – тогда взаймы дает черт.
– Продолжайте, дорогой господин. Потом я тоже расскажу одну историю, – проговорил Петер Мельхиор с деланым безразличием.
– Ниппель снова зажил в свое удовольствие, – проговорил Ханс Йохем, – пока не настало время платить по счетам. При всем его могуществе ему нечего было дать черту, кроме собственной души. Он почувствовал, что мужество покидает его. Когда‑то круглое лицо осунулось, а темное время суток стало вызывать у него страх. Никому в доме не разрешалось говорить о привидениях. А если ветер шевелил мякину или тряпки, ему сразу виделись летящие по воздуху ведьмы. И, надо сказать, что работал на него пастух, который был мудрее своего хозяина. Он заметил, что с его хозяином что‑то не так, и Ниппель, которому запрещалось ходить к священнику на исповедь, исповедался пастуху. Тот немного подумал и наконец, щелкнув пальцами, сказал, что ему все предельно ясно. «Не должен ли дьявол делать то, о чем вы, милостивый государь, его просите, до последнего часа действия договора?» – спросил пастух. «Конечно, именно это договор и подразумевает», – отвечал ему Ниппель. «Ну, тогда все в порядке», – проговорил пастух, и они взялись за дело. Ночью вдвоем вырыли яму в горе у деревни Ландин, которая существует и сейчас. До сих пор та гора называется Тойфельсберг [43]. Яма была настолько глубокой, что, казалось, у нее нет дна. Над ней пастух и его господин установили котел, но так, чтобы, наполнившись, он сразу бы переворачивался и его содержимое падало в яму. На следующую ночь Ниппель призвал дьявола и сказал ему: «Наполни мой котел золотом!» – «Думаешь, оно тебе еще пригодится?» – спросил черт. «Ты даже не представляешь, сколько тебе потребуется его принести», – заверил его Ниппель. Черт не стал спорить. Он бросал в котел мешок за мешком, стремясь скорее завершить работу, но стоило ему отойти, как котел опрокидывался, и когда черт возвращался с новым мешком, он находил сосуд пустым. Только на земле лежало несколько золотых монет. Сначала он не замечал подвоха. Дело в том, что Ниппель не дал ему выспаться, а может, бедняга успел пропустить где‑то пару кружек. Когда же он наконец понял, в чем дело, ему стало по-настоящему тяжко. Он выл от бессилия, но таскал золото и кидал его, поскольку решил, что у каждой ямы должно быть дно. Однако вскоре не выдержал и воскликнул: «Ниппель, Ниппель, как же велик твой шепель!» [44]
Потом он попросил Ниппеля дать ему хоть немного отдохнуть. Но тот ответил, что никакого отдыха ему не будет. Наконец бедный черт понял, что носить золото ему придется до конца света. Он изнемог настолько, что вынул из-за пазухи пергамент и порвал его с криком: «Чтобы черт побрал этот договор!» Обрывки он швырнул к ногам Ниппеля, поджал хвост и, оборотившись летучей мышью, улетел прочь.
Декан посмотрел на юнкера:
– Бедному Ниппелю не помогла вся его хитрость! Он обыграл черта нечестно, а значит, его душа все равно отправилась в ад. Это то, что вы имели в виду?
– Я имел в виду, – проговорил Петер Мельхиор, – что у меня тоже есть занимательная история, которую я с удовольствием бы поведал уважаемому юнкеру. Знаете ли вы, откуда в Хафельланде столько представителей рода фон Бредовых? В незапамятные времена дела на земле обстояли не лучшим образом. До Господа Бога постоянно долетали жалобы на дворян: мол, они только воюют между собой и ничего другого знать не хотят. Если к ним приходит ближний их, у которого случилась беда, они лишь пожимают плечами и, скрестив на груди руки, уговаривают потерпеть. Тогда, разгневавшись, Господь наш сказал черту: «Я создал господ, чтобы они делились тем, что имеют. А если они так себя ведут, ты можешь забрать этих скряг себе». Ну что ж, черт берет большой мешок и начинает облетать разные страны, выясняя, как живут дворяне. И когда пришла ему пора возвращаться в ад, его мешок оказался переполнен дворянами. Из-за того что ноша его была весьма тяжелой, черт должен был лететь низко над землей. Путь его пролегал над маркой Бранденбург. Как раз над городом Фризак его рука, в которой он держал мешок, устала настолько, что он свесил свой груз пониже и задел шпиль церковной башни. Видимо, черт утомился так же сильно, как и тот, которого замучил Ниппель. Он не заметил, что мешок порвался и около четверти благородных господ вывалилось наружу. А если и заметил, то, скорее всего, подумал: «Какая разница? Ад ведь и так полон». Пока черт возился с грузом, первый из выпавших господ приземлился во Фризаке и получил имя от города, над которым мешок порвался. С тех пор пошел род фон Бредовых из Фризака. Второму благородному господину, который упал следом за ним, первый Бредов велел проваливать куда подальше, поскольку Фризак он желал оставить за собой. «Иди лучше туда! Бесс хин!» – кричал он, пока тот не отошел достаточно далеко и не остановился. Так род фон Бредовых до сих пор по созвучию называют Бредовыми из Пессин. Третьего, который тоже хотел бы остаться, выдворили во внутреннюю часть марки. «Ступай дальше вглубь! Ланд ин!» – кричали ему первые Бредовы, отчего его марка стала называться Ландин. Четвертый пошел таким же длинным путем («зельбе ланг»), и место, где он поселился, до сих пор называется Зельбеланг. Пятый свернул направо («рещц цу»), и каждый ребенок знает, что от него произошли те фон Бредовы, которые населили Рецов. Итак, представители рода фон Бредовых – это дьявольский дар Хафельланду. Шестой, когда выпал из мешка, ударился лбом о доску и завопил от боли: «О! Доска! Дас Бретт!» Так его и стали звать – Бредов. Юнкер Ханс Йохем, если я правильно понимаю, это был ваш прадед. Осторожнее со своими шутками, чтобы не налететь на доску – она может больно ударить. Доске это не повредит, а вот вам может. Когда вы услышите смех, имейте в виду: смеются не над тем, что вы рассказали, а из-за доски и вашей фамилии! – Петер Мельхиор, чувствуя себя победителем, поднялся с места, надел шляпу и покровительственно положил руку на плечо юнкера. – Пожалуй, мне пора. Доброй ночи!
Но, когда он уже приготовился выйти, со скамьи поднялся Ханс Юрген и преградил ему путь.
– Меня тоже зовут Бредов, господин фон Краушвиц, я – Ханс Юрген Бредов из Зельбеланга, что в Хафельланде.
– Возможно! Ты ведь, кажется, сын своего отца.
Ханс Юрген покраснел:
– Пусть заткнется тот, кто оскорбляет мою семью…
– Сам закрой рот! Имей в виду: даже если будешь держать его открытым, в него не влетят жареные голуби!
Ханс Юрген сжал кулаки:
– Я не намерен слишком долго с тобой разговаривать. Ты понимаешь, кто стоит перед тобой?
– Ты – Ханс Юрген.
Сказав это, Петер Мельхиор прошел мимо юнкера, громко звеня шпорами и словно намекая на то, что у Ханса Юргена их еще нет. Все рассмеялись, включая Ханса Йохема, бывшего до этого в весьма мрачном настроении.
– Ханс Юрген, тебя еще не посвятили в рыцари, – проговорила благородная госпожа фон Бредова, выходя из зала.
Ответа она не стала дожидаться, потому что во дворе затрубил рог и стало очень шумно. Остальные последовали за ней.
– Ну и что, – пробормотал Ханс Юрген. – Он поносил моего отца, да смилуется над ним Господь!
Глава шестая
Поздний гость
Собаки заливались лаем, и сторож продолжал трубить в рог – перед подъемным мостом остановился одинокий всадник. Как только он произнес свое имя, ворота поспешили поднять, а мост – опустить. Все бросились встречать неожиданного, редкого и, похоже, высокородного гостя. Горящие факелы осветили благородную высокую фигуру рыцаря на прекрасном коне. Слегка наклонившись, он въехал в ворота. Весь его вид свидетельствовал о том, что он не привык встречать ночь в лесу. Скорее, ночлегом для рыцаря обычно служили роскошные замки, а для коня – лучшие из возможных конюшен. Очевидно, что они оба стали жертвами непогоды и заблудились, а буря и ночь загнали их в этот уединенный замок.
Когда хозяйка увидела, кто к ней пожаловал, она стала не похожа на себя. Не скрывая изумления, госпожа фон Бредова низко поклонилась гостю и заговорила самым любезным тоном:
– Чудо Господне привело вас к нам, господин фон Линденберг! Как так вышло, что мы удостоились столь высокой чести?
– Видимо, все святые молились Господу о том, чтобы наша встреча состоялась, дорогая кузина. В противном случае я не знаю, чем это объяснить.
– Вы прибыли в одиночестве?
– В полном одиночестве. Если остальных не забрал черт, то заберут буря и непогода.
– И…
Гость угадал имя, которое замерло на губах благородной госпожи.
– Я надеюсь, что Господь и святой Иоанн доставят его курфюршество в Берлин лучшим образом, нежели моя лошадь, которая носила меня по всем пустошам и болотам Заухе. Я нахожусь в некотором замешательстве. Мы охотились с курфюрстом в лесу под Бельзигер Форст. Я не могу вернуться обратно в эти места, поскольку охота завершилась. Искать курфюрста в лесу тоже не могу, так как замок Хоен-Зиатц, который я неожиданно и не без удовольствия для себя вижу, находится совсем в другой стороне от того места, где мы расстались с моим господином. По моим предположениям, он уже должен проскакать через Тельтов в направлении Берлина. Мой путь теперь возможен только через Потсдам. Но ни мне, ни моей лошади, увы, не хватит сил, чтобы немедленно тронуться в дорогу. Видя, дорогая кузина, ваше ко мне расположение, я должен попросить у вас разрешения воспользоваться на несколько часов вашим гостеприимством.
– Конрад, Рупрехт! Помогите нашему гостю, он очень устал! Ах, а конь весь в мыле!
Конрад и Рупрехт неловко подскочили к знатному гостю. Госпожа Бригитта подтолкнула Ханса Юргена, чтобы тот подержал стремя, пока рыцарь слезает на сажальный камень. Без помощи было не обойтись, поскольку конь упрямился, а всадник с трудом мог шевелиться после долгой скачки. Лишь опираясь на плечо юноши, он сошел на землю с подобающим рыцарю достоинством.
Свет факела упал на нерадостное лицо Ханса Юргена – его заставили выполнить работу, которая не под стать ему, рыцарскому сыну, чей отец снискал себе при дворе высокое положение. Знатный гость окинул его быстрым, но очень острым взглядом:
– Какого любезного помощника вы предоставили в мое распоряжение, дорогая кузина! Юнкер фон Зельбеланг, если мне не изменяет зрение. Как дела у господина фон Бредова?
Кто‑то прошептал:
– Это всего лишь Ханс Юрген.
Однако благородный рыцарь, казалось, не услышал этого шепота. Он поклонился Хансу Юргену и дружески его приобнял. Сделано это было до того, как он сказал кузине приличествующие случаю слова о былых прекрасных временах, которые, увы, уже не вернутся. Когда хозяйка ласково посетовала, что он совсем забыл дорогу в Хоен-Зиатц, гость ответил, что если кого‑то и можно считать в этой ситуации пострадавшим, то только его самого.
– Ах, старые добрые времена, когда я был еще свободным человеком! – Он тяжело вздохнул.
Спустя мгновение рыцарю попался на глаза Петер Мельхиор.
– Какая радость – видеть старого друга!
Они обменялись приветствиями.
– Какая приятная неожиданность – встретить здесь же и достойного декана Бранденбурга! Как будто ведьмы забросили меня в заколдованный замок, где нет никого, кроме старых, дорогих моему сердцу друзей.
– Не вспоминайте о ведьмах, господин фон Линденберг, – проговорил Петер Мельхиор. – С ними шутки плохи.
– Вы правы, – засмеялся гость. – Было бы обидно проснуться и увидеть, что все вокруг исчезло, а я один посреди болота. Но где наш добрый хозяин? Эй, где спрятался господин Готтфрид?
Хозяйка замка потупилась:
– О, господин фон Линденберг, если уж он приехал из Берлина…
Рыцарь не дал ей договорить:
– Правильно, я помню: он участвовал в ландтаге.
– Он все еще немного утомлен этой поездкой.
– Господин Готтфрид – дворянин, дорогая кузина, и я могу вас заверить, что он, конечно, был приглашен к ландмаршалу. Он храбрый рыцарь и олицетворяет все добродетели старых времен. Лучше его нет никого. Перед тем как вашего супруга положили в карету, весь Берлин провожал его. Сам курфюрст был очень доволен тем, как он держал себя во время ландтага. Его светлость заметил, что господин Готтфрид не относится к тем смутьянам, которые пытаются выглядеть умнее, чем его светлость.
После долгой ночной скачки через лес даже самый любезный придворный имеет полное право проголодаться и испытать чувство жажды, поэтому господин фон Линденберг с большой радостью отнесся к тому, что любезная хозяйка протянула ему руку, приглашая зайти под скромную кровлю и там, сев за стол, насладиться содержимым погреба. Однако на пороге он обернулся:
– Мой конь!
– О нем позаботятся.
– Боюсь, не совсем так, как следует!
Слегка поклонившись благородной госпоже, он быстро вышел во двор, где Ханс Юрген, уже без былого раздражения, повинуясь указаниям родственницы, собирался вести вороного коня господина фон Линденберга в стойло.
– Вы ошибаетесь, юнкер Бредов, это мой конь!
– Я должен поставить его в стойло.
– Это работа слуги, а не дворянина. Дворянин может заботиться только о своей лошади.
С этими словами рыцарь взял поводья из рук Ханса Юргена и перебросил их ближайшему слуге, окинув того властным взглядом. Затем он ласково шлепнул вороного коня по шее и доверительно приобнял Ханса Юргена:
– Что ж, юнкер фон Зельбеланг, давайте вместе выпьем по кружечке, вспоминая вашего отца. Это был прекрасный человек, мой друг, настоящий дворянин, знавший толк в жизни. Жаль, что кончина его была безвременной.
Зал быстро осветился факелами и огнями. Хозяйке одновременно приходилось заботиться о сотне дел: надо было звонить в колокольчик, вызывая слуг, ругать их, шепотом раздавать приказания, чтобы замок ничем не разочаровал запоздалого гостя. Слишком уж много было беспокойства. Слишком много работы принесли с собой буря и большая стирка. Но гость того заслуживал.
Господин фон Линденберг был высоким и красивым мужчиной лет сорока. В лице его сочетались изысканность придворного и мужественность рыцаря. Походка была уверенной, а движения твердыми, но в то же время деликатными и плавными. Его костюм несколько опережал моду того времени, по крайней мере, ту, что господствовала в Бранденбурге. Уже обсуждавшийся ранее предмет одежды, вызвавший столько разговоров, безусловно, тоже подошел бы ему, но благородный рыцарь прибыл не с пира, а с охоты, посему был одет достаточно скромно. На высоких коричневых сапогах, доходивших ему до коленей, позвякивали серебряные шпоры. Стройность ног подчеркивали узкие штаны с небольшими буфами, по бургундской моде. Такой же моде соответствовал и его вышитый камзол, подпоясанный расшитым ремнем, на котором висел прекрасной работы короткий охотничий меч. Шею рыцаря обнимал роскошный воротник, выдавая в фон Линденберге придворного, бывавшего за границей и умевшего оставаться блистательным даже после ночной скачки по лесу. У него был красивой формы лоб, короткая, но завитая самым тщательным образом борода, гладко зачесанные рыжеватые волосы. И это в то время, когда в Бранденбурге символом мужской силы и благородной отваги считались косматая борода и растрепанная грива.
Если эти внешние признаки заметно выделяли его среди всех здесь присутствующих, то обаяние и прекрасные манеры делали просто неотразимым. Как любезно он пожал руку Хансу Йохему, извиняясь за то, что не узнал его раньше, как задушевно и мило беседовал с хозяйкой замка! Казалось, он спустя годы встретил ту даму, к которой был когда‑то неравнодушен, – и вот уже всплывают нежные воспоминания, такие добрые и прекрасные, что оба забывают и про годы, и про морщины. Все, что она рассказывала, о чем упоминала, он быстро запоминал, вплоть до самых незначительных мелочей. Слушая с неослабевающим вниманием, господин фон Линденберг умело вел беседу, настраивая ее на дружеский лад. А как он похлопывал ее по руке и утешал там, где это было необходимо, не как любовник, но как старый друг, который останется таким, несмотря на время и невзгоды!
Его манера держаться вновь переменилась, когда в зал вошли дочери Бригитты, поприветствовав с застенчивой грацией высокого гостя и всех родственников. Ева залилась румянцем, поняв, что протянула руку, словно какая‑то крестьянка. Но он не пожал ее, а нежно приложил пальцы к губам.
– Приветствую вас, божественная Ева фон Бредова! – Некоторое время он просто смотрел на нее с изумлением. – О, какая красивая и юная у меня родственница!
– Конечно, мой господин, это Ева, которую вы когда‑то качали на коленях, – промолвила госпожа Бригитта. – Вы тогда еще сказали, что она очень похожа на свою мать.
Гость, казалось, с трудом оправился от удивления:
– В самом деле, мне кажется, что я оказался в заколдованном замке. Боюсь, если я не подержу ее тонкую руку, она исчезнет как видение.
– Не смущайте ее. Глупышка уже покраснела и не смеет поднять глаза.
Ева, действительно, опустила взгляд. Она стыдилась того, что ее руки были красными от стирки. Тогда рыцарь стал рассказывать о розе, которую он нашел на пустоши и которая достойна того, чтобы украсить княжеский сад. Ева очень испугалась и даже убежала бы, если бы не ее мать, которая решила представить и вторую дочь.
– Какое обилие цветов в лесу! Розы и лилии! Что они делают под соснами?
– Мы решили отправить Агнес к нашим дорогим сестрам в Шпандов [45].
– Благочестивой душе свойственно стремиться в рай. Но не слишком ли рано, дорогая кузина? С благочестивой жизнью можно не спешить, время еще есть.
– Как Господь даст! Сейчас плохие времена, господин фон Линденберг. Мы можем собрать приданое только одной из дочерей. Поскольку Агнес тихая и кроткая, мой Готтфрид считает, что она не сможет существовать в этом злом мире, с его грубыми людьми. Кстати, и господин декан полагает так же. А наш Господь любит кротких. В отличие от женихов, он не смотрит, румяные ли у девушки щеки или бледные.
– Но он смотрит на ямочки на щеках – не прячется ли там лукавство, – заметил шутливо господин фон Линденберг. – Лукавство, злое лукавство, присуще всем дочерям Евы. Никто от него не застрахован, даже если девицы выглядят настолько тихими и скромными, как ваша дочь.
– Да, насчет Евы вы правы, дорогой господин фон Линденберг, – рассмеялась госпожа Бригитта. – Но Агнес не такая. Глупышка, что ты засмущалась!
– Не смущайся, милая, – рассмеялся гость. – Когда‑нибудь придет такой плут, перед которым не сможет устоять ни одно человеческое дитя.
Но пришел не плут, а слуги и служанки, чтобы произвести смену блюд и выставить на стол все, что нашлось на кухне и в погребе, после чего господин фон Линденберг вновь совершенно переменился и почти перестал обращать внимание на что‑либо, кроме стола. Как говорится, голод – лучший повар, но еще страшнее голод в сочетании с жаждой. Голод и жажда – настоящие силачи, способные выбить из седла даже самого храброго рыцаря. Господин фон Линденберг ел с таким аппетитом, что хозяйке было необыкновенно приятно на него смотреть. Всякий раз, когда она его потчевала, благодарный гость одаривал ее приветливым взглядом.
– Какое счастье, что господин, привыкший к более изысканным напиткам, не отвергает наше скромное вино.
– Как можно быть чем‑то недовольным, находясь в таком обществе! – отвечал гость, поглядывая то на благородную госпожу, то на Петера Мельхиора. Его уже немного покачивало, а лицо сделалось необыкновенно умиротворенным. – Вы можете подумать, что я преувеличиваю. Но представьте себе человека, который всю неделю пробыл в заточении, а в воскресенье вышел на свободу! Придворная жизнь – это… – Тут он осекся. – Мы забыли выпить за здоровье нашего светлейшего курфюрста и господина, как принято у доброго бранденбургского дворянства, которое делает это, прошу заметить, за каждой трапезой.
Звякнули кубки, и рыцарь счел необходимым как следует восславить молодого курфюрста. Не нашлось ни одной добродетели, которую он, так или иначе, не приписал бы ему. Хвалебная речь была настолько долгой, что объемный кубок успел опустеть и снова наполниться. Потом пришла очередь пожелать благополучия дорогой родственнице, добродетельной и высоконравственной хозяйке замка. И наконец, настало время для восхваления милых барышень.
– А этот лежебока, Готтфрид, мой старинный друг, все не идет к нам. Я сам принесу ему выпивку, чтобы он осознал, как я его уважаю!
Веселость благородного гостя передалась и остальным участникам пирушки. Было высказано мудрое предложение: если хозяин не спускается вниз, следует подняться к нему.
– Мы желаем его разбудить! – вскричал Петер Мельхиор, в котором уже плескалось немало доброго вина.
– Эту честь мы предоставим его дорогой супруге, – возразил фон Линденберг, заметив некоторое смущение благородной госпожи. – Женщины всегда лучше знают, когда мужчинам пора просыпаться.
Госпожа Бригитта ушла, и дочери воспользовались возможностью ускользнуть вместе с ней.
– Пора закругляться! – воскликнул гость, опрокидывая один кубок за другим. – Боже на небесах и святой Петр у адских врат! Как же мне хорошо с вами!
Улыбнувшись, декан поднял палец вверх:
– Святой Петр, добрый господин, стоит у райских врат.
– Мне все равно, кто и где стоит на страже. Я сам нахожусь вне рая или ада. Святой Христофор, конечно, был горд, когда нес на себе весь мир, но, несомненно, обрадовался, когда Спаситель спустился с его плеч [46]. Примерно это я сегодня и ощущаю.
– Некоторые, господин рыцарь, с радостью взвалили бы на свои плечи ваше тяжелое бремя.
– Друзья, я вам скажу… Впрочем, об этом позже… Я действительно даже и не мечтал, что мне сегодня будет настолько хорошо. – Лицо гостя помрачнело. Он провел по нему рукой, как будто отгоняя черные мысли. Но они, похоже, уже превратились в слова, которые повисли на кончике языка. Есть такие думы, которые нужно обязательно проговорить, чтобы от них избавиться. – Сегодня утром я испугался до смерти. Всю ночь нечто извивалось перед моей постелью. Я отталкивал это в сторону, но оно возвращалось. Проснулся я утром, когда успели протрубить в рога, и наконец ухватил эту штуку. Оказалось, это был оторвавшийся шнур от полога.
Благодарные слушатели рассмеялись.
– Не смейтесь раньше времени! Чертовщина еще впереди. Курфюрст Иоахим никогда не был так милостив ко мне, как сегодня. Мне нравится, когда мы общаемся, потому что, как щуке нельзя дать сорваться с удочки, так и правителям нельзя позволять думать самим. Ответственные люди, насколько это возможно, должны вкладывать им в головы мысли, которые они потом будут обдумывать, и я могу похвастать, что умею так ловко подкинуть идею, что ему кажется, будто она только что пришла в его голову. А сегодня не получилось… Он говорил учтиво, как подобает человеку его положения, но один черт знает, что за сила парализовала мой язык. Я замолчал, едва начав, мои глаза словно опутала пелена тумана, и порой мне казалось, что я скачу на лошади, а за мной следует палач. В этом весь наш курфюрст! Иногда у него бывает такое суровое лицо, что люди пугаются его…
– Собственно, сам господин Линденберг и объяснил, почему ему показалось мрачным выражение лица курфюрста. Плохой сон и хмурое утро породили призраков в его воображении, – проговорил декан.
– Глупости! Соглашусь лишь с одним: наша буйная кровь часто туманит разум. В общем, когда я отстал от охотников, подумал, что мой конь скачет в правильном направлении, но вдруг он остановился на опушке и насторожил уши. В голове у меня снова загудело и помутилось, как тогда, ночью. Мне не хотелось двигаться дальше, но шпоры зазвенели, словно напоминая мне о моем долге. Я пришпорил вороного, и он понес меня, не разбирая дороги. И вдруг конь встал как вкопанный посреди выжженной вересковой пустоши, в центре которой торчала виселица с повешенным.
Все затихли.
– Вы снова скажете, что я видел призраков? Я тоже так решил, поэтому отпустил поводья, и конь понес меня. Но призрак не отставал. Он плыл передо мной, когда я зажмуривал глаза, и вставал в полный рост, стоило только открыть их. Я проскакал уже с четверть майле , а он продолжал смотреть на меня с каждой сосны: позвякивали шпоры на его сапогах, на шляпе развевался плюмаж. Я видел в подробностях: его бледные сжатые пальцы, синие губы, красное опухшее лицо…
Юнкер Петер Мельхиор перекрестился. Все молчали.
– Остановив коня, я ущипнул себя и потер лоб. Затем прочитал «Аве Мария» и «Розарий». Потом повернул назад. Я мог бы с легкостью показать вам завтра мой путь, поскольку двигался строго по следам подков и отмечал про себя каждую ель, каждую березку, даже кусты бузины. Потом снова показался Вальдек, выжженная пустошь с ее запахом гари, галками и воронами в небе, и там – виселица с человеком в петле, я слышал, как позвякивают шпоры на его сапогах, видел плюмаж на шляпе… Но… это был я… Это было мое лицо…
Побледневшие слушатели не сводили глаз с рассказчика.
– Не знаю, как я это пережил. – Рыцарь помолчал, а затем продолжил рассказ: – Все поплыло у меня перед глазами. Я больше не мог совладать с конем, и он мчался сквозь огонь и воду. Трещали сухие ветки, мимо проносились облака, где‑то гремели цепи, звенели шпоры, орали филины. Вместе с тем я слышал звуки охотничьего рога, крики загонщиков и еще много всего другого. Не могу сказать, действительно ли я проскакал мимо отряда охотников и видел ли я снова виселицу. В себя я пришел, лишь когда уже стемнело. Мой задыхающийся конь, тяжело поводя боками, пытался отыскать тропу в голубоватой болотной дымке. Не знаю, сколько времени я еще блуждал. Я понял, что окончательно замерз, а при мысли о том, чтобы возвратиться назад и найти дорогу, мне делалось жутко. Именно в этот момент я увидел свет. Если бы этот огонек оказался чертовой кухней, я бы ничуть не удивился. Однако это оказался дом моего друга – Гётца из Хоен-Зиатца. И вот я здесь. Что вы скажете обо всем этом?
– Может быть, вы забыли помолиться на ночь? – подал голос декан.
– Пф-ф! Если бы это было связано с непрочитанной молитвой, мне бы постоянно являлись висельники.
Тем временем Петер Мельхиор, спрятав под столом сложенные руки, уже успел прочитать про себя множество молитв.
– Что‑то страшное сегодня буквально разлито в воздухе, – проговорил он тихо. – Я это ощущал с самого утра. Эти измученные женщины, стирающие белье, купец и его заколдованные вещи, эта странная буря – тут явно что‑то нечисто. Никто не знает, чем это все закончится. Где это видано: заниматься делами между Святым Галлом [47] и Днем всех святых! [48] Ничего хорошего и не могло получиться! Но у фрау Бригитты нет ни страха перед Богом, ни крепости в вере. Зачем ей понадобилось начинать большую стирку прямо сейчас? Она разбудила злые силы!
Гордое и благородное лицо рыцаря выразило презрение. Он откинулся на спинку стула:
– Оказывается, во всем виновата стирка! Извините, как оказалось, я просто наткнулся на вашу прачечную и испугался ее!
Петеру Мельхиору пришлось рассказать обо всем, что происходило во время стирки. Рыцарь слушал его необычайно внимательно.
Вдруг юнкер щелкнул пальцами, что‑то припомнив:
– Я понял, как объясняется этот ваш случай с висельником! Об этом мертвеце нам рассказывал Клаус Хеддерих. Там висит не рыцарь, а портной Видебанд. Точно! Он так до сих пор и висит на виселице, не очень далеко от города Белиц, среди пустошей.
Господин фон Линденберг перегнулся через стол, вглядываясь в радостное лицо юнкера. Казалось, с груди его спадала свинцовая тяжесть. Впрочем, сомнения никуда не делись.
– Возможно ли такое, чтобы на портном были шпоры?
– О, это очень забавная история. Разве вы не слышали об этом? Господа фон Белиц целый год ссорились с этим портным. Всего лишь портной, маленький человек, но вот ведь засела же у него одна мысль в голове. Он ее любил высказывать вслух при всяком удобном случае: «Именно одежда красит человека, а поскольку портной ее шьет, он должен выглядеть не хуже господ, для которых старается». Он сам шил себе шляпы, плащи и штаны и стал выглядеть как член городского совета или юнкер. Сколько бы раз совет ни наказывал его за это, он лишь важничал все больше, понимая, что в нем нуждаются, поскольку никто не умел настолько ловко обращаться с ножницами и иглой. В противном случае его бы давно пустили по миру, но теперь он рассказывал каждому, что его няня, когда он был еще в колыбели, говорила, будто он умрет рыцарем. Так и кроил бы он одежду для членов городского совета и прочих благородных господ, но через полгода плащи, сшитые им для господ фон Белиц, как‑то слишком быстро истерлись и порвались. Эти господа подняли страшный крик, ну а портной, в свою очередь, тоже их обвинил во всех грехах. Они утверждали, что Видебанд сжег их вещи слишком горячим утюгом, а он говорил, что их ткань была сожжена еще раньше и никуда не годилась. Целый день ругались они друг с другом, пока их головы не опухли от криков. Свидетели, имевшиеся у обеих сторон, решили перейти к драке, к ним присоединились обыватели из Тройенбрицена, из Йютербока и даже из Виттенберга. Случился большой шум. Но в конце концов все сошлись на том, что суд не поможет и Видебанд точно не сумеет выиграть дело у почтенных горожан. В то время многим казалось смешным, что портной осмелился подать жалобу и рассказать о своей обиде – ученые мужи Лейпцига и Виттенберга потом спорили, как такое могло произойти. Но, как ни странно, это сработало. У маленького портняжки оказались сторонники там, где никто и не ждал, поскольку он со своими подмастерьями много кого одевал. В Йютербоке у него имелся солидный дом, и образ жизни, который он там вел, был достоен настоящего рыцаря. И (вот позор!) саксонские господа, желая из чистой зависти навредить господам фон Белиц, стали обращаться с портным как с равным. Ему разрешили делать визиты в их замки, носить шпоры и шляпы с перьями, одалживали ему коней и снаряжение, лишь бы только позлить господ фон Белиц. Если бы портняжка довольствовался малым, лишь подстерегая и колотя слуг господ фон Белиц, все могло бы так продолжаться много лет. Но его обуяла гордыня, и однажды утром он появился перед господскими воротами с разодетой свитой. Этот рыцарь-портняжка принялся кричать, что господа обвинили его в том, что он сжег ткань, и тем самым оскорбили его. Теперь он хочет, чтобы и они почувствовали запах гари, чтобы об этом помнили их дети и дети детей. Сказано – сделано! Прежде чем господа успели повыскакивать в ночных рубашках и колпаках, десять моргенов [49] земли выгорело дотла. Если бы не пошел дождь, все было бы еще хуже. Вот тогда семья фон Белиц по-настоящему пришла в ярость и стала преследовать портного где только можно. Они подкупили хозяйку харчевни, в которой портной остановился, и ночью она впустила в дом слуг господина фон Белица, а те утром, когда Видебанд еще только просыпался, замотали его в простыню и бросили в телегу с сеном. Не успели его друзья опомниться, как слуги уже похитили портного. И можете себе представить, с каким удовольствием они провезли его через замковые ворота замотанным в узел. Для него в простыне проделали дыру, чтобы он мог высунуть голову наружу – так он еще имел наглость показывать всем язык. Никогда в жизни в Белице так не веселились. Его хотели поскорее судить, но тут начался новый спектакль. У портного хватило наглости возражать против того, чтобы его повесили как вора. Поскольку он состоял с господами в открытой тяжбе, то кое-кто из саксонской знати пришел к нему на помощь. Они предъявили документ, в котором говорилось, что он владеет замком, является благородным человеком и имеет полное право враждовать с другими благородными господами. Мало того, жители Белица, сочувствуя ему, подтвердили, что он не рос в их городе. Это породило новую неразбериху. В конце концов было решено, что судить его будут как городского ремесленника, но повесят как рыцаря. Вот тут он вынужден был согласиться. Сложно поверить, но портняжка все же добился своего: его последним желанием было, чтобы его повесили со шпорами и в шляпе с плюмажем. Да, еще он потребовал, чтобы, когда за ним придут, он отправился к месту казни со шпагой на боку. Это было уже слишком! Даже его сторонники – саксонские господа – посчитали эту просьбу излишней. Собственно, теперь он так и болтается посреди пустошей, которые сам же и сжег. Он бы никогда и не подумал, что после смерти ему будет оказана такая честь: что наш господин фон Линденберг узнает в портном Видебанде себя самого.
Все от души посмеялись над таким забавным рассказом, и знатный гость тоже заметно повеселел.
– Все, что говорят о двойниках, – проговорил он, делая еще один большой глоток из кубка, – просто глупость. Тот, кто смотрит в полный кубок, тоже видит своего двойника, но пьет не смерть, а доброе веселье. Сегодняшний вечер вернул мне прекрасное самочувствие, в то время как утро было наполнено страхом. Так и надо толковать эти события: все к счастью! К счастью! И как насчет того, господа, чтобы заставить звенеть эти полнозвучные кубки еще раз? Хотелось бы, чтобы наш пир длился вдвое дольше!
Петер Мельхиор покосился на декана. Тот пожал плечами и назидательно поднял палец:
– Ну что, господин фон Линденберг, вам сегодня уже так повезло. Будете ли вы испытывать удачу еще раз?
– Со всем моим удовольствием!
– Церковь запрещает давать толкования всяким призрачным видениям. Но если бы мне позволено было рассуждать как мирянину, я мог бы только поприветствовать ваше решение. Ведь плохие сны снятся к браку или к крещению, а конкретно лобное место и трупы мерещатся к большому выигрышу. Вы готовы опустошить наши карманы?
Господин фон Линденберг швырнул на стол полный кошель:
– Мы не сойдем с места, пока он не опустеет.
Петер Мельхиор осторожно тронул кошель, и тот глухо звякнул.
Столы быстро освободили от еды, скамьи подвинули поближе. С тихим вздохом потупив глаза, декан взял в руки стакан с игральными костями и потряс им:
– Ну разве что так. Чтобы не портить вам забаву!
– Остерегайтесь его! – прошептал рыцарю Петер Мельхиор.
Глава седьмая
Плохой совет
– Еще часочек, милостивая госпожа, и тогда он сам проснется, – проговорил слуга Каспар, дежуривший у покоев своего господина.
Он очень суетился, стараясь не допустить того, чтобы госпожа заглянула в комнату. Наконец Каспар сел на скамью, которую подвинул к входу и, прислонившись спиной к двери, принял привычную для себя позу. В последнее время он исхитрялся даже спать, сидя на этой скамье, – верный слуга должен служить господину постоянно. Однако сейчас госпожа застала его за трапезой, нарезающим себе к ужину большую репу, сыр и овсяный хлеб.
– Каспар, я слышу его храп.
– Тут уж ничего не поделаешь. Раньше он похрюкивал, потом три раза простонал, а затем стал ругаться. Это уж у него всегда такой порядок. Но он, определенно, уже перевернулся на другой бок. Обычно после этого он засыпает еще крепче. Потом он снова начнет громко ругаться, затем продолжит храпеть и только после этого проснется.
– Но это же не всегда…
– Всегда, милостивая госпожа! Ваш супруг точен, как старые башенные часы. Сначала он ворочается, рычит и отругивается, потом просыпается и лишь через какое‑то время может начать драться.
– У тебя прекрасный господин, Каспар!
– Не променяю его ни на какого другого.
– Каспар, с ним хочет повидаться друг самого курфюрста!
– Не пущу, даже если сюда лично явится целая толпа курфюрстов!
– Каспар, ты хороший и верный слуга, но ты не понимаешь, что это для меня значит. Я должна быть с ним, когда он проснется.
– Могу себе представить почему. Но, заметьте, я не имею никакого отношения к вашему плану со стиркой штанов. Я в стороне.
– Каспар, я твоя госпожа, то есть, я хотела сказать, жена твоего господина. Ты не должен…
– В первую очередь я не должен болтать, не мое это дело. Ведь если он заметит, всем придется поволноваться.
– Ты думаешь, что он станет просто ругаться или…
– Ну, милостивая госпожа, это будет зависеть от многих обстоятельств. Если последней он пил сладкую наливку, то все будет хорошо, а вот деревенское вино похуже будет, особенно штеттинское крепкое. Оно очень пряное, так и ударяет в голову! После него обязательно надо проспаться, поваляться да потянуться. Рядом не должно быть никого, кто в этом не разбирается. Я всегда с первого удара чувствую, просто ли он в дурном расположении духа или вот-вот разразится настоящая буря. Так что это только мое дело – будить его, милостивая госпожа. А женщины ничего в этом не понимают.
Внизу что‑то загромыхало, и этот звук привлек внимание госпожи Бригитты. Каспар невозмутимо вернулся к своему сыру и репе, а она перегнулась через перила, чтобы посмотреть, что происходит.
В поле ее зрения попал несколько раскрасневшийся и куда‑то спешащий декан. Было заметно, что встреча с благородной госпожой не доставила ему удовольствия. Он торопливо спрятал что‑то в складках одежды.
– Вы снова играли?
Служитель Божий пожал плечами.
– И выиграли?
– Так получилось!
– Ваш партнер по игре сейчас все крушит внизу?
– Достойно язычников так себя вести. Я сел за игру исключительно из вежливости.
– Это вам не развлечение! Это недостойный способ обогащения! Вы же священник! Что скажут слуги! На природе, в нашем лагере, да и то, только чтобы скоротать время, это было допустимо. Я закрывала на все глаза. Но вы же знаете, что в замке раз и навсегда…
– Знатные гости моей добрейшей госпожи не должны жаловаться на скуку, царящую в вашем замке. Вы, госпожа, нас покинули, добрый господин к нам не пришел, и вы теперь удивляетесь, что гость вынужден был сам искать себе развлечение. Цените, что все так получилось. Правда, мне в голову не приходило, что он, как и все мы, подвержен страстям. Лично я ожидаю от вас благодарности, а не сердитого взгляда, тем более…
– Я настаиваю на том, что мой духовник не должен раздевать моих гостей.
– Раздевать! Какое злое выражение, недостойное этих добрых уст! Разве я разбойник, навязывающий что‑то против воли? Я также считаю…
– Оставьте свои назидания при себе! Оставьте Богу Богово, а черту отдайте то, что ему принадлежит. То‑то вы с ним поладите. А на вашем гладком языке хорошо было бы завязать узел, может, это дало бы вам способность говорить правду. Надеюсь, что с господином фон Линденбергом все в порядке. Впрочем, и он в этой ситуации небезгрешен.
Декану удалось наконец незаметно шевельнуть рукой, и кошель, принадлежавший ранее фон Линденбергу, скользнул в его карман. Совершив это действие, он молитвенно воздел руки:
– Госпожа фон Бредова, вы точно выразили мои мысли. Конечно, не Господь, но, скорее, капризная фортуна может отнять то, что не ценишь, и отдать это другим. Когда меня против моей воли втянули в игру, я подумал про себя, что наш алтарный покров давно нуждается в обновлении. Если можно так сказать, ко мне в руки само шло грешное золото, за которое в Магдебурге можно будет купить все необходимое. Вот о чем я подумал. Я не говорю, что это было наитием, тем более что я не верил в гарантированный выигрыш, но удивительно, что мне везло всякий раз, когда я думал о применении этих золотых.
– Счастливого пути, почтенный господин декан. Когда будете в Магдебурге, не забудьте убедиться, что золотые не фальшивые, равно как и вышивка на покрове. Игроки и золотошвеи очень любят жульничать.
– А еще я подумал о том, что монастырь Богоматери в Шпандове тоже совсем обветшал. Если бы мы именно туда отдали нашу маленькую Агнес и при этом пожертвовали бы на алтарь в честь святой Агнес, это было бы замечательным деянием не только в пользу святой, но и в пользу семьи. Поступив так, мы бы обрели на небесах и на земле благодатную заступницу. Арнимы, Барделебены, Яговы, а также Керковы имеют в тех местах большое влияние, а Бредовы – пока нет. А что подумают ваши кузены во Фризаке, нас не особо волнует. Нам нужен лишь маленький, скромный алтарь. Я вижу это так: серебряное шитье, медное распятие, а святую Агнес вполне может изобразить художник, сидящий у нас в долговой башне. Этот бедняга будет довольствоваться малым. Везде сейчас тяжелые времена. Но согласитесь, моя госпожа, если мы хотим увидеть нашу Агнес аббатисой, мы должны уже сейчас что‑то предпринять.
Благородная госпожа предостерегающе подняла руку.
– Достаточно! Я не говорю о том, что вы призываете меня воспользоваться неправедно полученными деньгами! Но вы предлагаете втянуть в это еще и моего ребенка?! Святая Агнес может взять то, что ей причитается, поскольку она святая и лучше меня знает, что делать, но моя Агнес не станет аббатисой из-за того, что вы ограбили кого‑то, играя в кости! И если ей суждено остаться послушницей до конца дней, пусть так и будет. Пусть она лучше выполняет обязанности ключницы, подавальщицы или служанки, чем станет аббатисой с помощью дьявола! Господин декан, если бы вы не были моим духовником и моим старым другом… Посоветовать мне такое мог бы лишь змей-искуситель! Не оглядывайтесь в страхе по сторонам – враг рода человеческого стоит за вашей спиной. Дьявол говорит вашими устами, и вы не можете этого не знать. Жаль, что силы зла имеют власть над преданными слугами Господними. Где найти утешение грешному человеку? Стойте, где стоите! – воскликнула она, когда он попытался последовать за ней. – Я боюсь общаться с вами на сон грядущий. Завтра утром будет другой день, может быть, мы оба забудем об этом разговоре, как о дурном сне. Это было бы лучше всего.
Между тем в замке стало почти тихо. На полу валялся кубок, которым гость запустил в декана. Лежали разбросанные кости, и никто, казалось, не собирался их поднимать. Лишь господин фон Линденберг некоторое время в гневе ходил взад-вперед по залу, а потом резко опустился в кресло старого Гётца. Он водрузил ногу на скамеечку, звякнув при этом шпорой, и подпер голову. Петер Мельхиор сидел за столом в похожей позе, у стены стояли два юнкера: Ханс Юрген и Ханс Йохем.
– Я ведь предупреждал, остерегайтесь священника, – проговорил Петер Мельхиор. – Все, что попадает в его кошель, пропадает там навеки. Любого другого можно заставить что‑то вернуть, а этого – никогда!
– Проклятье! – проворчал гость. – Я должен вернуть это золото. Его светлость курфюрст доверил мне кошель во время охоты, чтобы по возвращении домой раздать милостыню.
– Не повезло беднякам!
– А старый Гётц все спит да спит.
Петер Мельхиор рассмеялся:
– Его время просыпаться еще не пришло.
– Подумать только, сколько денег вылетело в трубу, – печально заметил гость. – Неужели здесь никого нет поблизости, у кого можно было бы взять в долг? У Штехова ничего нет, у Хольцендорфа тоже, Арним ничего не даст. Неужели вокруг нет ни одного еврея? Мне ведь надо только до завтра-послезавтра! Дело в том, что курфюрст беспокоится о своей репутации почище старой девы.
Но в округе не было ни богатого еврея, ни вообще кого бы то ни было богатого.
– Эх! – воскликнул Петер Мельхиор. – Лавочник Хеддерих! Мы не должны были его отпускать. Для него было бы честью поделиться деньгами с благородным господином. А человек он весьма интересный. Когда я немного порылся в его сундуках, в одном что‑то очень подозрительно звенело.
Господин фон Линденберг навострил уши и с деланым безразличием спросил, что было дальше, напоминая своим видом сборщика пошлин, который взял след контрабандиста. Два юнкера также оказались вовлечены в разговор и самым тщательным образом допрошены в качестве свидетелей. Были упомянуты и поддельные ткани, и свинцовое колечко, и злополучные плюдерхозе…
– Хеддерих… – Гость почесал лоб. Он припоминал это имя. – И куда же он делся?
– Сказал, что хочет поехать в Кёльн на Шпрее.
– А что ему нужно в Кёльне?
– Если я правильно понял, – проговорил Ханс Йохем, – он собирался распродать там остаток товара.
– В его воз были запряжены серые лошади?
Посовещавшись, все подтвердили этот факт.
– Правильно! – воскликнул господин фон Линденберг, хлопая себя по ляжкам. – Я вспомнил его! Хитрый мошенник! Этот парень, оборванный, как Лазарь, вернувшийся с того света, возит среди тряпок и лент для крестьянских девок прекрасные шерстяные ткани такого качества, какого никогда не увидишь в деревне. У него есть разноцветные ткани из Индии и Самарканда, которые он закупает у турок в Богемии и Вене. Далее ткани развозятся по европейским дворам. Только особы королевской крови могут позволить себе купить нечто подобное. Мы встретили его на таможне в Саармунде. Ему пришлось распаковать товар, и его милость купил у этого торговца прекрасные покрывала и ткани для своей помолвки. Поскольку он сразу заплатил половину цены, этот ваш Хеддерих заработал около двадцати марок. Остальное он должен получить, прибыв в Кёльн, во дворец. Эвальд Кекериц и трое из семейства Людериц спросили его, когда он поедет в Берлин, чтобы отвезти полученные им деньги. Но, почувствовав исходящую от этих людей опасность, Хеддерих рассказал им сказочку о том, что хочет сперва отправиться в Магдебург через Цизар, в сопровождении архиепископа. Потом, по его словам, он поедет через Хафельберг в Штеттин и только после этого за деньгами в Кёльн. Подумать только! Теперь этого пройдоху не догнать…
– Семейство Людериц и Эвальд Кекериц действуют слишком жестко, – перебил Петер Мельхиор. – Вы наверняка знаете молитву всех торговцев:
От Кекерица и Людерица,
От Крахта и от Иценплица
Дай, Боже, нам оборониться.
Гость бросил на Петера Мельхиора красноречивый взгляд, означавший, что ему следовало бы придержать язык, поскольку даже стены имеют уши. Но тот, посмотрев на юношей, всем своим видом изобразил, что людям благородной крови не пристало чего бы то ни было бояться.
– Никто не сомневается в нашей отваге, – проговорил гость, хлопнув по плечу Ханса Юргена, – но осторожность в словах никогда не бывает излишней.
– Да уж, Иоганн Цицерон, который черпал мудрость ложками и в то же время держал рыцарей в ежовых рукавицах, явно вам не родственник, – съязвил Петер Мельхиор.
– Знаете ли вы, как он это делал? – серьезно спросил гость и жестом пригласил присутствующих сесть поближе.
Разговор продолжился, но гораздо тише.
– Вы совсем молодые люди, – сказал он Хансу Юргену и Хансу Йохему, – и вам предстоит тяжелая, мрачная жизнь, если… если она не наладится.
– Ну, немного радости все же иногда будет, – улыбнулся Петер Мельхиор.
– Нет, если все продолжится, как сейчас, то не раньше, чем когда вы поумнеете. Говорю вам, марка превратится в псарню, причем псами в ней будут дворяне. В этом противостоянии смешаются князья, священники, ученые, рай и ад, думаю, и горожанам тоже достанется.
– Странно это слышать от господина фон Линденберга – любимца и советника нашего курфюрста.
– Прежде всего я – рыцарь и дворянин, и самое дорогое для меня – моя свобода, – проговорил господин фон Линденберг, ударив себя в грудь. – Видит Бог, я постоянно наблюдаю, мечтаю, пытаюсь как‑то изменить наше будущее, но мне все время приходится иметь дело с дуболомами! Эти Кекерицы, Иценплицы, Крахты, вместо того чтобы помочь, только все портят. То, что они творят, не может стать основой для будущего. Столько воды утекло с тех пор, как наши правители-бургграфы [50] из Нюрнберга напустили на нас целую пургу забот и обязанностей, засыпали нас сугробами установлений и правил, ввергли нас в метель нужды! Сто лет они подтачивали и ограничивали наши права! Пали наши крепости, плаха и застенки похитили храбрейших из нас, а теперь эти дураки Кекерицы и Крахты уверились, что могут водить за нос правителя, только потому, что он мальчишка. Все, на что они способны, – дурацкие провокации и разбой на дорогах, каждым своим шагом они подают ему сигнал, яркий, как горящий фонарь, что пора завернуть гайки еще сильнее. И, поверьте мне, он не идиот, он этот сигнал понимает.
Петер Мельхиор, похоже, был не согласен с этим утверждением:
– Все же его можно склонить на нашу сторону.
– Увы, это не так. В свое время Путтлицы, Квицовы, Бредовы сделали все, что могли, и не их вина, что у нас не было еще одной битвы при Креммер Дамме. Наши ряды распались, мы не сумели сохранить единства. Посмотрите, что происходит в Швабии, во Франконии, на Рейне, – они оказались умнее, они заключали союзы, формировали рыцарские ордена, там сегодня правят бал воины, помещики, рыцари, землевладельцы, о которых князья, пытаясь ограничить их свободы, обламывают себе зубы!
– У нас нет гор и скал, наши замки стоят на песках и болотах.
– Именно поэтому мы должны были… Ах, что сделано, того не воротишь! Впрочем, нас не смог до конца покорить ни тот первый, гордый Фридрих [51], ни другой, с железными зубами [52], и даже Альбрехт [53], который пришел к нам лишь как наместник, тоже вынужден был показать свою ахиллесову пяту. Все они считали нас чужой страной, которую следует покорить, а ее жителей притеснять. И, поскольку они не считали эту землю родной, в конце концов они возвращались в свои франконские горы, а наши отцы, отстояв очередной раз свободу, могли вздохнуть с облегчением. И только этот бледный Иоганн, которого образованные люди прозвали Цицероном, скрутил нас в бараний рог. Этот правитель не остался франконцем, а сумел стать местным, стать нашим правителем, он узнал наши слабости, и это сделало его сильным.
– Я помню пятнадцать замков, которые он разорил, когда был курфюрстом. То было плохое время, господин фон Линденберг.
– А при его сыне будет еще хуже. Вы думаете, что он мальчик. Но я говорю вам, что через год он станет мужчиной. Вы думаете, он поглощен своими книгами, но его мысли устремлены далеко вперед. Если мы не будем стоять друг за друга, если не проявим благоразумия и не станем мудры, как змии, нам конец. У его предков были на службе рыцари и семьи из Франконии и Священной Римской империи – наши отцы породнились с ними, и эти браки позволили нам выжить, стать с ними людьми одной крови. Но юного курфюрста не интересуют люди из плоти и крови, его разум во власти духов и призраков – кто изгонит их из страны?! – во власти идей. Он мечтает овладеть всей тысячелетней латинской мудростью ученых прежних времен, священников, отцов церкви, мудростью университетов и править, используя ее! Нет ничего в других странах, чего бы он не хотел присвоить и опробовать. Он считает, что надо составить своды законов на немецком и латинском языках, создать коллегии для управления, налогообложения и надзора, желает усовершенствовать наши обычаи, превратить всю нашу землю в силок из тонких проволочных нитей, чтобы ни одна птица не смогла полететь дальше, чем ей разрешено. Всю власть он хочет сосредоточить в своих руках!
– Господин фон Линденберг, – проговорил Петер Мельхиор, – мне кажется, что вы сами видите духов и призраков. Вспомните, сколько ему лет.
– Возможно, вы правы. Но иногда у меня голова идет кругом, особенно когда я слышу его речи, изобилующие греческими и латинскими терминами. Так что перспективы, которые я вижу, кажутся мне весьма мрачными и вполне реальными. Эта нюрнбергская бургграфская кровь заставляет знать все лучше других, обустраивать все по-своему, стремиться быть умнее и благочестивее всех. Она кипит и не дает покоя никому.
– Но он обязан подчиняться решениям ландтагов!
– И что? Разве он подчиняется им? Уверяю вас, это лишь пустые слухи. Если мы собираемся помогать друг другу, надо действовать иначе, сообща!
– Нужно ему доказать, что земля принадлежит нам.
– Нет-нет, не так быстро. Если хотеть многого и сразу, ничего не добьешься. Я не стану винить Кекерица, Людерица и им подобных за то, как они себя ведут, но их действия неуклюжи и грубы. Где они, там всегда крики и пролитая кровь. Зачем так демонстративно показывать свою силу, зачем подкарауливать на улице первого встречного? Подумайте, покопайтесь в старых пергаментах, где описаны дела прошлого: договоры, документы, дарственные, описания обычаев. Действовать надо так, чтобы вас никто не называл ворами и разбойниками. Клянусь небом и адом, разве у вас нет прав, разве не имели прав ваши отцы? Разве когда‑то мы не были едины и разве не было такого, чтобы купец, выгрузив товары, пил из общего кубка и с ним пил капитан того корабля, на котором он прибыл, а за столом сидели и пели их попутчики-пилигримы? Если бы вы все задумались об этом, то прав бы у вас по-прежнему имелось как в море песка, и очень сомнительно, чтобы их кто‑нибудь нарушал. Нам нужно вернуть то, что потеряно. Но необходима правильная поддержка. Если вся знать восстанет с оружием в руках, будет крик, шум, неразбериха! Но курфюрста просто-напросто замучает совесть, если мы будем умнее и станем использовать попов, ученых, стряпчих, – а таких молодцов, которые за палку жареной колбасы докажут и зафиксируют на пергаменте все, что ты хочешь, найдется немало. Надо ковать железо, пока оно горячо, и вот в этом нам поможет его молодость. Пока он играет со своими древними фолиантами, сверяется с судебными уставами, считает важным сохранить все это старье. Но нужно сделать так, чтобы его одолели причитания и жалобы на нарушения закона, нужно, чтобы он не знал покоя, буквально разрывался. В гневе он наделает ошибок, а это даст нам новое преимущество. В конце концов, растерянный, проклинаемый, непонятый, он оставит все как есть, а это именно то, что нам нужно. И тогда власть снова окажется в наших руках, как и положено по закону Божьему и по закону марки Бранденбург.
Господин фон Линденберг поднялся и сделал большой глоток из кубка. Петер Мельхиор почесал затылок и хитро посмотрел на рыцаря и двоих юношей.
– Гром и молния… – только и пробормотал он. Казалось, его мысли уже витают там, где сказочные перспективы становятся реальностью.
– Но вы все слишком ленивы, – продолжил рыцарь свою речь. – Вы неспособны смотреть вперед и ничему не учитесь. Зачем Бог дал вам язык? Чтобы вы жаловались друг на друга?! Откуда же тут взяться уважению к знати? А я не могу все организовать в одиночку, мой язык уже пересох, спина искривилась и не гнется. Вместо того чтобы помочь мне организовать атаку, о которой я говорил, прикрывая меня со спины, вы все время чего‑то требуете, заставляя впустую расходовать силы. Неудивительно, что постепенно даже у лучших из мужей нашей марки заканчивается мужество, к этому стоит добавить, что они еще связаны адской придворной службой! Хотел бы я, чтобы меня отлучили от двора курфюрста, как этого разбойника Уилкина Людерица, попавшегося на горячем. Тогда я смог бы отдохнуть.
Повисла пауза.
– Жаль! – только и сказал Петер Мельхиор.
– О чем ты сожалеешь?
– Я думаю об этом торговце Хеддерихе! Как, должно быть, было бы приятно вновь сбросить эту жирную свинью в канаву.
– А мне жаль этих мальчиков, – проговорил гость, расхаживая взад и вперед. – Нам, старикам, уже все равно, мы свой позор унесем с собой в могилу. Но что получится из этой молодой поросли? Где им заслужить рыцарские шпоры? Турниры почти не проводятся, достойных схваток больше нет, если только ты не хочешь положить жизнь за курфюрста или пойти воевать против турок. Где молодые смогут понять, что они свободны, что в их жилах течет благородная кровь?! Нам даже не дают с ними должным образом поговорить, передать им наши устои! Наступает эпоха расцвета трусости, героями становятся недостойные, и все это теперь называют справедливостью и праведностью… Кстати, куда, говорите, направился торговец Хеддерих?