Эпоха перемен. Моя жизнь
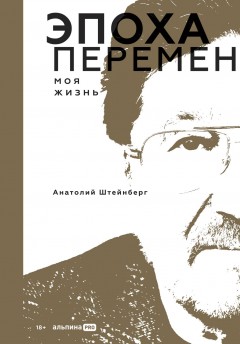
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Редактор: Наталья Сербина
Руководитель проекта: Анна Туровская
Арт-директор: Татевик Саркисян
Корректоры: Наташа Казакова, Наталья Сербина
Вёрстка: Олег Щуклин
Фото из личного архива автора и архива СФТ Групп
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Штейнберг А., 2024
© Оформление. ООО «Альпина ПРО», 2025
Чтоб тебе жить в эпоху перемен.
Китайское проклятье
В китайском языке толкование иероглифа «кризис» имеет два значения: опасность и возможность.
Предисловие
Эта книга написана в первую очередь для моих внуков, они мои главные читатели. Я не знаю, будут ли они с неподдельным интересом следить за повествованием об истории моей жизни, правильно ли поймут значения событий, сделают ли верные выводы, будут ли гордиться мной или посчитают сумасбродным. Но я буду знать, что попробовал.
В своём рассказе я старался быть предельно честным и максимально открытым. Мне хотелось поведать им о том, о чём я ранее не говорил, о чём-то очень личном, сокровенном, о том, что меняло меня и сделало тем, кто я есть.
Я не претендую на абсолютную истину: всё, что здесь написано, – это моё субъективное мнение, моя оценка и моё восприятие событий. Я буду рад, если не только мои близкие найдут что-то полезное и интересное в книге. Это будет означать, что моя очередная идея воплотилась в жизнь не зря!
У меня четверо внуков. Они такие разные, уникальные и, безусловно, талантливые, я горжусь каждым из них. Мы часто ведём с ними беседы, рассуждаем о жизни, учёбе, планах, и я поддерживаю все их идеи и начинания. Я стараюсь прививать мальчикам те ценности, в которые верю сам: настоящий мужчина должен выполнять свои обязательства, в любой ситуации оставаться мужчиной, и это не обсуждается. Ещё я верю, что любому человеку нужна большая мечта, которая вдохновляет, раздвигает границы возможного, расширяет горизонты, заставляет совершать безумные поступки. Чем масштабнее мечта, тем более полной и интересной становится жизнь. Мне нравится создавать семейные реликвии, поэтому я изготовил для своих внуков фамильные кольца и выгравировал на каждом такую фразу: «Мечтай, верь и делай что должен».
Всю свою жизнь я много читаю, читаю жадно, погружаясь в жизнь каждого персонажа, примеряя её на себя. В детстве я завидовал героям книг, у которых было родовое гнездо – особенное место силы, куда хотелось бы возвращаться, где всегда можно было получить поддержку и защиту. У меня не было такого места, но я всегда мечтал создать его для своей семьи. Мне хочется верить, что повесть о моей жизни станет частью родового гнезда, опорой для моей семьи, для моих внуков.
Написание книги никогда не было моей мечтой или самоцелью, но эта идея приходила ко мне время от времени. Я писал небольшие рассказы, в которых фиксировал особенные моменты жизни, их у меня было предостаточно. Иногда я давал их читать своим друзьям и коллегам, получая восторженные отзывы и похвалу. Нужно было как-то собрать все истории в единое целое. Но как это сделать и с чего начать, было неочевидно, пока мои коллеги не подтолкнули меня к этому шагу.
В ноябре 2022 года мне исполнился семьдесят один год, на день рождения я получил удивительный подарок – свою собственную книгу! На обложке книги красовалось название «Моя жизнь в ЦБП», автор – Анатолий Владимирович Штейнберг. Я раскрыл книгу и увидел чистые белые листы, для меня это был настоящий вызов. Помимо книги коллеги подарили контракт с издательством на публикацию полутора тысяч экземпляров. Отступать было некуда, я принял вызов!
Но с чего начать? Я же не писатель, не историк, я дилетант в этом вопросе. Но в своей собственной жизни и своей профессии я – эксперт и созидатель. Безусловно, мне хотелось рассказать обо всём, что связано с целлюлозно-бумажной промышленностью, поскольку я всю жизнь работаю в этой сфере, что говорить, это и есть моя жизнь. Но мне всё же хотелось написать не только о бизнесе и своём пути как бизнесмена. Мне нужно было раздвинуть границы и посмотреть шире на события из жизни. Мне захотелось, наконец, высказаться. Честно и откровенно написать на этих белых страницах свой взгляд и своё отношение. В конце концов, это моя книга и я имею на это право.
Как ни странно, решающим толчком к этому шагу стало событие моей личной жизни, а точнее, моя прекрасная супруга, моя Вика. Тогда ещё мы не были женаты, но уже достаточно длительное время были в отношениях. Вика жила в Вене, я часто прилетал к ней, она – ко мне в Москву, а потом случился COVID, который очень сильно затруднил наши встречи. Я пришёл к выводу, что наши отношения на расстоянии нужно переводить в формат официальных, и сделал ей предложение.
Скажу честно, у нас большая разница в возрасте, и до этого момента я уже несколько раз делал ей предложение, но Вике было сложно принять решение и стать моей женой официально. На этот раз я был настойчив, и она сказала мне «да».
Решив, что наш брак мы зарегистрируем в Австрии, потому что Вика – гражданка этой страны, мы начали погружаться в бюрократические вопросы, нам стало понятно, что сделать это будет непросто. Уже тогда в отношениях между Россией и Европой существовали сложности, санкции работали полным ходом, и это, безусловно, затрудняло все процессы.
Знаете, иногда так бывает, что сама судьба случайным образом сводит с людьми, которые становятся твоим спасением. В Вене я люблю пить кофе в лобби отеля Hyatt. Однажды, придя туда, я случайно встретил знакомую даму – риелтора из России. Она была там с друзьями, мы разговорились, и между делом я поведал о том, как трудно зарегистрировать брак в Австрии. Подруга моей знакомой тут же подключилась к вопросу и помогла нам подать заявление в небольшом провинциальном австрийском городке. Свободная запись была только через несколько месяцев, впрочем, мы никуда не торопились и забронировали дату свадьбы на март 2022 года.
Весь февраль 2022 года я чувствовал себя очень счастливым. Моя жизнь только-только вошла в спокойное русло, я готовился к переменам, связанным с женитьбой, но 24 февраля 2022 года всё изменилось, началась СВО. В голову стали приходить первые тревожные мысли: «Родители Вики под Киевом», с этим нужно было незамедлительно что-то делать.
«Господи, я живу уже достаточно долго, почти целую эпоху, и я всё время нахожусь в состоянии кризиса, в состоянии постоянных перемен. Когда же, наконец, я смогу прогнозировать своё будущее на более-менее длительный срок?» – рой мыслей крутился у меня в голове, перебивая одна другую. Сразу стало понятно, что впереди очередное испытание и новые перемены. Случилось событие, кардинально меняющее нашу действительность, наш миропорядок, наши планы. Эта ситуация натолкнула меня на мысль о названии книги: «Эпоха перемен».
Возвращаясь к нашей свадьбе и вдруг возникшим новым задачам и проблемам, я принял решение, что действовать буду так же, как и всегда, – стану воспринимать новые обстоятельства как вызов, с которым точно смогу справиться.
Несмотря ни на что, мы решили не отступать от намеченных планов, смогли перевезти родителей Вики в Вену, сами переехали в отель, и даже внезапная болезнь Вики за два дня до церемонии и страшная температура под сорок не смогли сломить нашу решительность. Мы всё-таки сделали это, мы стали мужем и женой.
Забегая немного вперёд, хочу сказать, что эта книга главным образом о людях. Мне колоссально повезло в жизни, ведь меня окружают совершенно невероятные люди, многие из них – мои близкие друзья, большая часть – моя команда, не только в бизнесе, но и по жизни. Я вообще считаю, что формирующим для человека является его окружение, а друзья – это в первую очередь единомышленники. Никогда не станет твоим близким другом человек, с которым у тебя не совпадают взгляды на жизнь.
Окончательно определиться с названием книги мне помог мой близкий друг – Небойша Шаранович. Когда я делился с ним своими мыслями на этот счёт, перебирая возможные варианты названий, Небойша сказал мне:
– Моя жизнь в эпоху перемен? Нет, не так! Эпоха перемен. Точка. Моя жизнь. Точка. Ведь это два независимых процесса.
Мне понравилась эта идея. Друзья для того и существуют, чтобы иногда подсказывать друг другу важные вещи.
Вообще, люди, которые нам встречаются по жизни, даже самым случайным образом, могут сыграть важную роль в ней, совершенно неожиданно для тебя привнести в реальность что-то особенное. Много раз мне встречались люди неординарные и даже «сумасшедшие», именно в кавычках, потому что они «сумасшедшие» в положительном значении, исключительно в хорошем и добром смысле этого слова.
Такие «сумасшедшие» люди определённо положительно влияют на твою жизнь, делая это неосознанно и не специально.
Когда я думал, как смогу справиться с написанием этой книги, я понимал, что одному мне это не под силу, просто потому что я не смогу бросить все дела, семью, бизнес и сосредоточиться только на рукописи. Мне нужен был спарринг-партнёр, как в боксе, который помогает оттачивать технику, которому я могу доверять, с которым я могу быть честен и откровенен, который обладает нужными профессиональными качествами и знаниями для реализации именно этого, нового для меня процесса.
Найти такого в своём окружении не удавалось, была попытка пообщаться с девушкой из издательства, контракт с которым мне подарили коллеги, но это не увенчалось успехом. Я понял, что мы не сработаемся, когда на первой встрече милая барышня начала с энтузиазмом обсуждать со мной обложку и качество бумаги.
А потом случайно в разговоре с коллегами я услышал про необычную книжку и нового автора – одну «сумасшедшую» девушку, которая бросила комфортную и стабильную жизнь в Москве, карьеру, перспективное будущее и отправилась в путешествие с рюкзаком наперевес. Возможно, таких историй много, но я узнал именно о ней. Книга называлась «Год, в котором не было лета», автор – Ирина Летягина. Книга сразу понравилась мне визуально: яркая обложка – фотография Ирины, интересное название. Читая, я был удивлён её поступками, её философскими рассуждениями, я представлял, как она, одинокая, хрупкая, маленькая девочка, бродила по миру с большим рюкзаком. Это абсолютный нонсенс, такого просто не может быть: сверхслабое человеческое существо оказалось в совершенно чуждой социальной среде и преодолело это! Книга вызвала очень приятные эмоции, и я решил, что обязан познакомиться и пообщаться с этой смелой девчонкой. Она, очевидно, авантюристка, в ней есть запал, огонь, что безумно мне близко, при этом мне нравится, как она размышляет, какие выводы делает. Мы встретились, и всё встало на свои места. Я понял, что смогу доверять ей и она станет тем самым спарринг-партнёром.
Недавно, обсуждая с коллегами и единомышленниками очередной виток кризиса, санкций и новых испытаний для бизнеса в России, я осознал, что всю свою жизнь я живу и работаю в состоянии «кризиса». И как только мне кажется, что вот-вот начнётся период стабильности, жизнь преподносит очередной «сюрприз».
Но при взгляде назад меня всё чаще посещает мысль о том, что не зря в китайском языке иероглиф «кризис» имеет два значения: опасность и возможность.
Кризисы – это испытание или мотивация, это критическая точка для роста или для разрушения? Именно на этот вопрос я отвечаю всю свою жизнь и всё-таки склоняюсь к версии про возможность, хотя слышал, что эту версию придумали американские маркетологи, а вовсе не китайские мудрецы. Но мы – то, во что мы верим. Идея о том, что любой кризис – это повод меняться и перестраиваться, не нова, и в жизни каждого человека есть выбор. Но все люди разные. Они воспринимают одну и ту же ситуацию, одно и то же событие по-разному, исходя из своего опыта, мировоззрения, ценностей, умственных способностей, в конце концов.
Далеко не все мои знакомые, люди одного со мной поколения, воспринимали исторические события, происходящие в разные времена нашей жизни, так, как воспринимал их я. Каждый из нас делал свои выводы, принимал свои собственные решения, которые в конечном итоге сформировали наши личности. Глобальные исторические события, постоянные перемены, которые происходили в стране и в мире, не могли не наложить отпечаток на меня как на личность, на моё сознание, самоощущение, на формирование моих взглядов.
Именно об этом я и хотел бы рассказать. О том, какие выборы стояли передо мной, какие решения я принимал или не принимал. Честно и подробно рассказать о том, каково это – строить бизнес, меняться и развиваться в непростое для всех время. Каково это – жить, верить и любить в эпоху перемен.
P. S. Некоторые истории, рассказанные в книге, придуманы на основе событий, которые происходили вокруг меня в разные периоды жизни.
Глава 1
Кочевник
Я родился в 1951 году, когда наша страна переживала достаточно непростые послевоенные времена. Вскоре после моего рождения в жизни страны начались глобальные изменения. В 1953 году произошло событие, которое потрясло всю страну, – умер Иосиф Виссарионович Сталин. Началась борьба за власть, в ходе которой Первым секретарём ЦК КПСС стал Никита Сергеевич Хрущёв – человек авантюрный, идейный, но, к сожалению, не очень дальновидный. Ему нравилось проводить эксперименты в сельском хозяйстве, и первым из таких экспериментов стало освоение целины[1]: на государственном уровне было принято решение ударными темпами распахать целинные залежные земли для выращивания зерна в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и на других территориях СССР.
На этот масштабный проект были брошены огромные ресурсы. Это была битва – битва за урожай. Заводы, которые ранее выпускали танки, стали производить сельскохозяйственную технику. Страна была мобилизована в буквальном смысле: для сбора урожая подключили армию и флот, государство формировало целинные роты и батальоны. Жители всех республик массово снимались с насиженных мест и с энтузиазмом ехали поднимать целину. В степях можно было встретить латышей, эстонцев, армян, белорусов, украинцев, молдаван. Но никто не разделял себя по национальностям: целину поднимал советский народ! Людям было непросто, они попадали в условия неустроенности, порой в совершенно неподготовленные для жизни места, но это их не беспокоило, ведь все были охвачены общей великой идеей. Советская пропаганда работала блестяще: про целину писали стихи, слагали песни, снимали фильмы с любимыми актёрами. Чего стоит известный фильм «Иван Бровкин на целине»! Советский народ был един в своём стремлении выполнить задачу государственной важности.
Нашу семью, как и многие другие, целинная эпопея не обошла стороной. Изначально мама, папа, моя старшая сестра и я жили в городе Свердловске, ныне Екатеринбурге. Наша жизнь была устроенной и благополучной, даже учитывая сложные послевоенные годы. У моего отца успешно складывалась заводская карьера: он был специалистом по холодной обработке металла в отделе главного конструктора Уралмашзавода. Но в самом начале освоения целины его, человека, не имевшего никакого отношения к сельскому хозяйству, отправили в Западную Сибирь в качестве главного механика машинно-тракторной станции. Тогда я был ещё совсем маленьким, мне не было и трёх лет, поэтому я плохо помню наш переезд из большого промышленного города в сельскую местность. Но я точно знаю, что он коренным образом поменял уклад нашей семьи.
Сначала мы обосновались в деревне Усово. Своего дома у нас не было, и нас поселили в дом сибиряка Осипа и его матери. Моим первым осознанным воспоминанием стал деликатный случай: я, стоя на высоком деревянном крыльце, писал во двор. За этим невинным детским занятием меня застала мама Осипа и криком известила, что за такое Осип надерёт мне мягкое место. Мне такие угрозы пришлись не по душе, и я предпочёл спастись бегством.
Спустя некоторое время нам дали отдельную квартиру в четырёхквартирном доме, в ней была спальня и отдельная большая комната, в центре которой располагалась русская печь. Моя любознательность и исследовательский интерес были сильны с раннего детства, что периодически выходило мне боком.
Как-то раз мы с другом из соседней квартиры решили развести огонь прямо дома, потому что нам очень захотелось печёной картошки. Сначала мы просто зажигали спички и вставляли их в картофель, что, естественно, не приносило желаемого результата. Тогда мы нашли тазик и принялись разжигать в нём костёр. В тот самый момент домой вернулась моя мама. Она уничтожила наш план на корню: тем же тазиком она воплотила в жизнь ранние угрозы мамы Осипа и, конечно же, уберегла и нас, и жильцов дома от возможного пожара.
Воспоминание об этом наказании было ярким, но, увы, недолгим, и урок мною был усвоен не до конца. В скором времени с тем же приятелем мы снова решили разжечь костёр, на этот раз на улице. В степи лес был большим дефицитом, поэтому сарайчики для скота делали из двухслойных жердей, между которыми набивалась солома, что делало конструкцию очень пожароопасной. Мы с товарищем набрали побольше соломы, положили её поближе к сарайчику, чтобы ветер не мешал нам разжигать костёр, и подожгли её. Солома загорелась очень быстро, впрочем, как и сам сарай. Мы испугались и убежали, хорошо, что пожар вовремя заметили взрослые. Целая толпа людей, в том числе мой отец, боролась с огнём достаточно продолжительное время. Это воспоминание до сих пор запечатлено в моей памяти словно фотография: папа тушит пожар, который затеял я. На этом я закончил историю с кострами.
В 1954 году, когда мне было три года, произошло историческое событие, последствия которого каждый из нас ощущает до сих пор: Никита Сергеевич Хрущёв передал Крым из состава России в состав Украины. Несмотря на свой юный возраст, я запомнил разговоры мужчин, которые крайне негативно отнеслись к такому решению:
– Этот Хрущ разбазаривает страну. Чего ради он передал Украине Крым?
Раньше я никогда не слышал от взрослых осуждения действий правительства, но именно с этим решением простые работяги из глубинки были не согласны. Люди, жившие в маленькой сибирской деревне, были не слишком образованны и весьма далеки от политики, они никогда не рассуждали на эти темы, у них были другие заботы. Я запомнил эту негативную реакцию, критику в адрес руководства страны, именно потому, что она была необычной и шла вразрез с общим спокойным социальным фоном. Я вспомнил об этой реакции через многие годы, когда вопрос снова стал актуальным.
Спустя некоторое время мы переехали из деревни Усово в село Сладково. В те времена село от деревни отличалось наличием церкви: в деревне была церковь, а в селе нет. В Сладково церкви не было. У нас появился собственный дом и участок, мама сразу взялась за хозяйство, завела корову и телёнка. В Сладково я пошёл в первый класс.
В то время нашим любимым детским развлечением была ловля сусликов. Мы собирались большой ватагой ребят и шли в степь «выливать» сусликов. Эти зверьки под землёй строят целую систему нор и ходов, похожую на лабиринты. Мы брали с собой бидоны с водой, искали нору и выходы, которые находились поблизости. Наиболее крепкие ребята занимали посты рядом с выходами, складывали ладошки «колодцем» и готовились ловить сусликов, остальные лили воду в один вход. Постовые следили за тем, в каком из отверстий покажется суслик. Когда суслик высовывал голову, его нужно было быстро схватить, чтобы он не успел убежать или укусить ловца за руку. Чаще всего застигнутый врасплох суслик активно защищался: кусался, царапался и верещал так, что удачливый ловец пугался и упускал зверя. Не менее испуганное животное бросалось наутёк и убегало в степь подальше от норы, в которой случилось наводнение. Всей оравой мы пускались в погоню, это было очень азартное занятие: мы с улюлюканьем бежали за сусликом наперегонки, пытались перерезать ему дорогу, но обычно он всё равно оказывался шустрее нас, находил какую-нибудь нору и снова прятался в подземелье.
Ещё я помню растущую повсюду коноплю. Где-то это были промышленные поля, где-то просто заросли, которые распахали под посев зерна. После распашки конопля оставалась расти вдоль кромки полей, её кусты были очень высокими. По осени листья опадали, а из земли оставались торчать длинные плотные конопляные стебли с твёрдыми как камень корнями. Мы с мальчишками вытаскивали стебли из земли, заостряли твёрдый корень, очищали стебли от веток. Так мы готовили копья, которыми потом весело «воевали». Иногда мы собирали сухие стебли и разжигали из них костёр, сухая конопля хорошо горела. Взрослые говорили, что коноплю не нужно бросать в костёр, от дыма будет болеть голова. Ни у кого тогда не было понимания, что конопля – это наркотик, все знали, что её дым вызывает головную боль, и на этом всё. В те времена люди совершенно не интересовались наркотиками, а конопля была одной из важнейших сельскохозяйственных культур. В России издревле конопля выращивалась в больших объёмах, особенно активно её стали заготавливать в связи с развитием флота, тогда российская конопля стала ценным экспортным товаром, который отправляли преимущественно в Англию. Конопляные канаты пользовались огромным спросом, они обладали особой прочностью и не гнили в воде. Потом в промышленности конопля была заменена на джут, а с развитием кораблестроения потребность в канатах упала, поэтому и посевы конопли в России значительно снизились.
После села Сладково мы переехали в село Менжинское, которое было построено специально для работников, занимающихся освоением целины. Там мой папа стал ответственным руководителем – главным инженером большого совхоза. Западносибирские степи, расположенные на границе с Казахстаном, были традиционным местом обитания кочевых казахов. Освоение целины в большой степени повлияло на их жизнь: им приходилось освобождать территории, отгонять табуны лошадей, чтобы уступить дорогу тракторам. Я помню, как папа ездил договариваться со старейшинами кочевников, иногда он даже брал меня с собой, возможно, так он хотел показать свою открытость и доверие.
Я помню, как это было: нас приглашали в юрту, посередине которой располагался очаг. Папа садился вместе с казахами, они доставали бурдюки и наливали кумыс в деревянные пиалы. Перед тем как начать пить, папа обязательно плескал кумыс в очаг, так он демонстрировал уважение к духам предков этого рода. Только после этого отец начинал разговор, он говорил, что в степь скоро придут тракторы, людям нужно уходить.
Мой папа был очень человечным, он относился к кочевникам с большим уважением и сочувствием, понимая, каково им было покидать родные земли не по своей воле. Сейчас я осознаю, что такие встречи могли быть опасными, ведь для кочевников мы были чужаками. Будучи ребёнком, я не понимал, что именно происходит, но я видел казахских старейшин с длинными белыми бородами, видел их глаза, наполненные горечью и обидой. Им было тяжело, они осознавали неизбежность происходящего, понимали, что папа им не враг: не он принял решение распахать степь, он так же подневолен, как и они.
Папа оказывал глубокое уважение кочевникам, они это понимали и высоко ценили. Такое поведение моего отца стало для меня большим жизненным уроком: я впервые видел, как решаются взрослые вопросы. На самом деле, с кочевниками можно было не церемониться: силы были слишком неравны, против тракторов ни один кочевник не пошёл бы. Но мой папа предпочитал договариваться и предотвращать конфликты, сложность ситуации оставалась, но она была управляемой. Осознание того, как именно создаются договорённости, пришло ко мне уже во взрослом возрасте, но сама ситуация и папино поведение мне запомнились и запали в душу: я увидел живые примеры правильных управленческих решений и доброго человеческого отношения.
Ещё одно яркое воспоминание того времени – ковыльная степь. Когда в цветущем ковыльном поле гулял ветер, степь превращалась в голубое волнующееся море, которое не имело берегов. Когда по степи пошли тракторы, это бескрайнее море превратилось в чёрную, вывернутую наизнанку землю. Веками непаханая степь, богатая чернозёмом, готовилась под посевы. Разрушалась тысячелетняя среда обитания кочевого народа, табуны лошадей уходили то ли вдаль к невидимым берегам необъятной степи, то ли отправлялись в небытие, а за ними следовали казахские кибитки. Это было нужно великой стране, но нужно ли это было кочевникам? Они хорошо жили на этой земле, у них были огромные табуны лошадей, которые обеспечивали им традиционную безбедную жизнь.
В самом начале целинной эпопеи урожаи пшеницы были рекордными. Будучи ребёнком, я запомнил, что в первый урожайный год никто не знал, куда деть зерно и что с ним делать. Уже тогда я понимал, что взрослые поступили бездумно и даже глупо, засеяв бескрайние поля, не продумав заранее, как и где нужно будет хранить зерно. Железная дорога была очень далеко от села, элеваторы не построили, не было достаточного количества грузовых автомобилей, чтобы вывезти зерно с полей, не хватало подвижных составов для его транспортировки. Я помню, как бульдозеры двигали огромные горы зерна, потом зерно ссыпали на брезент и складывали в кучи – бурты. В огромной куче сырое зерно прело, температура в бурте поднималась, из-за этого зерно начинало гореть. Огонь стал причиной гибели большого объёма зерна. Это было страшное зрелище!
Несмотря на свой малый возраст, уже тогда я осознавал всю глупость и трагичность происходящего. Взрослые проделали такую тяжёлую работу, самоотверженно трудились, не жалея сил, выгнали несчастных казахов с их исконных земель, а потом так бездарно уничтожили результаты своего труда. Степь мощно отозвалась огромным урожаем, и из-за человеческой глупости всё погибло. Со временем всё наладилось: построили элеваторы, проложили дороги, организовали логистику, но первый урожай был самым большим. В Советском Союзе зачастую был важен исключительно результат, а не то, какими усилиями и жертвами он достигался.
Глава 2
Через тернии к звёздам
Освоение целины продолжалось, но глупые эксперименты в сельском хозяйстве на этом не закончились. Никита Сергеевич был талантливым и энергичным человеком, но, к сожалению, малообразованным. Съездив в США, Хрущёв решил, что кукуруза станет ключевой культурой, которая приведёт СССР к продуктовому изобилию. Когда в Советском Союзе принималось какое-то решение, его обязательно надо было выполнять, вдохновенно и самоотверженно. Кукурузу стали выращивать повсеместно, даже в тех районах, где она не могла вызреть. Несозревшую кукурузу стали перерабатывать в силос. Я видел эти силосные ямы: в земле выкапывали траншею, в неё бульдозерами сталкивали кукурузные стебли, после чего бульдозеры и тракторы утрамбовывали их в яме. Потом круглый год этим силосом кормили скот.
Тектонический сдвиг в жизни страны произошёл на XX съезде КПСС, который открылся 14 февраля 1956 года в Москве. В последний день работы съезда, 25 февраля 1956 года, на закрытом утреннем заседании Никита Сергеевич сделал доклад «О культе личности и его последствиях». В своём докладе он осудил политические репрессии и многочисленные преступления второй половины 1930-х – начала 1950-х годов, и вину за это он возложил на Сталина. Эти заявления вызвали неоднозначную реакцию как среди простых граждан, так и среди государственных лиц. Люди, победившие в Великой Отечественной войне, которые шли в бой «За родину, за Сталина!» и на броне танков писали «За Сталина!», вдруг услышали, что Сталин – это жестокий диктатор, который натворил в стране много бед, причинил страдания огромному количеству людей. Не все были готовы спокойно принять новую реальность. Последствия этого решения ощущаются до сих пор. Наверное, Хрущёв осознавал это, но всё же решился на такой шаг.
Этот доклад сказался и на международных отношениях СССР. Лидер КНР Мао Цзэдун открыто выразил недовольство разоблачением культа личности Сталина. При всей сложности отношений со Сталиным Мао Цзэдун очень уважал Иосифа Виссарионовича и, наверное, видел в нём родственную душу: Мао Цзэдун тоже был лидером нации, который смог выстроить диктатуру в огромной стране. Он считал Сталина не просто лидером КПСС, но и лидером всего мирового коммунистического движения, в том числе китайского. Поэтому после доклада Хрущёва отношения с Китаем стали ухудшаться.
Тем временем продолжались эксперименты в сельском хозяйстве. Ещё одним недальновидным и, на мой взгляд, совершенно глупым экспериментом Хрущёва стало ограничение поголовья крупного рогатого скота в домохозяйствах. В 1957–1961 годах людей заставляли сдавать на мясо «лишних» коров. Нашей семьи это тоже коснулось: тогда у нас было две коровы, одну из которых мы вынуждены были отдать. Начался массовый забой скота, что в 1958 и 1959 годах привело к избыточным объёмам мяса и ликованию партийных деятелей, но уже в 1960 году из-за резкого снижения поголовья крупного рогатого скота в стране появилась нехватка мяса. Такие эксперименты в масштабе всей страны приводили к катастрофическим последствиям!
Также я стал свидетелем ещё одного важного исторического события – денежной реформы 1960–1961 годов. В процессе реформы происходила деноминация: денежные знаки обменивались на новые в соотношении десять к одному, т. е. стоимость рубля должна была повыситься в десять раз, должны были измениться только сами деньги, но по факту получилось совсем по-другому. В реальности произошла девальвация – снижение стоимости рубля. Стоимость товаров стала выше. Народ ориентировался по стоимости спичек: до реформы коробок стоил пять копеек, после реформы – одну копейку, а должен был стоить полкопейки. Народ у нас не глупый и, конечно, понимал, что эта реформа была совсем не в пользу простых людей. Реакция населения, как и на передачу Крыма, была негативной.
Никита Сергеевич провёл ещё много разных реформ, какие-то имели положительные результаты, какие-то были совсем неэффективными и отменились почти сразу после его ухода в отставку. Но без сомнений, важнейшим событием этого периода стало покорение космоса!
В 1957 году произошло величайшее событие в истории Земли – запуск первого искусственного спутника. Весь советский народ ликовал! Пропаганда в СССР работала великолепно: государственные победы превращались во всеобщий праздник, единение народа в такие моменты было наивысшим.
Потом в космос запустили собак Белку и Стрелку, а 12 апреля 1961 года произошло то, о чём раньше и подумать было невозможно. В этот день по дороге в школу я издалека увидел необычное оживление на школьном дворе: все ученики и преподаватели толпились у входа в школу, то и дело были слышны какие-то странные шутки старшеклассников: «Ну что, гагары прилетели? Прилетели гагары?» Я совершенно ничего не понимал. Внезапно громкоговоритель, висевший на столбе, включился:
– Первый космический полёт человека в космос завершён успешно! Первый в истории Земли космонавт Юрий Алексеевич Гагарин приземлился, он жив и здоров.
Это была фантастика! Дети и взрослые, собравшиеся перед школой, ликовали! Тут же начался стихийный митинг, на котором выступили директор школы и учителя. Они говорили от души, искренне и восторженно, поздравляя друг друга. Пожалуй, за всю свою жизнь я больше никогда не видел такого единения и массовой гордости за свою страну. В своё время я был впечатлён поэмой Евгения Александровича Евтушенко «Братская ГЭС». Там есть слова:
– Я, Братская ГЭС, говорю тебе, египетская пирамида.
Пафос созидания, масштаб, величие свершений – этого сегодня в нашей жизни, к сожалению, нет. Я считаю себя патриотом России, поэтому мне очень жаль, что сегодня нет той гордости за страну, которая была раньше.
Юрий Гагарин первым в истории человечества за сто восемь минут облетел земной шар! Великий советский народ снова сделал невозможное. Это была наша очередная победа, наше великое научно-техническое достижение! Я до сих пор не могу объяснить это чувство причастности людей к грандиозным свершениям страны. В такие минуты торжества мы были единым и сплочённым советским народом без деления на русских, украинцев, татар, грузин, евреев… Мы все радовались победам нашей великой страны. Советский Союз делал мировую историю, и мы гордились этим! Потом каждый мальчишка в Советском Союзе, в том числе и я, мечтал стать космонавтом.
Советский Союз строил коммунизм. Планы были колоссальными, о них было объявлено на всю страну: 31 октября 1961 года состоялся XXII съезд КПСС, на котором приняли Третью Программу КПСС. Хрущёв заявил, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, который мы должны были построить к 1980 году. Тогда провозглашался основной принцип коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Когда я задумываюсь над этой формулировкой сейчас, я понимаю, насколько она ужасна и лицемерна, я бы даже назвал этот лозунг паразитическим. Каждый человек должен был быть настолько идеалистичен, чтобы с полной отдачей работать столько, сколько сможет. Принцип социализма «от каждого по способностям, каждому по труду» мне ближе. Мы в стране с гордостью объявляли этот принцип. Но, по своей сути, это принцип капитализма: ты можешь много работать, но получишь ты только за свой труд. Позже, анализируя жизнь в соседних странах, мы поняли, что шведы построили социализм, а у Советского Союза этого так и не получилось. Человек, увы, никогда не будет идеален, такова его природа. Всегда найдутся лентяи, обманщики, преступники и бунтари, не желающие жить, следуя законам и провозглашённым лозунгам.
Но тогда я искренне верил, что в 1980 году наступит эра всеобщего благоденствия, когда мы наконец построим коммунизм!
Глава 3
Школьная адаптация
Школьный период иногда называют школой жизни, и я с этим согласен. В школе мы учимся общаться со сверстниками, отстаивать свою позицию, в этот период у молодых людей происходит становление характера, закалка и подготовка ко взрослой жизни. В связи с папиной работой и частыми переездами за время учёбы я поменял четыре или пять школ. Я каждый раз заново вливался в коллектив, занимал в нём своё место, завоёвывал авторитет. Мне кажется, что у меня это получалось достаточно легко, потому что уже тогда я был интересным человеком. Чтение книг и общение в семье формируют язык ребёнка. Я много читал, у меня был широкий кругозор, богатый словарный запас и хорошо развитые навыки общения. Большую роль в этом сыграла моя мама, за что я безмерно ей благодарен. У неё было всего семь классов образования, но с самого раннего детства она мне много читала. Пушкин и Лермонтов были нашей обязательной программой, например мы прочли «Бородино» огромное количество раз, когда я был ещё ребёнком. Поэтому уже с первого класса я выгодно отличался от сверстников своей любознательностью и эрудицией.
Моими самыми любимыми книгами были книги про приключения! Они развивали фантазию, и я всегда знал, чем можно заняться с друзьями, какие игры или развлечения придумать, это делало меня лидером в детской компании. Я прочёл бессчётное множество приключенческих книг Эрнста Сетона-Томпсона, меня особенно захватила книга «Маленькие дикари», проиллюстрированная самим автором. В книге рассказывалось, как дети приехали из города в деревню. Одним из героев книги был пожилой фермер, он рассказывал ребятам о жизни индейцев. В книге очень подробно описывался процесс постройки вигвама, я его запомнил и предложил делать вигвамы моим друзьям. Мы стали строить шалаши, это было невероятно интересно!
Учиться мне действительно нравилось, особенно меня увлекали география, история и литература, также я с любовью учил физику, а вот химия и математика были для меня неизбежной необходимостью. Я любил спорт и физическую активность, но мне не нравился сам урок физкультуры из-за организации процесса: после урока приходилось ходить в мокрой одежде, а душ в советской школе, конечно, не подразумевался.
Географию я просто обожал, в сочетании с приключенческими книгами изучать её было особенно увлекательно. К домашним заданиям я подходил творчески: шёл в библиотеку, брал книги Майн Рида и на свой манер готовил описания стран или интересных мест. Учительница была мной очень довольна, а мои домашние задания получались интереснее учебника.
Классе в пятом или шестом у меня проснулся талант к чтению стихов. Мне нравилось вживаться в роль, пробовать передавать разные эмоциональные моменты произведения. Помню, как я перед всем классом рассказывал отрывок из «Мцыри» Лермонтова про бой с барсом. Я будто сам боролся со зверем, смотрел в глаза врагу, вцепляясь в него не голыми руками, но словами и звуками. Когда я закончил читать отрывок, учительница, Галина Михайловна, обратилась к классу:
– Ребята, как вы думаете, правильно ли Толя прочитал отрывок?
Мои одноклассники попытались найти ошибки, предполагали, что я не соблюдал знаки препинания, говорил то громко, то слишком тихо. Но учительница остановила эти рассуждения и подвела итог:
– Прочтение было блестящим!
С этого момента я полюбил декламировать стихи, мне нравилось приковывать к себе внимание слушателей. Однажды одноклассники не хотели писать контрольную работу и попросили меня почитать стихи прямо на уроке. Я выбрал длинное-предлинное стихотворение Михаила Александровича Дудина «Песня дальней дороге» и предложил Галине Михайловне в начале урока прочесть его перед классом. Она без сомнений согласилась. Я читал его от всей души так выразительно, что весь класс сидел не шевелясь, а Галина Михайловна была очарована. В конце прочтения она поблагодарила меня, сказав, что заслушалась и даже не заметила, как пролетел урок. Конечно, никакой контрольной в тот день не случилось, чему ребята были несказанно рады.
Я проявлял неподдельный интерес к истории, читал много дополнительной литературы про археологию, древних богов, раскопки гробниц. На уроках истории я всегда был внимателен и активно вовлекался в обсуждения тем, при возможности демонстрировал свои глубокие познания. Каждый учитель чувствует отношение ученика к его предмету и часто взаимно откликается на такой интерес, поэтому у меня сложились прекрасные отношения с учителем истории. Книги, прочитанные вне рамок школьной программы, давали мне возможность общаться с учителем практически на равных, и нам обоим это нравилось.
Помимо учёбы и чтения дополнительной литературы я увлекался боксом и фотографией. Фотография поражала меня сложностью и технологией процесса. Нужно было самому приготовить специальные растворы, аккуратно заправить плёнку в бачок, особенным способом печатать фотографии под красным фонарём, иначе всё засветится. А боксом я занимался из-за любви к физической нагрузке, ради того, чтобы быть в спортивной форме, а не ради того, чтобы уметь драться. Я вообще не помню, чтобы в школьные годы у меня были жестокие драки или серьёзные конфликты. Как правило, бьют одиночек, тех, кто более слаб и уязвим, а я был всегда окружён друзьями и большой компанией, да и слабым никогда не казался. Помню только однажды мы повздорили с моим приятелем из секции бокса Сашей Дудиным. Мы обменялись парой ласковых:
– Пойдём выйдем!
– Ну пойдём!
На задний двор школы тогда высыпал весь класс, ребята хотели посмотреть на нашу драку. Но в итоге мы побоксировали до первой крови и быстро помирились.
Я никогда не был агрессивным и не имел привычки лезть в драки или разборки, но всегда смело отстаивал свою позицию, как и герои моих любимых книг, старался быть справедливым и храбрым. Я даже иногда позволял себе публично давать оценку преподавателям, что было, конечно, некорректно с моей стороны и не всем нравилось. Но я был готов отвечать за свои слова и поступки сам, не привлекая родителей. Однажды завуч по воспитательной работе сильно повысила голос на учеников и не пустила их на линейку из-за опоздания. Прямо на линейке я сказал, что она совершенно ничего не понимает в воспитании. Такая наглость с моей стороны не прошла незамеченной: родителей вызвали на педсовет. Но на педсовет вместо них пришёл я сам. В качестве объяснения своей позиции я привёл стандарты общения великих учителей: Песталоцци, Макаренко, Ушинского, Корчака, сравнение было не в пользу завуча. После приведённых мной аргументов директор школы распустила педсовет, пригласив меня в свой кабинет, и сказала мне с глазу на глаз:
– Толя, пожалуйста, оставь её в покое. Да, она не права, но я же не могу её уволить, мне просто некем её заменить!
Я никогда не боялся говорить правду и отстаивать свою позицию. Уверенность в собственной правоте была мне свойственна с детства и сопровождает меня по сей день. Я, вопреки обстоятельствам, не часто испытывал страх. Уже когда я стал заниматься бизнесом, случались такие ситуации, когда меня могли убить, но я знал, что правда на моей стороне, из-за этого вёл себя свободно и независимо, не ощущая страха. Девяностые годы были временем разгула бандитизма, этнические группировки воевали между собой. В тот период случалось много ситуаций, когда я был вынужден взаимодействовать с бандитами, им ни в коем случае нельзя было показывать свой страх. Но парадокс заключался в том, что иногда я искренне не видел потенциальной угрозы, можно сказать, что я недостаточно боялся. Однажды мы встречались в «Гранд-Отеле Мариотт» на Тверской с чеченцем из криминальных кругов. Он пришёл с огромным вооружённым охранником. Видно было, что чеченец испуган, поэтому ему нужна была подмога. Я же пришёл на встречу совсем один. Мы сели обсуждать наш вопрос, и в какой-то момент я спросил:
– Слушай, может, мы отпустим этого детину? Он в разговоре всё равно не участвует.
Чеченец смутился и попросил охранника выйти. В итоге мы спокойно поговорили и мирно урегулировали вопрос. Но потенциальный риск этой ситуации я осознал намного позже.
Когда я учился в средней школе, в стране случились очередные серьёзные перемены. В октябре 1964 года на Пленуме ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущёва принудительно освободили от должности руководителя советского правительства, то есть отстранили от управления страной. Его обвинили в многочисленных ошибках, которые он совершил во время своего правления, грубости по отношению к членам партии, созданию собственного культа личности и многом другом. Особенность его отставки была в том, что впервые в советской истории его «свержение» не закончилось трагедией, расстрелом или тюрьмой. Никита Сергеевич на следующий день после официального освобождения от полномочий проснулся советским пенсионером, что было крайне нетипично для законов того времени. Британский журналист Марк Френкланд, издавший биографию Хрущёва в 1966 году, написал так: «В некотором смысле это был его лучший час: ещё десять лет назад никто не мог предположить, что преемник Сталина может быть устранён таким простым и мягким методом, как голосование».
Глава 4
Еврейский вопрос
Далеко за Уралом проявлений ксенофобии было значительно меньше, чем в европейской части Советского Союза, но всё же ксенофобия существовала и мне приходилось сталкиваться с её проявлениями.
Когда я был совсем маленький, мы играли в войну. Заводилой был парень лет пятнадцати, он давал звания всем игрокам. Мне, самому младшему, досталось звание ефрейтора, а все остальные были рядовыми. Я был этому рад, потому что ефрейтор по званию был выше рядового. Мы отлично поиграли, набегались, «навоевались», а дома я радостно рассказал маме, как мы удачно спрятались, обхитрили ребят и в итоге победили.
– Мама, я был ефрейтором!
– Ефрейтором? Ну ладно! – сказала мама, поджав губы.
Я повернулся к ней и увидел её глаза. Эти глаза я запомнил на всю жизнь: в них неожиданно появились слёзы.
Другой случай произошёл со мной, когда я немного подрос. Как и принято у ребят, мы часто соревновались между собой, иногда ссорились, иногда дрались. Как-то мы боролись с одним мальчишкой, он был выше и крупнее меня, но я всё равно его победил. Мы были в том возрасте, когда проигрывать было очень обидно, особенно если победитель меньше тебя. Ребята стали смеяться над ним, проигравший мальчишка чуть не заплакал и со злости сказал мне:
– А зато ты еврей!
После нашего поединка у меня был такой моральный подъём, ведь я вышел из него победителем. Но после этих слов я был как проткнутый мяч: из меня разом вышла вся сила. Я ощутил беспомощность, потому что не знал, как на это отвечать. «А зато ты еврей!» – из его уст это звучало как оскорбление, как выражение презрения. Это было очень неприятно: пощёчина, на которую невозможно ответить. Именно так я воспринял его слова.
Папа никогда не говорил о том, что он еврей, что его родители евреи и что наша семья еврейская. Мы никогда не разговаривали на эту тему. Я очень люблю своего папу, но я думаю, что в этом вопросе он был неправ: он не подготовил меня к жизни, в которой к евреям проявляют агрессию просто потому, что они евреи.
В Советском Союзе ксенофобия и антисемитизм существовали на полуофициальном уровне. Государственная политика в этом вопросе была двойственной. С одной стороны, проявления антисемитизма публично критиковалось, с другой стороны, существовало много примеров, когда евреи подвергались нападкам и травле, увольнялись с высоких должностей, их без причин осуждали и даже расстреливали. Например, в 1952 году было начато следствие по известному «Делу врачей». Докторов, лечивших партийных деятелей, необоснованно обвинили в заговоре и убийстве ряда высокопоставленных партийных работников, многие обвиняемые врачи были евреями. После смерти Сталина дело было пересмотрено, обвинения признали ложными, всех врачей реабилитировали. Но память об этом событии осталась.
Когда я получал свой первый паспорт, я также столкнулся с проявлением ксенофобии. В паспортном столе были дела на мою семью, они знали, что моя мама русская, а папа еврей. Когда я получал паспорт, меня спросили:
– Какую национальность записать в паспорте?
Я искренне ответил:
– Русский!
Сейчас я совершенно спокойно сказал бы: «Еврей». Когда я пришёл домой с паспортом, папа попросил посмотреть документ, чтобы узнать, какую национальность я указал. Когда он увидел напечатанное в моём паспорте слово «русский», он изменился в лице, но никак это не прокомментировал.
Папа не взял на себя функцию воспитания моего национального самосознания, маме, очевидно, не хватало образования, чтобы разобраться в этом вопросе самой и объяснить его мне. Поэтому собственным культурно-историческим образованием я занимался сам, моё мироощущение сформировалось под влиянием книг, которые я прочитал. Я ощущаю себя русским государственником.
В институте со мной в одной группе учился Игорь Давыдов. Мы почти сразу подружились и продолжаем дружить сейчас. Его семья была родом из Березников. Это маленький город на севере Пермской области, известный мощной промышленностью: Березниковским калийным комбинатом и Березниковским титано-магниевым комбинатом. Позже семья Игоря переехала в Кишинёв. Мы с Игорёшей, так я его называл, прошли институт, вместе ездили отдыхать. Потом жизнь нас развела: Игорь уехал в Молдавию, дослужился до звания главного энергетика молдавской академии наук, позднее вместе с семьёй перебрался в Германию. Я тогда спросил его:
– А как ты уехал в Германию? Ведь для этого нужны какие-то основания!
– Я переехал в Германию по еврейской визе.
Я с удивлением спросил:
– У тебя разве есть родственники евреи?
– Так ты же был у меня в семье! У меня мама – еврейка.
Это стало для меня открытием: Игорёша был евреем, а я всю жизнь этого не знал!
При этом Игорь был стопроцентным евреем, а я нет. Национальность у евреев передаётся по материнской линии, его мама была еврейкой, а папа русским, а у меня наоборот.
Потом, когда я общался с другим товарищем из группы, Сашей Митюшовым, я рассказал ему эту удивительную для меня историю о переезде Игоря. Саша ответил, что все ребята знали о его еврейских корнях. Более того, они были уверены, что мы дружим с Игорем именно потому, что мы оба евреи. Мы проучились с другом пять лет, и нас совершенно не беспокоил вопрос национальности. У нас с Игорёшей были общие интересы, и, наверное, по поведению мы оба немного отличались от остальных: по сравнению с русскими ребятами мы меньше выпивали. Мы присутствовали в компаниях, но если русские ребята могли сильно напиться, мы с Игорёшей все-таки знали меру. Кажется, только этим мы и отличались.
Учитывая, что мне приходилось самостоятельно разбираться в национальном вопросе, я решил, что со своим сыном мне стоит об этом говорить. У меня не было много времени на его воспитание, но я старался доносить до него информацию о наших корнях, рассказывал, что его дед еврей и мы имеем отношение к евреям. Но я мало его готовил, чтобы он не испытал шока. А вот своих внуков я уже очень серьёзно готовил к жизни: я отдал их в еврейский детский сад. В этом саду не было упора на еврейство, детей просто хорошо воспитывали по английской системе. Но в детский сад регулярно приходили актёры, художники, музыканты, которые были евреями, и они общались с детьми, рассказывали о своей жизни и творчестве. В детский сад запросто могли прийти Кобзон или Розенбаум и выступить с концертом. Известных евреев, которые приходили к ним, мои внуки помнят до сих пор. Иногда их вместе с другими воспитанниками детского сада водили в синагогу, но не для того, чтобы навязать выбор религии, а скорее в просветительских целях, дети были вольны самоопределяться. Например, один из моих внуков до недавнего времени считал, что он немец, потому что в садике им ничего не навязывали.
Во взрослой жизни я редко сталкивался с проявлениями ксенофобии, иногда они даже имели позитивный исход. Например, еврейская фамилия однажды помогла мне в важном деле. В 2000 году я избирался депутатом законодательного собрания Иркутской области. У меня в округе было около сорока четырёх тысяч избирателей, которые жили в городах Байкальск, Слюдянка и разбросанных вдоль Байкала многочисленных рабочих посёлках. Во время избирательной кампании я приехал в Усольский район, в крупный посёлок лесозаготовителей, который располагался на другой стороне Байкала. На дворе стояло жаркое лето, для встречи с кандидатами в депутаты на площади собрались около тысячи человек из разных посёлков. Нас было трое: кандидат Сайков – подполковник милиции; кандидат Виноградова – журналистка; и я – Штейнберг, председатель совета директоров Байкальского ЦБК. Ранее в этом избирательном округе депутатом был Игорь Гринберг, директор алюминиевого завода.
Народ толпился на площади, присесть им было некуда, а мы с трибуны вещали, что полезного сможем дать району и что обещаем сделать, когда станем депутатами. Я не думаю, что сказал какие-то умные слова, другие кандидаты тоже ничего особенного не сказали. До встречи с избирателями я опубликовал в местной газете статью о себе, о своём детстве. Люди, как оказалось, прочитали её. После выступлений кандидатов в депутаты народ на площади оживился, в центре большого скопления людей появился здоровый мужик, рубашка у него была расстёгнута до пупа, было видно, что он поддатый. Он начал говорить:
– Мужики, я статью в газете прочитал! Я так думаю, что после Гринберга нам только Штейнберга надо выбирать!
Я первый раз оказался в Усольском районе, но народ избрал меня единодушно. Когда зимой этот посёлок стал замерзать, глава посёлка обратился ко мне и попросил помощи. Я решил вопрос: чтобы город не замёрз, я просто отправил главе две цистерны мазута. Наверное, когда этот поддатый мужик говорил про Гринберга и меня, он понимал, что с заводского человека с фамилией Штейнберг можно получить больше, чем с милиционера и журналистки. Когда евреи рассказывают о себе и своей жизни, зачастую они вспоминают негативные случаи ксенофобии, а я вспоминаю именно этот случай.
Но из-за ксенофобии в моей жизни случались и неприятные события. Однажды на Байкальском комбинате была планёрка, меня куда-то избирали. После выборов мой приятель сказал, что услышал возглас одного из сотрудников: «Только евреев нам ещё не хватало!»
Другой случай произошёл во время поездки членов законодательного собрания Иркутской области за рубеж. Девяностые годы я называю периодом «разгула демократии». Тогда решался вопрос о перепрофилировании Байкальского комбината, десять депутатов поехали в Финляндию и Швецию, чтобы посмотреть идеи для перепрофилирования нашего завода. Я ездил вместе с ними как представитель комбината. Один из депутатов был достаточно крупным руководителем строительной компании из Ангарска. Другой депутат в делегации был евреем, он вёл себя дурно, его поведение всех раздражало. Но это не было связано с его национальностью, таких людей можно встретить в любом народе. На одну из выходок депутата руководитель строительной компании ответил:
– Ну что с него взять? Еврей же!
Я тогда очень резко ему ответил:
– Слушай, я тоже еврей! Многие годы я вообще не чувствовал к себе какого-то неравного отношения, но последнее время мне об этом стали часто напоминать!
Руководитель был старше меня, но, несмотря на это, он тут же сердечно извинился.
Откуда вообще возникает ксенофобия? Я думаю, что это зависть к успешности. Когда Уинстона Черчилля спросили, почему в Англии нет антисемитизма, он очень хорошо ответил:
– Потому что мы, англичане, не считаем евреев умнее себя!
В России в период первоначального накопления капитала многие заметили, что евреи быстрее других ориентируются в денежных вопросах: семибанкирщина, Березовский, Гусинский, Ходорковский, Фридман. В 1990-е годы это вызывало страшную зависть у большинства населения. На мой взгляд, в современном обществе стало меньше антисемитских проявлений, или я просто не реагирую на проявления зависти. Я думаю, что еврейский народ хорошо обращается с деньгами, потому что этому способствовали тысячелетия выживания. Но идею Черчилля я считаю очень правильной: не нужно завидовать, нужно работать.
Глава 5
Фантастический выбор
В средних и старших классах школы больше всего я любил читать исторические книги и фантастику, это, вероятно, и определило выбор моей будущей профессии. Изначально я хотел стать археологом. В десятом классе я пришёл на исторический факультет Пермского государственного университета, чтобы узнать условия приёма, но в приёмной комиссии меня обескуражили: археологической кафедры в университете не было. Лучшая перспектива, которая открывалась передо мной после исторического факультета, – это работа учителем истории. Наверное, если бы я пошёл на исторический факультет, из меня получился бы прекрасный преподаватель, но я не хотел быть педагогом.
Поскольку в археологию я не попадал, нужно было искать альтернативные варианты. В справочнике «Пермские ВУЗы» я нашёл факультет, название которого звучало фантастически: «Автоматика и техника – отраслевая кибернетика». Кибернетика была для меня чем-то невероятным, неизведанным и очень заманчивым. В философском словаре СССР кибернетика была названа «буржуазной лженаукой», что делало её в моих глазах ещё более привлекательной.
В школе я зачитывался книгами Клиффорда Саймака, Айзека Азимова, Роберта Шекли, братьев Стругацких, Ивана Ефремова, Гарри Гаррисона. Моим любимым польским писателем был Станислав Лем, который работал преподавателем философии в Краковском университете. Я читал и перечитывал книги его авторства: «Сумма технологий», «Рассказы о пилоте Пирксе», «Звёздные дневники Ийона Тихого», «Солярис», по которой Тарковский снял одноимённый фильм. Станислав Лем в своих книгах разбирал законы робототехники и писал о совершенно невозможных в то время вещах: мужчина оказывался на острове в полном одиночестве, ему нужно было связаться со своей девушкой, он нажимал на кнопочку наручных часов и говорил с ней. Фантастика, да и только! Сейчас эта фантастика стала нашей обыденной реальностью.
Поскольку Станислав Лем был великим мыслителем, он предвидел будущее. В книге «Сумма технологий» Лем размышлял о технологическом развитии человечества и уже тогда задумывался о взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Для меня это был увлекательный новый мир. Я понимал, что кибернетика близка к искусственному интеллекту, поэтому выбрал факультет кибернетики для продолжения обучения.
Помню, когда я сдавал вступительные экзамены в институт, абитуриенты самоорганизовывались для каких-то административных целей и вели списки поступающих. Когда подошла моя очередь, я назвал свою фамилию:
– Штейнберг!
Никто не удивился и не переспросил мою фамилию, написав её абсолютно правильно с первого раза. Для меня эта ситуация стала наглядной характеристикой институтской среды: рядом со мной находились грамотные и культурные люди. Я понял, что здесь мне будет комфортно учиться.
Мне всегда нравились элегантность, опрятность, утончённость, в общем, я любил и люблю красиво одеваться. Когда я поступал в университет, в первый день я пришёл в одном костюме, на следующий день – в другом, на третий день – в третьем. Саша Митюшов, мой будущий однокурсник, спросил:
– Сколько у тебя костюмов?
– Три.
– А у нас у крестьян ни одного нет!
Но родители не покупали мне эти костюмы. Я сам покупал их за свои деньги. У меня всегда был свой стиль, никто так не одевался из моих сверстников, как я.
Я поступил в институт в 1969 году. Тогда Генеральным секретарём ЦК КПСС был Леонид Ильич Брежнев, в то время уже началась эпоха застоя. Советский Союз становился крупным экспортёром энергоресурсов. В период правления Брежнева были открыты и освоены нефте- и газовые месторождения в Западной Сибири, построены газопроводы в Европу. С одной стороны, в стране продолжалась сильная космическая программа, которая давала народу вдохновение и ощущение силы и величия страны. С другой стороны, СССР сосредоточился на международном строительстве социализма, продолжая поддерживать утопические взгляды на социалистическое развитие мира. Мы увлеклись идеей противостояния капитализму и соревновались с апологетами капитализма – Англией и США. Мы тратили огромные финансовые и другие ресурсы для продвижения идей мирового социализма. Крушение колониализма в Африке во многом стало заслугой Советского Союза, мы способствовали разрушению колониального режима в Азии и во всём мире. Но во сколько нам это обошлось? Мы могли тратить деньги на собственное развитие, но не делали этого, поддержка угнетённых стран происходила за счёт выкачивания средств из экономики СССР. У нас серьёзно развивалась военная промышленность, но гражданские отрасли стагнировали. Уровень жизни советского населения не улучшался так быстро, как он рос, например, на Западе. У граждан СССР стали появляться стиральные машины, плиты, холодильники, у кого-то автомобили, но всё это не шло ни в какое сравнение с тем, как развивалось потребление в западных странах. В отличие от них уровень жизни советского человека рос очень медленно, так закладывался будущий крах социалистической системы.
Руководство страны в какой-то момент решило закупать товары за рубежом, потому что внутреннее производство товаров народного потребления не развивалось. Я помню, как в продаже стали появляться товары сначала из социалистических, а потом из капиталистических стран. В СССР можно было купить югославскую и румынскую мебель, финскую одежду, итальянскую и французскую обувь. Все импортные товары были в дефиците, но народ стал лучше одеваться. Чем больше такого товара появлялось в стране, тем больше негатива накапливалось в умах простых людей. Возникал логичный вопрос:
– Почему у нас самих такого нет?
В космической сфере мы ещё продолжали развиваться, в этом направлении у нас были большие победы. Совместный проект космического сотрудничества СССР и США «Союз – Аполлон» подпитывал народную гордость за страну: «Такое есть только у нас и у США, больше ни у кого такого нет!»
Страна становилась всё более закрытой, период «хрущёвской оттепели» быстро закончился. Сильные талантливые люди, которые не выдерживали душной атмосферы ограничений и запретов, либо уезжали из страны самостоятельно, либо их высылали. В тот период страну покинули поэт Иосиф Александрович Бродский, писатель Василий Павлович Аксёнов, художник Михаил Михайлович Шемякин. Из страны был выслан Александр Исаевич Солженицын. Если его первое произведение «Один день из жизни Ивана Денисовича» было опубликовано в СССР в журнале «Новый мир», то следующие произведения, например «Раковый корпус» и другие, официально не издавались в нашей стране. Они публиковались за рубежом, попадали в СССР «самиздатом» и перепечатывались вручную на печатных машинках. Мы читали эти книги с пятой-седьмой слепых копий[2]. После высылки Солженицына из страны в 1974 году в газетах была развёрнута кампания против писателя. Там часто были выступления подобного содержания:
– Такая-то доярка сказала, что он лживый пособник капитализма, тракторист из другого колхоза отметил, что он недостойный человек и ему нельзя было жить в Советском Союзе!
Меня возмущала эта ситуация, в голове звучала мысль: «Дайте мне прочитать его книги! Я взрослый человек и сам сделаю выводы!»
Я рассуждал об этом довольно громко, обсуждал с ребятами на потоке в институте, после чего меня однажды даже вызвали на разговор:
– Парень, ты себя неправильно ведёшь!
– Так дайте прочитать! Я прочитаю и сделаю выводы.
– Ты плохо кончишь!
Это не было серьёзной угрозой, но я сделал свои выводы о времени, в котором живу.
Учиться в институте было достаточно сложно. У нас было много математики, которую я не очень любил, но я старался и хорошо с ней справлялся. На нашем факультете мы проводили первые опыты, придумывали и тестировали необычные для того времени приборы. Однажды в институтской лаборатории мы собрали устройство, которое включало и выключало свет по хлопку. Сейчас это довольно примитивный механизм, который часто используют в современном быту, но тогда он приводил нас в восторг. Мы установили автоматический включатель-выключатель в учебной аудитории: хлоп – свет включался, хлоп – выключался! Даже преподавателю это очень нравилось. Было здорово наблюдать за взрослым, который радовался, будто ребёнок, он сохранил в себе эту способность удивляться и радоваться простым вещам, испытывать неподдельный восторг.
Ведь что такое детство? На мой взгляд, детство – это состояние, когда человек постоянно расширяет свои познания о мире, не перестаёт узнавать и удивляться. Когда это пропадает, можно сказать, что человек состарился, а старость может наступить и в двадцать, и в тридцать лет. Наш преподаватель оставался юным.