Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм
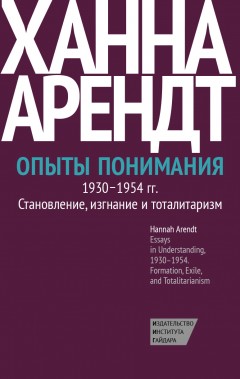
Essays in Understanding, 1930–1954. Formation, Exile, and Totalitarianism
© 1954, 1953, 1950, 1946, 1945, 1944 by The Literary Trust of Hannah Arendt Bluecher
© Издательство Института Гайдара, 2018
Арендт-лиса
Обычно, если кто-то вспоминает Исайю Берлина в контексте политической теории XX в., то в связи с его знаменитым эссе «Два понимания свободы», в котором высказана и без того хорошо знакомая идея о негативной и позитивной свободах[1]. Идею, ранее сформулированную Бенжаменом Констаном, Берлин выразил так ясно и в то же время безапелляционно, что закрепился в пантеоне самых важных авторов прошлого столетия навсегда[2]. Но хорошо известно, что Берлин был также и историком социально-политической мысли, в том числе русской. В одном из своих эссе, посвященных взглядам Толстого на историю, он предложил весьма привлекательную метафору – классифицировать всех выдающихся мыслителей в соответствии с двумя типами – ежа и лисы. Хотя саму идею двух конкурирующих животных он позаимствовал у древних греков, в частности поэта Архилоха, заставить аналогию «работать» придумал именно Берлин[3].
Если следовать логике высказывания Архилоха, с точки зрения Берлина, все философы, писатели или те, кто претендует ими быть, так или иначе, скорее либо еж, либо лиса. Еж знает один большой и самый главный секрет, в то время как лиса знает лишь много секретов помельче. Иными словами, кто-то занимается одной темой всю жизнь, другие – исследуют самые разные предметы. Если принимать во внимание все символические импликации этой метафоры (в том числе из русских сказок, где лиса безрезультатно пытается ежа съесть, будучи им одурачена), образ лисы выглядит менее привлекательным, нежели образ ежа, на что Берлин, разумеется, не указал. Добавим к этому также, что один из наиболее известных журналов, посвященных критическому осмыслению современной культуры, называется The Hedgehog Review, что по-русски будет звучать как «Ежиное обозрение». Как видно, ученым и интеллектуалам хотелось бы знать пусть и один, но большой секрет, чем довольствоваться малым: многопрофильного журнала «Лисье обозрение», посвященного всему на свете, до сих пор не создано.
Мне бы хотелось сказать слово в защиту лис. Как мы помним, одно из самых маленьких по объему и в то же время захватывающих эссе Ханны Арендт, вошедшее в книгу, которую вы держите в руках, называется «Хайдеггер-лис»[4]. Здесь не так важно, что хотела сказать про Хайдеггера Арендт, имеет значение лишь то, что она использовала именно образ лиса – лишенного хитрости, но так или иначе заманившего многих в свою ловушку, «самую красивую ловушку в мире». Как видно, даже самые бесхитростные лисы на поверку оказываются весьма коварными. Вопрос о том, кем бы оказался Хайдеггер в аналогии Берлина, оставим открытым. Однако вот какой вопрос нуждается в однозначном ответе: кто в таком случае сама Ханна Арендт?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно сказать кое-что еще. В яркой главе истории политической философии лис имеет гендерную ориентацию. Так, Макиавелли советует новому государю совмещать в себе качества двух зверей – льва и лисы. Одна из самых оригинальных интерпретаторов творчества Макиавелли Ханна Питкин, у которой есть книга и про Ханну Арендт[5], считает, что для философа лев имеет второстепенное значение, в отличие от лиса. Лис-мужчина появляется во французской сатире XII в. Этого лиса зовут Ренар, и он всегда способен обыграть грубого и свирепого волка Изенгрима. Ренар умен, ловок и циничен, он всегда может предугадать опасность и выйти из сложного положения. С точки зрения Питкин, лис-политик возникает в самое неспокойное для государства время: это такой деятель, который необходим для того, чтобы преодолеть политический кризис[6].
Теперь мы можем ответить на вопрос, поставленный выше. Разумеется, Арендт – самая настоящая лиса. Несмотря на то, что сама она позаботилась о том, чтобы упрочить гендерную спецификацию лиса в тексте о Хайдеггере, возможно, Арендт подпадает под то же самое определение. Во-первых, как и у Макиавелли, Арендт писала в самые сложные для человечества времена. И точно так же она могла увидеть многое наперед (о чем мы поговорим впоследствии). Во-вторых, Арендт в самом деле знала много секретов. Но это отнюдь на означает, что Арендт-лиса хуже мыслителей-ежей. И вот почему.
Очевидно, в плане паблисити – будь то гуманитарные науки или русские сказки – лисе везет меньше, чем ежу. Но что в реальности? В небольших рассказах Антони Грамши, написанных для его детей и изданных в СССР еще в середине 1950-х (и стереотипно переизданных недавно), есть история про ежа и история про лису. В одном рассказе Грамши делится с читателями воспоминанием, как он впервые в жизни увидел лису, которая ничего не боялась, но лишь лукаво ухмылялась. В другом рассказе Грамши повествует о том, как приручил ежей и оставил их жить у себя. Эта история имеет такой поучительный конец: «Жили они у меня недолго: наверно, их украла лиса, которая, как известно, охотится за ежами»[7].
Иными словами, как бы нам ни хотелось думать, что еж проворнее и хитрее лисы, в реальности дела обстоят иначе. Похоже, обладать многими секретами и удобнее, и выгоднее, чем носить в себе один большой. И потому, когда мы называем Ханну Арендт лисой, то делаем ей величайший комплимент.
Арендт знала очень много секретов. Она написала несколько крайне влиятельных книг – «Истоки тоталитаризма», «О революции», «Vita activa», «Банальность зла» (на самом деле «Эйхман в Иерусалиме»), «Жизнь ума», «О насилии», а также «Лекции по политической философии Канта». Другие ее важные работы «Скрытая традиция» и «Люди в темные времена» тоже про секреты. Наконец, ее сборники эссе «Между прошлым и будущим» и «Ответственность и суждение» сами по себе состоят из множества секретов[8]. Иными словами, Арендт, размышляя о политике, интересовалась совершенно разными феноменами.
Некоторым образом ей повезло, потому что она жила в одно из самых «темных времен». И хотя все комментаторы в один голос характеризуют это как подвиг, мы должны попытаться разглядеть и другую сторону медали – по крайней мере, у Арендт были темы, которым она могла посвящать себя, и были проблемы, которые нужно было описывать и объяснять. Упомянутый выше Исайя Берлин однажды произнес очень важную фразу: «Лично я большую часть XX века прожил, не испытав серьезных лишений. Все же я считаю его самым ужасным столетием в западной истории»[9]. Арендт бы никогда не сказала этого вслух, однако она имела возможность описывать все эти ужасы и оставаться при этом в относительной безопасности, с каждым годом упрочивая свою популярность в качестве первоклассного политического мыслителя.
Некий культ Арендт и всеобщая завороженность ее текстами сегодня нуждаются во взвешенной оценке. Если вы прочтете предисловие к сборнику «Опыты понимания», то увидите, с каким пиететом Джером Кон[10] отзывается о работах Арендт и какой трепет испытывает, рассуждая об этих эссе. Сегодня Арендт в России, учитывая количество ее переведенных книг, фактически оказывается в положении Мишеля Фуко, популярность которого у нас так и не сошла на нет. И потому публикация сборника, который вы держите в руках, предельно важна. Но, конечно, не потому, что это очередная книга Ханны Арендт.
С одной стороны, «Опыты понимания» – даже не книга самой Арендт, а том ее работ разных лет. От сборника сложно ожидать серьезной концептуальной проработки, которую мы можем обнаружить в «Истоках тоталитаризма» или в «О революции». Кроме того, это именно эссе, рецензии, реплики, лекции и интервью – все то, что, по идее, обыкновенно находится в тени основного корпуса текстов того или иного мыслителя. Самый очевидный аргумент в пользу значимости публикации «Опытов понимания» состоит в том, что эти тексты помогают нам лучше понять эволюцию взглядов Арендт и проследить кристаллизацию ее концепций. Что ж, это убедительный, но не достаточный аргумент для того, чтобы мы мгновенно бросились читать эту книгу. Почему в таком случае сборник важен?
Постоянные отсылки в комментариях Кона к «фундаментальным текстам» Арендт справедливо могут навести читателя на мысль: не является ли данная книга крайне вторичной по отношению к уже сказанному? В конце концов, если она отточила свои идеи для больших томов, зачем обращаться к ее черновикам и всему тому, что только готовилось стать стройной теорией или сформированной концепцией? При таком взгляде «Опыты понимания» будут полезны только тем авторам, которые специализируются на исследовании творчества Арендт и проводят серьезные археологические раскопки ее идей, пока не найдут все осколки, чтобы собрать паззл целиком?
И хотя исследователям книга окажется более чем полезной, она также может показаться любопытной широкому кругу читателей. В то время как «Истоки тоталитаризма» и другие фундаментальные тексты нужно еще освоить, собранные эссе и отрывки в этом томе имеют один нюанс – в большинстве своем они написаны не для специалистов, а для общественности. Разумеется, чтобы понять, как Арендт думает про тоталитаризм, нужно прочитать «Истоки тоталитаризма». Однако же эти небольшие эссе могут привлечь широкий круг читателей для того, чтобы познакомиться с мыслителем лучше. Но это то, что касается сегодняшнего дня и отечественной широкой аудитории.
Тем, кто хотя бы немного знаком с мыслью Арендт или занимается политической теорией XX в., будет любопытно узнать ту Арендт, которая выходила к городу и миру и вторгалась в американскую (и не только американскую) публичную жизнь. Причем предлагая не массивный том, который мог заставить склонить голову уже благодаря своему объему, но лишь как рядовой автор тех или иных журналов, лекционных площадок и т. д. В конце концов прежде, чем стать автором The New Yorker, Арендт была автором куда менее знаменитых изданий со специфической аудиторией. Иными словами, по текстам этой книги мы наблюдаем не только эволюцию ее мысли, но также и трудный путь превращения немецкой эмигрантки, поначалу не слишком хорошо владеющей английским языком, в одного из влиятельнейших политических теоретиков и публичных интеллектуалов XX в. Мы наблюдаем становление лисы.
А теперь обратимся к самому главному – к контексту. Потому что книга «Опыты понимания» нуждается в комментариях куда больше, чем какая-либо другая работа Арендт. И хотя Джером Кон в предисловии к этому тому подробно рассказывает, по каким источникам публикуются материалы, он не говорит о главном – о том, как Арендт превратилась в самую известную лису XX в. Сборник начинается с ее интервью, которое задает координаты для правильной рецепции остальных ее текстов, собранных под одной обложкой. После первого же вопроса Арендт заявляет, что не является философом, но считает себя политическим теоретиком. Как отмечает историк политической науки Джон Ганнелл, это отнюдь не пустые слова, это куда больше вопрос профессиональной идентичности и отношения с политикой[11].
Ханна Арендт была одним из тех многочисленных немецкоязычных авторов, которые вовремя покинули Германию в поисках лучшей жизни. И хотя большинство из них могли остаться в Европе, они сочли более правильным отправиться в Соединенные Штаты. Сама Арендт прежде, чем прибыть в Америку, провела несколько лет во Франции. Возникла следующая ситуация: немецкоязычные авторы с блестящей философской подготовкой, с Хайдеггером и Гуссерлем под мышкой приезжают в страну, в которой высокая европейская философия не является столь уж востребованной.
И тогда те, кто некогда числились философами, открывают для себя новый континент – политическую теорию. На тот момент в США, где эта дисциплина и родилась, она еще находилась в становлении, и потому именно в этой области немецкоязычные интеллектуалы могли сказать свое слово, использовав для анализа актуальной политики освоенную ими европейскую философию. Карл Дойч, Ганс Кельзен, Арнольд (не путать с Бертольдтом) Брехт, Франц Леопольд Нойман, Герберт Маркузе, Эрик Фегелин, Лео Штраус, Ханна Арендт – лишь немногие из очень длинного списка выдающихся авторов, ставших популярными за счет «американизации» своих идей.
Согласимся, конкуренция была серьезной. Но именно Арендт, прекрасно понимая, что лучше знать много секретов, чем один, в итоге стала одним из самых влиятельных политических теоретиков. Исследователь творчества Арендт Джорж Кэйтиб заметил, что самыми влиятельными немецкоязычными авторами в США по итогам оказались Штраус и Арендт, хотя счел должным добавить к этому списку и Герберта Маркузе[12]. У каждого из этих мыслителей была своя стратегия относительно того, как строить карьеру ученого в Соединенных Штатах. К этому нужно добавить, что влияние немецкоязычных интеллектуалов оказалось столь велико, что они в самом деле изменили представления о политической теории в США. Джон Ганнел в своей монографии подробно рассказывает, как эмигранты завоевывали себе место под солнцем[13]. В блербе к этой книге Теренс Болл, другой исследователь темы, идет дальше и даже называет этот феномен «германской тиранией в американской политической теории».
Самое примечательное заключалось в том, что прибывшие в США мыслители скорее конкурировали друг с другом, нежели продвигались единым клином, подразумевая жесткую тактику по завоеванию позиций в академической жизни Америки (единственное, что объединяло многих из них – резкое неприятие сциентистского подхода). Более того, они мало общались между собой, демонстративно не ссылались друг на друга и вообще почти не читали работы друг друга. Британский исследователь Бхику Парех замечает, что в период с 1950–1960-х практически все политические теоретики вместо того, чтобы дискутировать друг с другом, создавая единое диалогическое пространство политической теории, скорее являли собой одиноких «гуру»[14]. Можно сказать даже больше, Арендт и Штраус смогли создать вокруг своих имен культ. Это же касается и Маркузе, популярность которого в США, впрочем, стала возможной благодаря счастливому стечению обстоятельств и, весьма вероятно, не зависела непосредственно от него – грубо говоря, он был скорее «идеологом», чем ученым (он стал едва ли не первым философом в США, про которого журнал «Play Boy» опубликовал огромную статью – до этого такие авторы, как Айн Рэнд, говорили со страниц журнала лишь от собственного имени). Но факт в том, что на некоторое время Маркузе стал кумиром поколения[15].
В целом картина, нарисованная Парехом, вполне точная. Однако мы можем найти некоторые ниточки, которые связывали политических теоретиков XX в. Так, Эрик Фегелин был дружен с Лео Штраусом и написал рецензию на первую работу Штрауса, изданную в США. Штраус любезно ответил на доброжелательную критику Фегелина[16]. Более того, сам Штраус начал свой знаменитый текст «Релятивизм» с критики того самого эссе Исайи Берлина «Два понимания свободы»[17]. Но, конечно, это лишь единичные примеры. В основном все было так, как говорит Парех.
Стратегия Арендт отличалась от подхода ее коллег двумя следующими взаимосвязанными установками. Во-первых, она быстро поняла необходимость присутствия в американской публичной жизни, в то время как, например, Штраус высказался в прессе на актуальную тему едва ли не единожды. Когда консервативный журнал National Review опубликовал материал, в котором содержалась острая критика государства Израиль, Штраус написал открытое письмо редактору издания (как и для многих других эмигрантов «еврейский вопрос» оставался для него предельно важным). Арендт же публиковала рецензии на книги важных для нее авторов и щедро высказывалась по разным вопросам в публичной сфере (в этом томе вы найдете не один ее такой текст). Ее эссе публиковались в очень разных изданиях – начиная с католического журнала Commonweal и заканчивая The Nation. Иными словами, другие эмигранты, не будучи лисами, придавали своему публичному образу слишком мало значения.
Во-вторых, в то время как политические теоретики строили концепции, обращались к истории мысли, клеймили общество потребления, Арендт предлагала философский комментарий к актуальным проблемам, стараясь высказываться о самых больных темах – нацизм, коммунизм, атомная бомба, насилие и т. д. По хронологии публикаций «Опытов понимания» мы видим, как сдвигался фокус интересов Арендт – от Августина, Кьеркегора, Кафки до самых горячих вопросов.
Но этим ее стратегия лисы, обладавшей невероятной интуицией, не ограничивалась. Например, Франц Нойман, некоторое время связанный с Франкфуртской школой, слишком поторопился с публикацией своей книги «Бегемот», посвященной национал-социализму. Текст вышел в 1944 г., то есть еще до окончания Второй мировой войны, и поначалу, конечно, имел невероятный успех[18]. Однако по итогам оказалось, что у книги есть две проблемы. Первая – недостаточное количество материалов, чтобы сделать далеко идущие выводы и подробнее описать о всех ужасах нацизма. Вторая – очень слабая концептуализация. Используя символ чудовища из Ветхого Завета, Нойман намекал на то, что пишет «Левиафан» XX века, но при этом лишь механически связал нацистскую Германию и Бегемота в начале и в конце книге, оставив в середине огромное количество эмпирического материала. В отличие от него Ханна Арендт не спешила с выводами относительно национал-социализма, и по текстам в «Опытах понимания» мы видим, как кристаллизуется ее концепция. Арендт не только тщательно продумала то, что собирается рассказать, но и расширила предмет исследования, описав как тоталитарное государство и СССР – куда более актуальная тема для США после окончания Второй мировой войны.
В «Опытах понимания» есть очень важный текст, на который Джером Кон почти не обращает внимания. Это ответ Арендт на рецензию Эрика Фегелина об «Истоках тоталитаризма». Фегелин, видимо, был негордым автором и, кажется, хотел за счет критики Арендт подсветить собственную политическую теорию, потому что публично признавался, что прочитал труд своего прямого конкурента – как мы помним со слов Пареха, это экстраординарный случай. При этом самому Фегелину не повезло дважды.
Во-первых, он очень неудачно выбрал для себя явление, которое обвинит во всех ужасах XX в. Если быть более точным, то это была некоторая спекуляция – философ считал, что истоки тоталитаризма и вообще любого политического зла скрываются в средневековых ересях и прежде всего в работах Иоахима Флорского и его последователей, францисканских спиритуалов[19]. И хотя конструкция в самом деле изящная и вполне продуманная, ключевой проблемой Фегелина было то, что он являлся ежом. Средневековая ересь оказалась в ответе за все – за позитивизм, либерализм, коммунизм, нацизм и прочее. Все тексты Фегелина так или иначе вращаются вокруг этого одного большого секрета, даже ранние работы по «политическим религиям», в которых он лишь начинал оформлять свои открытия.
Во-вторых, Фегелин решил дать самое неудачное имя этой средневековой проблеме – «гностицизм». И хотя он был первым, кто заявил копирайт на термин, история рассудила по-другому. Фегелин концептуально оформил свои идеи в книге «Новая наука политики» в 1953 г.[20], но спустя пять лет, в 1958 г., вышла предельно важная для истории религии и социальной теории книга одного из «детей Хайдеггера» (наряду с Арендт и др.), как назвал группу последователей философа Ричард Уолин[21], Ганса Йонаса «Гностицизм»[22]. В то время как Фегелин наделил термин собственным содержанием, Йонас конструировал реально существующие религиозные движения, объединив их всех под единым брендом «гностицизм», тем самым в итоге одержав победу в борьбе за авторское право на понятие.
В ответе Фегелину Ханна Арендт, возможно, намеренно не использует это понятие, тем самым отказываясь легитимировать его в академическом пространстве политической теории, а также четко разграничивает свой подход и подход Фегелина. Для нее, лисы, тоталитаризм кристаллизовался из разных элементов, что она и пыталась проследить в истории, в то время как для Фегелина, ежа, тоталитаризм был лишь следствием разрушительных, как выяснилось, идей иоахимитов. В самом начале Арендт откровенно признается, что не пишет ответы на рецензии своей книги и вообще сожалеет о том, что решилась отреагировать на реплику Фегелина. Если называть вещи своими именами, Арендт не просто не хотела вступать в полемику, но не собиралась рекламировать конкурента за свой счет.
Это подтверждает даже тот простой факт, что спустя время, когда был опубликован текст «О революции», Арендт отпустила в адрес Фегелина колкость, но, разумеется, не сочла необходимым упомянуть его имя: «…Лютер, разорвав узы традиции и авторитета и попытавшись найти точку для создания авторитета не в традиции, а в божественном слове, внес свою лепту в процесс снижения авторитета религии. Само по себе, без формирования обновленной церкви в Новое время это имело бы столь же незначительные последствия, как и эсхатологические настроения и размышления, свойственные поздним Средним векам от Иоахима Флорского до Reformatio Sigismundi. Этот памфлет (и это не так давно прозвучало) мог бы считаться достаточно невинной предтечей современных идеологий. В чем я, однако, сомневаюсь, – с таким же основанием в средневековых эсхатологических движениях можно увидеть прообраз современной массовой истерии»[23].
В 1963 г. Данте Джермино в статье «Возрождение политической теории» назвал Фегелина самым оригинальным и глубоким автором и заключил, что мыслитель «на сегодняшний день является наиболее несправедливо игнорируемым политическим философом. Хотя было бы преждевременно оценивать его место в истории политической мысли, вполне возможно, что со временем Фегелин будет оценен как величайший политический теоретик нашего столетия и один из величайших во все времена»[24]. Джермино упоминает и Ханну Арендт, но лишь через запятую, перечисляя иных авторов, которые могут отвечать за возрождение политической теории в XX в.[25] Как в итоге все сложилось, нам известно. Хотя в США в 1990-е группа поклонников Фегелина (настоящий культ) вплотную занялась его творчеством, издав полное собрание его сочинений, например, в России не переведено ни одной книги автора[26], в то время как Ханна Арендт у нас известна уже давно.
Здесь не место вдаваться во все подробности истории связей немецкоязычных эмигрантов в США. И эта история еще ждет своего исследователя. Нам было важно предложить иллюстрацию карьерного становления Ханны Арендт, которое происходило в период написания текстов, попавших в «Опыты понимания». Таким образом, когда в своем знаменитом интервью Ханна Арендт заметила собеседнику, что она политический теоретик, то вкладывала в эти слова куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Ее формирование как ученого и мыслителя в американской академии было сложным, но захватывающим. И если бы, в отличие от своих коллег-ежей, она не была выдающейся лисой, сегодня ее имя вряд ли красовалось на обложках сотен книг, посвященных лично ей или темам, над которыми она работала.
В самом деле, лиса Ханна Арендт смастерила куда больше красивых и заманчивых ловушек, нежели лис-Хайдеггер. Многие из этих ловушек аккуратно расставлены для вас в этой книге.
Александр Павлов, доцент Школы философии НИУ ВШЭ, заведующий сектором социальной философии Института философии РАН
Предисловие
Джером Кон
Для меня важно понимание. Письмо для меня – поиск этого понимания, часть процесса понимания.
«Что остается? Остается язык»
«Не дай вам бог жить в интересные времена». Так гласит древняя китайская поговорка, которую Ханна Арендт в последние восемь лет своей слишком короткой жизни иногда цитировала в разгар обсуждений последних бедствий в стране или международного кризиса. Она делала это с саркастической улыбкой или задумчиво, словно ироничный смысл высказывания был кристально ясным, не нуждающимся в каком-либо объяснении и не получающим его. При этом не только в самой поговорке, но и в том, чтобы услышать это от нее, было нечто парадоксальное, ибо интерес Арендт к делам человечества был бескомпромиссно серьезным. Она стремилась понять события «этого ужасного столетия» с такой страстью, которая многие годы вдохновляла ученых, художников, писателей, интеллектуалов, общественных деятелей и других читателей ее работ на борьбу, без сентиментальности и уклончивости, со страданиями в этом «не слишком прекрасном мире», даже в «самые темные времена». Процитированные слова принадлежат ей, и из-за них китайская поговорка сегодня кажется странно напоминающей и даже символизирующей эту очень вдумчивую и полную сокровенных мыслей женщину.
Ханна Арендт (1906–1975) большей части мира известна как политический философ, хотя она в большинстве случаев отвергала такое описание, а также притязания и основания политической философии. Трудно сказать, кем она была. Хотя одни комментаторы подчеркивали социологические и исторические аспекты ее исследований, а другие – их литературные и даже поэтические достоинства, еще больше написано о ней как политическом ученом, и с этим описанием она соглашалась на протяжении многих лет. Позднее, когда к ней пришла слава и ее попросили описать, что она делает, она удобным образом называла это политической «теорией» или «мыслью». Ее восхваляли, вполне оправданно, и как либерала, желающего перемен, и как консерватора, стремящегося к стабильности, и критиковали за нереалистичную тоску по прошлому или за то, что она революционер-утопист. Эти различные характеристики (и можно было бы привести намного более утонченные) отражают многообразные интересы тех, кто их давал, но они также показывают подлинную растерянность, которую испытывает любой беспристрастный читатель, пытающийся сформировать суждение об Арендт в русле традиционных академических дисциплин или традиционных политических категорий. Может привести в замешательство осознание того, что саму Арендт политическая сфера не привлекала ни изначально, ни, возможно, вообще никогда. Даже ее необыкновенное понимание политического действия было, по ее словам, следствием того, что она «смотрела на него со стороны».
Однако нет никаких сомнений в том, что от начала и до конца ее непреодолимо влекло к деятельности понимания, бесконечной и цикличной умственной деятельности, принципиальная значимость которой для Арендт заключалась в ней самой, а не в ее результатах. Конечно, у нее было множество идей и мнений; она провела новые разграничения, ввела новые понятия и изменила старые категории традиционной политической мысли. Это результаты, и они оказались полезными для других. Но, в отличие от большинства политических мыслителей, главной заботой Арендт не было решение проблем; ее неустанные поиски понимания были для нее не более «инструментальными», чем сама жизнь. Еще труднее осознать, что деятельность понимания давала ей некоторую меру примирения с миром, в котором она жила. Если другие начинали понимать, в ее смысле понимания, то она радовалась и чувствовала себя «как дома». Это не означает, что она хотела передать свои собственные мысли кому-либо другому или верила в то, что это возможно. Это было бы полнейшей бессмыслицей для Арендт, для которой мышление-понимание, наделение события смыслом было занятием с самим собой, одиноким и глубоко личным. Она вела образцовую жизнь, жизнь, о которой рассказывали вновь и вновь, но в конечном счете тот свет, который был пролит на мир ее пониманием мира, есть единственный способ понять, кем была Ханна Арендт.
Рожденная в начале века в хорошо обеспеченной, нерелигиозной семье немецких евреев, она была поразительно умна, очень образованна и выступала наследницей древней и богатой культуры, будучи, возможно, ее последним воплощением. В 1920-е гг. два события, фундаментально противоположные по своей природе, сыграли решающую роль в развитии ее мышления и характера. Первым были ее первоначальные контакты в студенческие годы с двумя великими мыслителями в авангарде философии экзистенциализма Мартином Хайдеггером и Карлом Ясперсом, которые потом развились в пожизненную привязанность. Вторым событием было усиление национал-социалистического движения в Германии.
Для Арендт революцией в философии было обращение внутрь, не в интроспективном, психологическом смысле, а вследствие того, что ее мышление освободилось от систематических рационализаций природного и исторического миров, унаследованных от предыдущего столетия. Она испытала то, что называла «философским шоком»: чистое удивление существованием, резко отличающееся от всего лишь любопытства. Из этого шока выросло напряженное самоосмысление, или мышление с собой, которое стало для нее с тех пор отличительной чертой всякого подлинного философствования. Так, вдобавок к содержанию мысли Хайдеггера и Ясперса, юной Арендт открылся внутренний духовный мир, невидимый и нематериальный, в котором она могла в буквальном смысле обитать в одиночестве.
Противоположное движение имело место во внешнем, явном мире, и его радикальными интенциями было не изменение, а разрушение структур и институтов гражданской ассоциации, развивавшихся веками. Она называла рост этого политически революционного движения «шоком реальности».
Нельзя сказать, что Арендт переживала уход сознания от мира в самосозерцание и приход национал-социализма по отдельности. Она была молодой и далеко не единственной из «профессиональных» интеллектуалов, кто смог покинуть Германию и в более свободной стране по-прежнему продолжать работать в своих областях. Но она была шокирована той легкостью, с которой некоторые представители интеллектуального сообщества предпочли плыть по течению, а не против него, или вообще не пытаться выбраться из него. Некоторое недоверие по отношению к склонности интеллектуалов отдаваться политическим течениям, куда бы они ни стремились, останется с нею на всю жизнь.
Арендт однажды заметила, что она не была «прирожденным писателем», имея под этим в виду то, что она не была одной из «тех, кто с самого начала своей жизни, с ранней юности, знали, что они хотели именно этого – быть писателем или стать художником». По ее словам, она стала писателем случайно, из-за «чрезвычайных событий этого века»[27]. Она имела в виду, что это не было вопросом выбора: она не могла не попытаться понять и осудить тоталитаризм. Иными словами, именно на ее сознание, сформированное уходом от мира, в конце 1920-х и начале 1930-х гг. охваченный бурями мир оказал неизбежное воздействие.
Это был мир, в котором, как она позднее скажет, даже до прихода Гитлера к власти она «осознавала обреченность германского еврейства», конец того «уникального явления», чья история и культура была ее собственной. Тем самым она осознала нечто отличное от тех форм антисемитизма, которые веками причиняли страдания еврейскому народу и с которыми он каким-то образом справлялся. (Позднее Арендт осознает, что не только чудовищные масштабы уничтожения европейского еврейства отличали нацистский тоталитаризм от старых форм преследований, но и то, что антисемитизм был всего лишь одним из аспектов расистской идеологии).
Оригинальность ее политической мысли определяется тем, что феноменально открывшееся ей как новое и беспрецедентное на самом деле происходило сейчас, в обычном мире, который ранее имел мало значения для ее рефлексивной жизни. Поэтому политическое стало для нее реальным не только как арена «политического процесса», в котором политики продолжают заниматься делами управления, применения власти, определения целей и формулирования и реализации средств для их достижения, но еще и как сфера, в которой так или иначе может возникнуть нечто новое и в которую ввергнуты условия человеческой свободы и несвободы. Так или иначе, политическая реальность с тех пор будет ориентиром для всех ее попыток понять – и не в последней степени тогда, когда, в конце своей жизни, она обратилась к рефлексивной ментальной деятельности мышления, воления и суждения как к источнику этого понимания.
Арендт однажды написала, что «эссе как литературный жанр имеет естественное родство с… упражнениями в политической мысли в том виде, в каком она вытекает из актуальных политических событий». Она продолжила в предисловии к «Между прошлым и будущим», что единство опубликованных там эссе «это не единство целого, а единство последовательности частей, написанных, как и в музыкальных сюитах, в одной и той же тональности либо в соотносящихся друг с другом»[28]. Эти слова также частично характеризуют и другие книги Арендт; «Истоки тоталитаризма», «Люди в темные времена», «Кризис республики» и, в меньшей степени, Vita activa, «О революции» и «Жизнь ума» являются работами, составленными-сплетенными из эссе и лекций, в более ранних версиях напечатанных в журналах или прочитанных публично. За одним исключением содержание этого тома составлено из ее неопубликованных и неотобранных специально для публикации в одной книге текстов, написанных с 1930 по 1954 г. Это не книга, которую она когда-либо планировала опубликовать. Ей принадлежат слова, но не структура. Она организована по большей части хронологически, и главная цель в том, чтобы показать развитие ее мысли с двадцать четвертого по сорок восьмой год ее жизни.
Всемирный авторитет Арендт сегодня таков, что практически все, что написано ею, интересно широкой общественности и исследователям. Более двух десятилетий она находится в центре внимания ученых, и критические комментарии к ее работам поражают радикальными разногласиями – не только относительно точности ее разграничений и суждений (чего и следовало ожидать), но и о том, что она имела под ними в виду и как они сходятся вместе. Несмотря на разнообразие и несовместимость написанного исследователями, интерес к ее работам продолжает расти. То, что Арендт трудно интерпретировать, в основном связано с ее оригинальностью как мыслителя и в меньшей степени с тем, что она была взращена на классических и европейских источниках, часто незнакомых современным читателям. Тем не менее страстность, независимость, поэтичность ее работ и в особенности признание ею того, что политические события нашего времени не имеют исторических прецедентов, гарантировали ей место среди наиболее плодовитых и притягательных мыслителей XX в.
Английский политический теоретик Маргарет Канован написала глубокую и проницательную, избегающую полемики книгу «Ханна Арендт: новая интерпретация ее политической мысли». Она формулирует свою цель с обманчивой простотой: «открыть и объяснить, чему посвящена политическая мысль Арендт». Особый интерес представляет ее тезис о том, что, когда полное понимание того, что Арендт имела в виду под «элементами тоталитаризма» – все множество обозначаемых так явлений – рассматривается в качестве ее основы, политическая мысль Арендт оказывается в центре внимания как целое. Она имела в виду не то, что с разграничениями и суждениями Арендт необходимо соглашаться, а то, что они обретают целостность, когда рассматриваются в связи с ее фундаментальными исследованиями условий возникновения тоталитаризма как формы власти. Эти условия, однако, не были причиной тоталитарных режимов и не исчезли с их падением, и, в двух словах (как это формулировала сама Арендт), в этом заключается кризис нашего времени. Это наш кризис, состоящий из наших затруднений, и это делает мысль Арендт столь же актуальной сегодня, как и когда-либо в прошлом.
По удачному выражению Канован, основные работы Арендт «поднимаются, подобно островам, из частично затопленного континента мысли, отчасти содержащейся в малоизвестных статьях, отчасти только в неопубликованных произведениях», и нигде это не имело наибольших последствий, чем в «Истоках тоталитаризма». Этот странный шедевр – исторический, политический, философский и полный литературных аллюзий; его трехчастная структура и даже смысл его заголовка часто являются предметом дискуссий; его явный дисбаланс в трактовке нацизма и большевизма породил значительные споры. Канован утверждает, что, когда «затопленный» контекст тоталитаризма выводится на свет, основания для непонимания книги устраняются и в новом ракурсе открывается дальнейшее развитие мысли Арендт. Возможно, наиважнейшая из нескольких «траекторий», прослеживаемых в настоящем томе, простирается с середины 1940-х гг., когда обширный проект «Истоков тоталитаризма» формировался в сознании Арендт, вплоть до тех лет, что последовали за его публикацией в 1951 г. Это были годы интенсивных размышлений над книгой, отчасти ее разъяснения, отчасти исправления ее дисбаланса по мере того, как становилось доступным больше информации о Сталине и Советском Союзе, и отчасти углубления и закрепления ее теоретических оснований.
Хронологический порядок этих дополнительных работ должен побудить читателей создать в своем воображении иллюстративную личность, путешественника, проходящего через важнейшие события XX в., что позволит им обрести видение этих событий, а также ощущение их развертывания. Острота взора Арендт и честность суждений – даже то, что может показаться их скоропалительностью – порождают понимание неотложности политики. Она читала курс под названием «Политический опыт XX века» – с акцентом на слове опыт, – воздействие которого должно было остановить волну политической апатии, наступающей вслед за разочарованием в политических идеалах и убеждениях.
Этот том с самого начала замышлялся как избранное, а не полное издание разрозненных и неопубликованных работ Арендт за охватываемый им период. В него не включены лекционные материалы, в которых повторяются или содержатся менее точные или хлесткие формулировки схожих идей, высказанных в других местах. В нескольких случаях герои эссе – Адам Мюллер, Адальберт Штифтер, Роберт Гилберт – показались слишком малоизвестными в Америке, чтобы включить их в этот сборник. Эссе о «Смерти Вергилия» Германа Броха, шедевр, крайне важный для Арендт, было включено, но рецензия на его «Сомнамбул» – нет. Два эссе о Бертольде Брехте не вошли в книгу, поскольку они представляются предварительными исследованиями для написанного в 1966 г. великолепного эссе Арендт «Бертольд Брехт, 1898–1956», включенного в ее книгу «Люди в темные времена». Трудным решением было не публиковать большое эссе о «Дуинских элегиях» Рильке, написанное в 1930 г. в сотрудничестве с Гюнтером Штерном (Андерсом), первым мужем Арендт. Несмотря на его историческое значение (в то время, всего четыре года спустя после его смерти, Рильке был едва известен в Германии), содержащийся в эссе детальный анализ просодии и стиля «Элегий» был бы недоступен негерманским читателям; более того, неясно, какую часть текста действительно написала Арендт. Но содержащийся в эссе акцент на внутренний мир и отчуждение влюбленного от преходящего мира и предлагаемое в нем прочтение стихотворений как «сознательного отречения от того, чтобы быть услышанным», трансформирующее «элегию» в сущностный «голос потерянности, а не скорбь по тому, что потеряно», – все это соответствует духу других эссе Арендт того же времени, в особенности посвященного Кьеркегору. Действительно, «отчаяние» «Элегий» рассматривается как «последний остаток религии».
Важнейшей из неопубликованных работ периода, охватываемого этим томом, и не включенной в него является серия лекций 1953 г. под названием «Карл Маркс и традиция западной политической мысли». Эти лекции положили начало исследованиям в той области, которой Арендт занималась в последующий период, невероятно продуктивный в ее интеллектуальной жизни. Некоторые из более поздних эссе в этом томе уже показывают фундаментальную перемену в ее отношении к большевистской версии тоталитаризма, растущее осознание того, что она была реализована полнее, чем та, что имела место в гитлеровской Германии, хотя ее истоки казались «благородными» в сравнении с нацизмом. Поскольку Советский Союз возник из марксистского революционного движения, и поскольку мысль Маркса претендовала на то, чтобы исправить всю западную политическую философию, реализовав справедливость и свободу здесь-и-сейчас, перед ней открылся масштабный проект. Чем именно была та традиция политической мысли, которая началась с Платона и Аристотеля в Древней Греции и достигла кульминации в Марксе? Какое отношение имела она к форме правления, настолько ужасной, что ее нельзя даже уподобить тирании? Если эта традиция потерпела банкротство, какое значение имеет это для оснований политики, человеческой свободы и спонтанного действия? Что это говорит о философии как таковой, об отношении, если таковое имеет место, уединенности к множественности и, следовательно, о политической мысли вообще? Эти вопросы были в числе главных для Арендт с середины 1950-х гг. до начала 1960-х; этот период охватывает том, озаглавленный «Обещание политики»[29].
Многие обращения к теме евреев как жертв тоталитаризма неизбежно фигурируют при рассмотрении тоталитаризма в данном томе, но отдельный сборник неопубликованных и разрозненных эссе содержит работы Арендт по таким темам, как еврейский вопрос в соотношении с германским Просвещением, современная еврейская история и культура, антисемитизм, сионизм, евреи во время Второй мировой войны, еврейская политика и формирование государства Израиль и еврейско-арабские отношения[30].
При редактировании этих текстов применялись некоторые общие принципы. По разрозненным эссе видно, что некоторые журналы редактировали первоначально очень неуклюжий английский язык Арендт более тщательно, чем другие (по прибытии в Нью-Йорк ее знание языка состояло из «одного сонета Шекспира», но годом позже она публиковала статьи, написанные на английском). Были предприняты усилия по достижению ясности и некоторой однородности стиля. Неопубликованные работы – совсем другое дело. В открывающем книгу интервью Арендт говорит о том, что она часто писала так быстро, как только могла печатать, и рукописи являются тому свидетельством. Они были по большей части подготовлены для лекций, с множеством повторений и эллипсисов, скорее немецких, чем английских грамматических конструкций, включая предложения длиной в страницу, и трудные, а порой не поддающиеся расшифровке рукописные поправки и добавления по меньшей мере на пяти языках. Более того, рукописи часто находятся в плохом состоянии. Поскольку Арендт использовала метод компоновки работ при помощи вырезания частей текста и соединения их скотчем, а скотч давно отклеился, для пометок, сделанных на первых страницах, приходилось находить соответствия с пометками на далеко отстоящих от них частях рукописи или даже в других рукописях. Там, где редактирование было необходимо, главной заботой было сохранить в неприкосновенности «голос» Арендт, а также суть того, о чем она говорила.
Редакционные комментарии и текстовые примечания добавлялись только тогда, когда представлялось необходимым пояснение ссылок или неясных, но интересных моментов. Арендт думала, что политика – слишком серьезное дело, чтобы оставлять ее либо экспертам, либо ученым. Она писала быстро и уверенно (хотя не всегда в соответствии с английской грамматикой) для широкой публики, не специалистов, и поэтому было бы ни в ее духе, ни в интересах читателей делать чересчур академичные дополнения.
Несколько эссе в этом томе существуют и в немецкой, и в английской версиях. К примеру, имеется немецкий текст эссе о Кафке, в некоторых отношениях более законченный и изящный, чем английский. «Когда я приехала в эту страну, я написала на своем очень нескладном английском статью о Кафке… когда я стала говорить с ними об англицизировании [слово Арендт, обозначающее исправление ее английского] я прочитала эту статью и там, среди прочего, появилось слово „прогресс“! Я сказала: „Что вы имеете в виду под этим“»?[31] Так что мы знаем, что Арендт, которая использовала понятие «прогресс» иронически, написала английскую версию – она была первой из многих статей, опубликованных ею в журнале Partisan Review, – и, таким образом, придерживаясь принципа сохранения ее «голоса», она была отредактирована с учетом немецкой версии, но не представляла собой ее перевода. «Организованная вина и всеобщая ответственность» и «Экс-коммунисты» также существуют в немецких версиях, и с ними поступили таким же образом. Следует отметить, что Арендт никогда не переводила свои работы, но иногда – хотя она не очень любила это делать – перерабатывала на английском то, что существовало на немецком, и наоборот.
Та версия глубоко вдумчивого эссе «Что такое экзистенциальная философия?», что была опубликована в Partisan Review, является неполной версией ее исходной немецкой рукописи. Некоторые части ее кажутся не столько переработанными, сколько плохо переведенными. Неизвестно, кто был ответственным за английскую версию[32], но кажется маловероятным, что это была Арендт, хотя она вполне могла в этом участвовать. Поскольку это строго доказательное и сложное философское эссе, одно из критически важных для развития Арендт как мыслителя – эссе, которое она постеснялась показать Ясперсу, а стеснительность для нее была не слишком характерна – было решено для этого тома сделать новый перевод с немецкого. Тем самым описанный выше процесс был обращен вспять, с более ранним текстом в Partisan Review сверялись, в поисках намеков на «голос» Арендт во время подготовки итоговой версии. Это эссе среди прочего служит ранним свидетельством фундаментального влияния на Арендт мысли Иммануила Канта.
«Международные отношения в прессе на иностранных языках» представило иную проблему. Заголовок принадлежит рукописи, часть которой была извлечена, разделена на куски, дополнена и опубликована как «Наши иноязычные группы». Сделанные дополнения относились к американским евреям, чье положение, как говорит Арендт, «отлично от всех остальных». Выброшены были отсылки к «политически» спорным фигурам того времени (в Америке в годы войны). Представленное здесь целое соткано из его частей. Фокус внимания этих эссе в некоторых отношениях необычен для Арендт, но он явно демонстрирует ее растущий интерес к социально-политической плюралистической структуре страны, ставшей для нее новым домом – интерес, который находит подтверждение и в ряде других эссе этого сборника, – а также ее уважение к журналистике как призванию и по меньшей мере к избранным репортерам, которые, наряду с избранными историками и поэтами, были для нее единственными надежными стражами фактической истины.
В Библиотеке Конгресса две рукописи скреплены вместе: одна называется «О природе тоталитаризма: опыт понимания»; другая, без заглавия, но с отдельно пронумерованными страницами, продолжает первую, но примерно на третьей четверти пути отклоняется на связанный с прежним, но тем не менее новый курс. В конце концов она обрывается на середине предложения, не приходя ни к какому выводу (довольно редкое явление в текстах Арендт). Почти каждое предложение и абзац «Понимания и политики», показывающего первое столкновение Арендт с понятием суждения, включено в первую из этих рукописей, но не в том же порядке. Очевидно, что рукописи были лекционными материалами, и кажется ясным, что Арендт не делала извлечений, но сверялась с первой рукописью, когда писала «Понимание и политику», которая была опубликована в Partisan Review. Еще более запутывает дело то, что в Библиотеке Конгресса имеется еще одна рукопись, а именно оригинал «Понимания и политики», озаглавленный «Трудности понимания». Можно сделать обоснованное предположение, что журнал предпочел изменить название, которое было здесь восстановлено, поскольку понимание, к которому она стремилась, трудно. Два раздела «Трудностей понимания», которые отсутствовали в «Понимании и политике», вероятно, в силу того что один посчитали слишком спорным, а другой – слишком туманным, также были восстановлены. С этими добавлениями «Понимание и политика» здесь представлена в той форме, в которой была опубликована. Те разделы рукописи, в которую она первоначально входила и которые на самом деле дополняют эссе, были извлечены из основного текста и находятся теперь в примечаниях.
«О природе тоталитаризма» подхватывает то, на чем заканчивается «Понимание и политика», и переходит во вторую из скрепленных вместе рукописей, последние, незавершенные страницы, где рассуждения меняют направление, здесь не приводятся. Несколько абзацев из более ранней рукописи в Библиотеке Конгресса, «Идеология и пропаганда» (большая часть которой повторяет ранее опубликованные работы или использована в них), включены в текст «О природе тоталитаризма»; в них развиваются мысли Арендт по проблеме идеологии.
Ближе к концу текста «О природе тоталитаризма» вводится различие между одиночеством и уединением. Это, в очень образной форме, является темой эссе «Хайдеггер-лис», которое следует далее. В одном предложении из неиспользованной – и, в иных отношениях, отдельно стоящей части второй из скрепленных вместе рукописей – трудно не услышать иронический отзвук собственных размышлений Хайдеггера (которые Арендт очень ценила) об «отдаленной близости» философии и поэзии: «философ и тиран столь же далеки друг от друга, сколь и близки друг другу как уединение и одиночество». Читатель сладостно-горькой притчи «Хайдеггер-лис» должен помнить о том, что Арендт была одним из наиболее верных пленников «ловушки» лиса – верной Хайдеггеру и себе.
Имеется важное нарушение хронологического порядка в представленных здесь работах Арендт. Первый материал, «Что остается? Остается язык», датируется 1964 г., существенно выходя за хронологические рамки этого сборника. Причина начать его так в том, что Арендт редко говорила лично о себе, и почти никогда в целях публикации. Здесь же она говорит о своей жизни и в особенности о своей молодости, о своем политическом пробуждении и об открытии зла тоталитаризма, и все это важно для понимания следующих далее произведений. Она также колко высказывается о немецком языке и Карле Ясперсе, который всегда был ее другом и учителем, независимо от того, сходились ли они во мнениях по какому-либо конкретному вопросу.
Следующие шесть эссе написаны с 1930 г., когда Арендт было двадцать четыре, до 1933 г., года, когда она покинула родину. Первые три из них характеризуются погруженностью в свой внутренний мир и духовностью, акцентом на субъективной жизни, что некоторые читатели могут найти удивительным для Арендт, в то время как три последующих свидетельствуют о развивающемся осознании социальных и политических явлений. Два эссе из первой группы посвящены христианским мыслителям, Августину (бывшему темой ее докторской диссертации) и Кьеркегору, – очень важным фигурам для Арендт. В них обсуждаются не вопросы теологии – Августин не рассматривается как отец римско-католической церкви, а работа, посвященная 1500-летней годовщине его смерти, адресована протестантам, а не католикам, – но те два совершенно различных способа осмысления и переживания своего глубинного, внутреннего отношения к Богу, которые были у этих людей, столь далеко отстоящих друг от друга по времени и обстоятельствам жизни. Августин был «образцовым» в своем личном исповедании веры, а Кьеркегор «исключительным» в своем переживании того, что Арендт называет «парадоксом» христианского существования.
Между этими двумя работами длинный вдумчивый обзор «Идеологии и утопии» Карла Мангейма затрагивает несколько иное отношение, а именно сознания или духа (Geist) к миру и времени – фундаментально важная тема для Арендт, по которой она многократно высказывалась до конца своей жизни. В эссе со всей серьезностью рассматривается мангеймовское понятие «экзистенциальной ограниченности» всей мысли, включая философскую или созерцательную, в попытке обнаружить ее источник в «бездомности» современного человека. Такая бездомность рассматривается Арендт как условие социально-экономической «реальности» и в противопоставлении собственной «уединенности» созерцательной мысли, которая является «подлинной возможностью человеческой жизни». Хайдеггер и Ясперс появляются здесь (как и часто в этом томе) в качестве наиболее выдающихся представителей современной философии и, в частности, ясперсовское понятие трансцендентности в человеческом существовании (а не идеологического или утопического бегства от реальности) наглядно предстает в примере со святым Франциском Ассизским. Это эссе также содержит первую ясную формулировку причин того, что Арендт всегда отвергала психоанализ в качестве теории и практики.
Следующие два эссе этого периода являются результатом работы Арендт над биографией Рахель Фарнхаген. Они опубликованы здесь для того, чтобы привлечь внимание к этому уникальному исследованию жизни поразительной женщины, которым незаслуженно пренебрегают как многие исследователи Арендт, так и читатели. (Исключением здесь является книга Дагмар Барноу «Видимые пространства: Ханна Арендт и опыт немецких евреев»; в главе «Общество, выскочка и пария: история жизни немецкой еврейки» дается очень эрудированное и проницательное истолкование написанной Арендт биографии Рахель). Взятые вместе, они показывают первое и практически осязаемое столкновение Арендт с тем, что впоследствии станет для нее важнейшим различием между публичной и частной сферами опыта, различием, которое будет характеризовать и наполнять, если не определять, ее политическую мысль в зрелости; а также с тем, что для нее стало пагубным соединением публичных и частных по своей сути вещей в сфере социального.
Эссе, опубликованное к столетию со дня смерти писателя и государственного деятеля Фридриха фон Генца выдвигает на первый план этого самого земного из людей – суетного, гедонистичного, беспринципного, признающего только силу и ищущего только «реального», причем он сыграл определенную – даже важную – роль в жизни Рахель. Когда Арендт писала эту работу, Гентц был, по ее словам, практически «забыт» (биографии Пола Свита и Голоу Манна не были опубликованы до 1940-х гг. Отношение Арендт к Генцу, соединяющему собой Просвещение и период романтизма (которые в Германии не столь обособлены, в культурном или историческом плане, как, к примеру, во Франции), амбивалентно, как и карьера Генца была «неоднозначной». В одних отношениях он был консерватором, а в других либералом; он был сторонником абсолютизма, верившим, что сам принцип легитимности исторически относителен; и он был романтиком, более всего желавшим, чтобы мир не менялся. Но он знал и мог принять то, что мир меняется и что все, что он старался сохранить, будет потеряно. Не принцип или мотив, но знание дел и хода мировых событий наделяли его местом в мире. Именно из-за такой точки зрения наблюдателя, своего «включенного знания» духа века и его секретов – своим намного более земным образом он разделял идеал Mitwisserschaft[33] старого Фридриха Шлегеля – он нашел свое политическое кредо в строчках древнеримского поэта Лукана Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni («Дело победителей было угодно богам, но дело побежденных – Катону»), которыми Арендт заканчивает свое эссе. Но поскольку она, вероятно, не разделяла в это время двусмысленной политической позиции Генца[34], цитируя этот стих, она не дает никакого намека на смысл, который он будет иметь для нее позднее. Напротив, здесь почти кажется, что он означает, будто Генц предпочитал дело побежденных потому, что оно было проиграно. Но 24 июля 1954 г. в письме к Ясперсу она называет эти строки выражением «духа республиканизма», и еще позднее они в краткой форме выражали для нее саму сущность политического суждения.
Стоит отметить, что всего десять лет спустя после публикации этого раннего эссе, в краткой благожелательной рецензии (не включенной в этот сборник) на биографию Свита «Фридрих фон Генц: защитник старого порядка», Арендт выделяет Генца из компании Талейрана, Кестлри, Каннига и Меттерниха, каждый из которых служил своим соответствующим «национальным» интересам, как защитника «интереса Европы». Там она характеризует его главным образом как героя эпохи Просвещения, который сопротивлялся ее «деградации… в шовинизм» и «основывал совершенно независимую и бескорыстную политику на несуществовании германской нации». В 1942 г., в разгар Второй мировой войны, она хвалила «странную и восхитительную своевременность» книги Свита и находила «вопрос европейского единства» одной из «наиболее важных задач» времени. Политическая мысль Генца (студента Канта), после того как она была «почти потеряна в национализме XIX века», рассматривается ею как «предмет нашего особого внимания». Сегодня, более шестидесяти лет спустя, эта «задача» и это «внимание» кажутся особенно своевременными. Рецензия Арендт, озаглавленная «Веровавший в европейское единство»[35], была ее первой опубликованной работой на английском.
Что касается Генца и Рахель Фарнхаген, она одна, среди множества его возлюбленных, понимала его, и они оба знали это. Она понимала, что его отношение к миру лишь казалось лицемерным другим, тогда как на самом деле он открывался миру наивно, как ребенок. Арендт говорит о возможности – если бы их любовь завершилась (чего не произошло) – возникновения другого «мира», «противостоящего реальному миру», мира, который изолировал бы Генца от той реальности, которой он жаждал. В «своей частной жизни он зависел от ее понимания», но не был готов пожертвовать «своей наивностью, своей чистой совестью, своим положением в мире – короче говоря, всем» для этого[36]. Различие между пониманием в частной сфере и появлением на публике не могло бы быть проведено более резко, или более конкретно.
Именно сила воображения Арендт объясняет жуткую оригинальность ее портрета Рахель, крайне непохожего на обычный, первоначально изобретенный после ее смерти ее мужем-неевреем Карлом-Августом Фарнхагеном и затем увековеченный остальными[37]. Амбивалентность отношения Арендт к Рахель еще глубже, чем к Генцу. Конечно, это в некотором отношении связано с тем фактом, что Арендт была еврейкой и женщиной, как и Рахель, но она не пыталась понять свое собственное политическое положение в 1930-е гг. через жизнь Рахель или ее опыт в «обществе» более ста лет назад; она скорее пыталась добиться понимания «еврейского вопроса», его места в истории и культуре Германии, рассматривая его в уникальном видении Рахель.
«Берлинский салон» посвящен необычному, но недолговечному социальному явлению, выросшему из идеалов германского Просвещения, проявившемуся в полном романтическом цветении в мансарде Рахель, и внезапно прекратившему существование, когда его «социальная нейтральность» была сокрушена событиями в реальном мире. Он «затонул как корабль», как сказала Рахель, как если бы был разрушен наполеоновскими пушками. Между Лигой добродетели (с ее концепцией равенства, основанного на доброте), которая предшествовала ему и крайне селективным, буржуазным Столовым обществом, которое за ним последовало, салон Рахели был воплощением романтической «неблагоразумности». Именно эта неблагоразумность, разновидность богемности, необычная и какая угодно, но только не буржуазная, разрушала различие между публичным и частным, принимая всерьез интересное человеческое существо как таковое – будь то женщина, князь, государственный деятель, еврей или кто-либо еще, – и интерес представляла сама жизнь (к примеру, счастье или несчастье), а не лицо, не «носитель» этой жизни. Так что это не место личности в мире рекомендовало ее Рахель, а, наоборот, такая вещь, как способность страдать «более чем кто-либо, кого я когда-либо знала». Сама Рахель воплощала отсутствие осмотрительности, поскольку ее жизнью руководило стремление избежать «несчастья» ее рождения – бытия еврейкой, – став «подобной» (ассимилированной) любой другой «воспитанной личности». Ее салон мог создавать для нее иллюзию такой ассимиляции, но это была ложная мечта о равенстве; время, «когда мы все были вместе», исчезло как мираж, когда она писала об этом Паулине Визель в 1818 г. В интимности любви понимание Рахелью Генца могло заслонять, даже заменять реальность, но оно никогда не могло заставить ее примириться с миром, в котором ее дискриминировали как еврейку. Это была та же интимность, ради которой Генц отказался пожертвовать очарованием мира, который вызывал у него такое восхищение во всех его проявлениях.
Арендт была поражена блестящим умом Рахель, ее огромной способностью к любви и ее пониманием других, вырастающим из этой способности, а также ее чудесной, неразборчивой открытости жизни. Но Арендт обнаружила, на своем собственном опыте политического антисемитизма – в отличие от социальной дискриминации, – что быть евреем – это на самом деле политический, публичный факт. Было неважно, придерживается ли она религиозных представлений или обладает еврейскими «характеристиками», или то, что при иных обстоятельствах ее блестящий ум и иная одаренность сделали бы ее «исключением» в глазах общества. Политически тот факт, что в глазах мира она представала как еврейка, значил намного больше, чем такие соображения, и утверждать иное было бы «гротескным и опасным бегством от реальности». Благодаря этому открытию она поняла, что только реальное, неиллюзорное равенство связано с политической свободой; что условием политической свободы является обладание местом, не в салоне, но в мире; и что единственный способ обрести место в мире – это потребовать его, заявив: да, я – то, чем я кажусь, я еврейка. В 1933 г. Арендт начала работать в сионистской организации Германии, хотя она лично не была сионисткой; эта работа привела к ее аресту. Это было трудное и рискованное дело, требующее мужества (среди многого прочего это объясняет ее четкие и ясные призывы к формированию еврейской армии в ходе Второй мировой войны) и, вероятно, не будет чрезмерным сказать, что без этого опыта она не смогла бы развить свою концепцию действия.
«Об эмансипации женщин» – единственный текст Арендт, посвященный женскому вопросу (возможно, достаточная причина, чтобы включить его в этот сборник), хотя она ссылалась на современные дебаты в германском женском движении в своей биографии Рахель Фарнхаген. Арендт утверждает, что смешение социальных целей с политическими никогда не позволит раскрыть специфическую сложность жизненной ситуации женщины, что, возможно, есть первый намек на тот род критики, которой она подвергнет марксистскую мысль. Алис Герштель, автор книги, которой посвящена рецензия Арендт, и ее муж, Отто Рийхле, были видными деятелями радикальных политических движений в Германии. Герштель была также близка с Миленой Есенской, другом и товарищем по переписке Арендт, что создает прекрасную, хотя и случайную, связь со следующим эссе «Франц Кафка: переоценка».
Одиннадцатилетний разрыв, отделяющий последнюю работу, написанную Арендт в Германии в 1933 г. от эссе о Кафке может показаться удивительным. Из интервью Гауса понятно, что Арендт, покинув Германию, испытывала отвращение к интеллектуалам и интеллектуальной жизни, а также ясно, что в качестве беженца без гражданства у нее были серьезные практические трудности. В Париже она работала на Молодежную алию, подготавливая еврейских детей к эмиграции в Палестину, куда она сопровождала одну из групп в 1935 г. Но она не полностью отстранилась от интеллектуальной жизни Парижа. Она посещала некоторые из знаменитых семинаров Александра Кожева о Гегеле, где впервые встретила философов Жана-Поля Сартра и Александра Койре (она считала Койре намного более проницательным интерпретатором Гегеля, чем Кожев); она подружилась с Раймоном Ароном и была очень близка с Вальтером Беньямином[38]. Немногие сохранившиеся от этого периода эссе Арендт касаются еврейского вопроса и включены в том, содержащий работы Арендт по еврейской проблематике, упомянутый выше.
Намного большая часть эссе, последовавших за посвященным Кафке, так или иначе касаются Второй мировой войны и многочисленных феноменов, связанных с тоталитаризмом. Даже кажущиеся исключения – такие, как работы о Дильтее, Дьюи, Брохе, Ясперсе и Хайдеггере; эссе, рассматривающие философские вопросы, в особенности немецкую и французскую экзистенциалистскую мысль и политическую философию в целом; и посвященные множеству вопросов, связанных с религией – написаны с той точки зрения, про которую можно безошибочно сказать, что она сформирована пониманием Арендт того, чем были для нее беспрецедентные политические события двадцатого века. Сама переоценка Кафки осуществлена именно с такой точки зрения: он рассматривается не как «пророк», предсказавший будущее, а как проницательный аналитик «фундаментальных структур» «несвободы» своего времени, которое создало то, что Арендт называла «проектами» социализированного человечества, бюрократического общества, управляемого сверхчеловеком, в противоположность человеческим законам. Для Арендт показателем гениальности Кафки была его способность постигать структуры «подземного потока истории Запада»[39], когда они были все еще скрыты для большинства. С другой стороны, его «образ… человека как модели доброй воли», «всех и каждого», желающих быть свободными, напоминает о том «доверии к людям», о котором Арендт говорит в конце интервью с Гаусом, доверие «к человеческому всех людей».
Арендт считала, что политическая мысль в XX в. должна порвать со своей собственной традицией так же радикально, как систематические массовые убийства, осуществленные тоталитарными режимами, порвали с традиционным пониманием политического действия. Ранний и наглядный пример ее собственного мышления можно видеть в различии, которое она проводит между «организованной виной» и «всеобщей ответственностью». Именно Арендт, еврейка, в последние дни войны высказывалась против ванситтартизма; она не считала, что немецкий народ обладает «монополией вины» за бесчеловечные преступления расистской идеологии. Не немецкий народ, а эта идеология сделала все возможное, чтобы уничтожить германскую культуру и человечность. Ее предвидение того, что зло станет «фундаментальным вопросом» в послевоенном мире, объясняет ее признание необходимости примирения народов и нового начала. Зло стало явным как инверсия векового основания западной морали – «Не убий!» – и менее абстрактно понималось как «чудовищность», «бесчеловечность» создания «абсолютно невинных» жертв для демонстрации хода так называемых законов природы и истории. Связь «чудовищности» и «бесчеловечности» с «невинностью» кажется весьма странной до тех пор, пока не понята совершенная новизна тоталитаризма как формы правления. Это понимание трудно, и теоретическим достижением первого порядка для Арендт было обосновать добавление новой формы правления к списку, начатому Платоном и Аристотелем и едва ли изменившемуся со времен античности.
Это никоим образом не только вопрос теории. Тоталитаризм – его угроза человечеству – представляет собой такую опасность, что Арендт не перестает предупреждать нас о политических условиях и ментальных установках, из которых он вырастает. Так, она обращает внимание на то, что в основе сталинского насилия лежала не столько идея, что «не разбив яиц, омлет не приготовишь», – сколько идея действия как фабрикации – в смысле делания истории. «Экс-коммунистов» от «бывших» коммунистов отличает фундаментально тоталитарный способ мышления, нетерпение по отношению к «основным неопределенностям» действия и идеологическая вера в «конец» истории. Она бескомпромиссно критична по отношению к светскому буржуазному обществу, его убийственной конвенциональности и указывает на его тенденцию лишать человека спонтанности и превращать его в «функцию общества». Испытывая симпатию к неокатолическим критикам буржуазных «морали и стандартов», таким как Г. К. Честертон и Шарль Пеги, она не выносила католиков или кого угодно, кто стремился бежать от реальности, прячась за «определенностью» прошлых истин.
Если нельзя убежать ни в «еще не», ни в «уже не», если нить традиционной западной мысли определенно перерезана, то даже величайшая философия истории не может повлиять на примирение между людьми и миром, в котором они живут. Гегелевская концепция Истории, его объяснение дел человеческих и хода событий как «диалектического движения к свободе», стала нереалистичной – не философски нереалистичной (что бы это ни означало), но страдающей от нехватки «чувства реальности», будучи взвешенной на весах с политическими событиями двадцатого века. Значимы не эти события, мыслимые абстрактно, к примеру, как знаки обреченности, – но их реальный вес и тяжесть в человеческом опыте. К концу этого тома Арендт рассматривает политическую философию как способную, в полную противоположность философии истории, к новому началу. В течение десятилетий мыслители думали, а писатели писали, что «кризис западной цивилизации» близок, и наконец этот кризис смог увидеть каждый – в тоталитарных режимах, в огромных фабриках, производящих трупы, – на земле, общей для всех людей. Не иная политическая философия стала нужна для объяснения этого, но новое понимание политики как таковой. Пусть ее серьезные исследования мысли Хайдеггера, Ясперса и других оказались неокончательными, в 1954 г. Арендт кажется убежденной в том, что впервые может оказаться возможным «прямо постичь сферу человеческих отношений и человеческих дел». Для того чтобы это сделать, потребуется действие, близкое к «бессловесному удивлению», несмотря на «бессловесный ужас перед тем, что может сделать человек». Эти слова не предвосхищают возвращения к традиционной философии; напротив, они являются призывом того, кто, хотя и не был никогда полностью дома в мире, тем не менее дерзал понимать и судить мир так долго, как продолжалось ее пребывание в нем. В четырех сильных строках из стихотворения, написанного в тот же год, что и последнее эссе этого сборника, Арендт изложила это так:
- Ich lieb die Erde
- so wie auf der Reise
- den fremden Ort
- und anders nicht.[40]
Вскоре после неожиданной смерти Ханны Арендт в декабре 1975 г. ее близкий друг и один из душеприказчиков, Лотте Колер, попросила Ларри Мея и меня (мы оба несколько лет работали с Арендт в качестве ассистентов) помочь ей подготовить большое количество бумаг в квартире Арендт на Риверсайд-драйв для отправки в Библиотеку Конгресса. Было непривычно проводить там день за днем, неделю за неделей, а потом и месяц за месяцем (работа не была закончена вплоть до лета 1977 г.) без Арендт. К грусти этого времени добавлялось ощущение открытия. Почти каждый день мы находили совершенно неожиданные документы и обсуждали их за прекрасными немецкими обедами, которые готовила Лотте Колер.
Мэри Маккарти, литературный душеприказчик Арендт, присоединялась к нам, когда бывала в городе. Хотя по складу своего ума эта замечательная женщина во многом отличалась от Арендт, острота ее прозрений была столь же поразительна. В это время я также вел длительные разговоры и переписку с американским философом Дж. Гленн Греем. Он обладал глубоким пониманием мысли Арендт в поздние годы ее жизни и считал, что она на много поколений, возможно, на век, опередила свое время. Вплоть до своей безвременной смерти в 1977 г. он был лучшим из проводников по интеллектуальному лабиринту текстов Арендт.
Элизабет Янг-Брюэль была среди первых, кто использовал бумаги Арендт. Она их внимательно изучала, работая над книгой «Ханна Арендт: во имя любви к миру», по-прежнему основным источником для познания истории жизни Арендт. С момента ее публикации в 1982 г. ее биография читалась многими, как исследователями, так и широкой публикой. Элизабет и я – друзья уже тридцать пять лет, с того дня, как мы встретились на семинаре Арендт. За это время много часов прошло в разговорах о ней; эти продолжающиеся беседы значат для меня больше, чем я могу высказать, и не в последнюю очередь в связи с работой по отбору и редактированию этих произведений.
Ларри Мей и я продолжили работать с Мэри Маккарти, которая взяла на себя труд по подготовке к публикации последних лекций Арендт «Жизнь ума». Редакторские стандарты Маккарти были очень высоки, и именно тогда, особенно отвечая на многие ее длинные письма, полные вопросов, я начал понимать что-то из того, что предусматривала редакторская работа по изданию работ Арендт. В это время я также познакомился с Уильямом Йовановичем, который одобрил первое издание этого тома в 1994 г. Его первый редактор, Алэйн Сальерно Мэйсон, демонстрировала большую преданность делу все время, что я работал с ней. Дэниэл Франк, шеф-редактор издательства Pantheon Books, заслуживает сердечных благодарностей всего растущего сообщества читателей Арендт за переиздание этого сборника.
Вдобавок к этому за прошедшие годы многие студенты, друзья и ученые помогали, возможно, и не зная об этом, пополнять подборку включенных в эту книгу эссе. Следует особо выделить трех исследователей: Ричарда Бернстайна, вместе с которым я имел удовольствие и пользу читать курс по работам Арендт; Маргарет Канован, с которой я познакомился по переписке благодаря Мэри Маккарти и чьи исследования подняли понимание политической мысли Арендт на прежде недостижимый уровень; и Урсулу Лудз, чья полная библиография, отличные немецкие издания работ Арендт и доброта помогали и поддерживали меня все время. Эйприл Флакне, будучи еще аспиранткой, занималась подготовкой черновиков двух взаимосвязанных эссе, «Понимание и политика» и «О природе тоталитаризма», которые вместе составляли самую трудную и, в некоторых отношениях, самую проблематичную часть редакторской работы над этим сборником. Она, конечно, не несет ответственности за любые недостатки, которые, возможно, остались в итоговых версиях.
Переводчики написанных на немецком работ Арендт, прежде всего Роберт и Рита Кимбер, но также Джоан Стамбо и Элизабет Янг-Брюэль, заслуживают благодарности за осуществленную ими трудную работу. Лотте Колер усердно просмотрела почти каждое слово перевода. Я хочу поблагодарить отдел рукописей Библиотеки Конгресса за их безграничное радушие и усилия по поддержанию в наилучшем возможном состоянии помещенного в их хранилище собрания работ Арендт, которые из-за постоянного и все большего их использования стали весьма хрупкими[41]. Я благодарю Джерарда Ричарда Хулаха и Мэри и Роберта Лазарус за их практическую и моральную поддержку в течение многих лет.
Хотя Ханна Арендт с явным раздражением относилась к любому утверждению о том, что она «гений», настаивая на том, что ее путь к достижениям был путем сплошного тяжелого труда, никто из знавших ее не сомневался в том, что она гений дружбы. Не поощряя ни учеников, ни эпигонов, она связывала узами дружбы огромное множество разнообразных индивидуальностей. Двум из ее лучших друзей посвящается этот том: Лотте Колер и памяти Мэри Маккарти.
«Что остается? Остается язык»
Беседа с Гюнтером Гаусом
[28 октября 1964 г. по западногерманскому телевидению показали следующий разговор между Ханной Арендт и Гюнтером Гаусом, в то время знаменитым журналистом, а позже – высокопоставленным чиновником в правительстве Вилли Брандта. Это интервью получило премию Адольфа Гримме и было опубликовано на следующий год в Мюнхене под названием «Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache» в книге Гюнтера Гауса Zur Person.
Гаус начинает разговор с того, что Арендт – первая женщина в серии его интервью, но тут же уточняет это утверждение замечанием, что у нее «очень мужское занятие» – философия. Это ведет к первому вопросу: несмотря на признание и уважение, которые она получила, осознает ли она «свою роль в кругу философов» как необычную или особенную, потому что она женщина? Арендт отвечает:]
Боюсь, я должна возразить. Я не вхожу в круг философов. Моя профессия, если об этом вообще можно так говорить, – это политическая теория. Я никогда не чувствовала себя философом и не верила, что меня примут в круг философов, как вы сейчас любезно предположили. Но вернемся к другому вопросу, который вы поставили во вступительном замечании: вы говорите, что философия обычно считается мужским занятием. Она не должна оставаться мужским занятием! Вполне возможно, что однажды женщина будет философом…[42]Гаус: Я считаю вас философом…
Арендт: Что ж, с этим я ничего поделать не могу, но, по моему мнению, это не так. Я считаю, что я попрощалась с философией раз и навсегда. Как вы знаете, я изучала философию, но это не значит, что я с ней осталась.
Гаус: Мне бы хотелось уточнить у вас, какова разница между политической философией и вашей работой как профессора политической теории.
Арендт: Выражение «политическая философия», которого я избегаю, чрезвычайно отягчено традицией. Когда я говорю об этих вещах, академически или не академически, я всегда упоминаю, что между философией и политикой есть существенное напряжение. Так, между человеком как мыслящим существом и человеком действующим существом есть напряжение, которого, например, не существует в натурфилософии. Как и все остальные, философ может быть объективным по отношению к природе, и когда он говорит, что он думает об этом, он говорит от имени всего человечества. Но он не может быть объективным или нейтральным в отношении политики. Точно не после Платона!
Гаус: Я понимаю, что вы имеете в виду.
Арендт: Большинство философов, за очень редким исключением, испытывают некоторую неприязнь к политике. Кант как раз исключение. Эта неприязнь невероятно важна для всей проблемы, потому что это не личный вопрос. Он лежит в самой природе субъекта.
Гаус: Вы не хотите иметь отношения к этой враждебности к политике, потому что думаете, что это помешает вашей работе?
Арендт: Вот именно – «Я не хочу иметь отношения к этой враждебности»! Я хочу смотреть на политику, так сказать, глазами, незамутненными философией.
Гаус: Понимаю. Теперь давайте обратимся к вопросу об эмансипации женщин. Было ли это проблемой для вас?
Арендт: Да, конечно; такая проблема всегда существовала. Я на самом деле довольно старомодна. Я всегда думала, что есть определенные виды занятий, неподходящие для женщин, которые им не к лицу, если можно так выразиться. Это просто плохо выглядит, когда женщина отдает приказы. Ей не следует оказываться в такой ситуации, если она хочет остаться женственной. Права я или нет, я не знаю. Я сама всегда жила в соответствии с этим более или менее бессознательно – или, лучше сказать, более или менее сознательно. Проблема сама по себе не играет роли персонально для меня. Я попросту всегда делала то, что мне нравилось.
Гаус: Ваша работа – мы непременно вернемся к деталям чуть позже – в значительной степени касается знания условий, в которых возникают политическое действие и поведение. Хотите ли вы достичь обширного влияния этими работами или же вы считаете, что такое влияние больше невозможно в наше время? Или это просто для вас не важно?
Арендт: Знаете, это непростой вопрос. Если честно, я должна признаться: когда я работаю, мне не интересно, как моя работа может повлиять на людей.
Гаус: А когда вы заканчиваете?
Арендт: Тогда я заканчиваю. Для меня важно понимание. Письмо для меня – поиск этого понимания, часть процесса понимания… Формулирование определенных вещей. Если бы у меня была достаточно хорошая память, чтобы действительно сохранить все, что я думаю, очень сомневаюсь, что я смогла бы это все написать, – я свою лень знаю. Для меня важен сам мыслительный процесс. И если я добилась успеха в мышлении, я лично вполне удовлетворена. Если я добилась потом успеха в адекватном выражении моего мыслительного процесса на письме, это дает мне чувство удовлетворения, как будто я дома.
Гаус: Вы легко пишете? Легко формулируете идеи?
Арендт: Иногда да, иногда нет. Но в целом я могу сказать вам, что я никогда не пишу, пока я не могу, так сказать, писать под собственную диктовку.
Гаус: Пока вы все не продумали.
Арендт: Да. Я точно знаю, что я хочу написать. Я не стану писать, пока не знаю. Обычно я пишу все сразу. И это происходит довольно быстро, так что на самом деле это зависит только от того, как быстро я печатаю.
Гаус: Ваш интерес к политической теории, политическому действию и поведению, это центральная тема вашей работы сегодня. В свете этого то, что я нашел в вашей переписке с профессором Шолемом[43], кажется особенно интересным. Там вы писали – приведу цитату, – что вы «в юности не интересовались ни политикой, ни историей». Госпожа Арендт, как еврейка вы эмигрировали из Германии в 1933 году. Вам было тогда двадцать шесть лет. Ваш интерес к политике – утрата безразличия к политике и истории – связан с этими событиями?
Арендт: Да, конечно. Безразличие было больше невозможно в 1933 году. Оно было больше невозможно даже раньше.
Гаус: И для вас тоже?
Арендт: Да, конечно. Я внимательно читала газеты. У меня было свое мнение. Я не входила в партию, и мне это было не нужно. К 1931 году я была твердо уверена, что нацисты встанут у руля. Я всегда спорила с другими людьми об этом, но в действительности я не задумывалась об этих вещах систематически до тех пор, пока не эмигрировала.
Гаус: У меня есть еще один вопрос к тому, что вы сказали. Если вы были уверены, что приход нацистов к власти не остановить, не чувствовали ли вы, что обязаны что-то сделать, чтобы предотвратить это – например, вступить в какую-либо партию, – или вы не видели в этом смысла?
Арендт: Я лично не думала, что это имеет смысл. Если бы я так думала – тяжело рассуждать об этом, оглядываясь назад, – возможно, я могла бы что-то сделать. Я думаю, это было бессмысленно.
Гаус: Есть ли какое-то определенное событие в вашей памяти, которое знаменует ваше обращение к политике?
Арендт: Я бы сказала, это 27 февраля 1933 года, поджог Рейхстага и незаконные аресты, которые последовали той же ночью. Так называемое превентивное заключение. Как вы знаете, людей забирали в подвалы гестапо или в концентрационные лагеря. То, что случилось тогда, чудовищно, но теперь все это уже затмили вещи, которые произошли потом. Это был неожиданный шок для меня, и с этого момента я чувствовала свою ответственность. То есть я больше не думала, что можно быть просто свидетелем. Я пыталась помочь разными способами. Но я никогда не говорила, из-за чего я на самом деле покинула Германию, если об этом вообще стоит говорить, потому что это не имеет значения.
Гаус: Пожалуйста, расскажите нам.
Арендт: Я в любом случае собиралась эмигрировать. Я сразу же поняла, что евреям нельзя оставаться. Я не собиралась мотаться по Германии как гражданин второго сорта. Кроме того, я думала, что будет все хуже и хуже. Однако в итоге я уехала не так уж спокойно. И, надо сказать, это доставило мне определенное удовольствие. Меня арестовали, и я вынуждена была покинуть страну нелегально – я сейчас расскажу вам, как – и это для меня было настоящим удовольствием. Я думала, что я сделала хотя бы что-то. По крайней мере, я не «невинна». Никто не мог сказать так обо мне!
Сионистская организация дала мне шанс. Я близко дружила с некоторыми лидерами, а больше всего с тогдашним президентом, Куртом Блюменфельдом. Но я не была сионисткой. И сионисты не пытались обратить меня в свою веру. Но в известном смысле они оказали на меня влияние: особенно критикой и самокритикой, которую сионисты проповедовали евреям. Я была под влиянием и под впечатлением от этого, но политически у меня с сионизмом не было ничего общего. Теперь, в 1933 году Блюменфельд и еще один неизвестный вам человек пришли ко мне и сказали: мы хотим собрать все антисемитские высказывания, сделанные в обычных обстоятельствах. Например, высказывания в клубах, всевозможных профессиональных клубах, всевозможных профессиональных журналах – короче говоря, таких, о которых не было известно за рубежом. Составление подобного сборника в то время означало соучастие в том, что нацисты называли «пропагандой клеветнических измышлений». Ни один сионист не мог этого сделать, потому что если бы его поймали, вся организация была бы раскрыта… Они спросили меня: «Ты сделаешь это?», я сказала: «Конечно». Я была очень счастлива. Во-первых, эта идея казалась мне очень умной, а во-вторых, она давала мне ощущение, что что-то, в конце концов, было сделано.
Гаус: Вас арестовали в связи с этой работой?
Арендт: Да, меня раскрыли. Мне очень повезло. Я вышла через восемь дней, потому что я подружилась с офицером, который меня арестовал. Он был очаровательный парень! Его повысили из криминальной полиции в политический отдел. Он не знал, что делать. Чего от него ждали? Он говорил мне: «Обычно, когда кто-то стоит передо мной вот так, мне достаточно только взглянуть на его дело, и мне все ясно. Но что делать с тобой?»
Гаус: Это было в Берлине?
Арендт: Это было в Берлине. К сожалению, я вынуждена была ему солгать, я не могла позволить, чтобы организация была раскрыта. Я рассказывала ему небылицы и он говорил: «Я тебя сюда привел, и я тебя отсюда вытащу. Не бери адвоката! У евреев теперь нет денег. Побереги деньги!» Тем временем организация наняла мне адвоката. Из членов, конечно. И я отослала адвоката назад. Потому что у человека, который меня арестовал, было открытое, приличное лицо. Я положилась на него и думала, что это гораздо лучше, чем иметь адвоката, который сам напуган.
Гаус: И вы вышли и смогли покинуть Германию?
Арендт: Я вышла, но границу пересекала нелегально… под своим именем этого было не сделать.
Гаус: В переписке, которую мы упомянули, вы, госпожа Арендт, явно отвергли за ненадобностью предупреждение Шолема, что вам следует всегда помнить о вашей солидарности с евреями. Вы пишете, – я снова цитирую: «Быть евреем означает для меня очевидные факты моей жизни, и я никогда не хотела изменить что-то в этих фактах, даже в детстве». Я хотел бы задать несколько вопросов об этом. Вы родились в 1906 году в Ганновере, ваш отец инженер, вы выросли в Кенигсберге. Помните ли вы, что такое быть ребенком в довоенной Германии и происходить из еврейской семьи?
Арендт: Я не могу ответить на этот вопрос честно за всех. Что до моего личного опыта, я не знала от моей семьи, что я еврейка. Моя мать была совершенно не религиозна.
Гаус: Ваш отец умер молодым.
Арендт: Мой отец умер молодым. Это все звучит очень странно. Мой дед был президентом либеральной еврейской общины и гражданским служащим в Кенигсберге. Я происхожу из старой кенигсбергской семьи. Однако слово «еврей» ни разу не проявлялось, пока я была маленькой. Впервые я столкнулась с ним в антисемитских замечаниях – повторять их не стоит – от детей на улице. После этого я была, так сказать, «просвещена».
Гаус: Для вас это было шоком?
Арендт: Нет.
Гаус: Было ли у вас чувство: теперь я какая-то особенная?
Арендт: Это совсем другое. Для меня это совершенно не было шоком. Я думала: так вот оно что. Было ли у меня чувство, что я особенная? Да! Но я не могу объяснить это вам сегодня.
Гаус: Как именно вы чувствовали себя особенной?
Арендт: Объективно говоря, я считаю, что это было связано с моим еврейством. Например, ребенком, когда я немного повзрослела, я знала, что я выгляжу как еврейка. Я выглядела не так, как другие дети. Я очень хорошо это осознавала. Но это не то, что заставляло меня чувствовать себя неполноценной, просто это так было. И потом, моя мама, мой дом, скажем так, немного отличался от обычного. В нем было слишком много особенного, даже по сравнению с домами других еврейских детей или даже других детей, которые были с нами связаны, а ребенку трудно понять, что же именно было особенным.
Гаус: Я хотел бы уточнить, что было особенным в вашем доме. Вы сказали, что ваша мать не считала необходимым объяснить вашу принадлежность к еврейству, пока вы не столкнулись с этим на улице. Ваша мать потеряла это чувство – быть евреем, – которое вы утверждаете для себя в вашем письме Шолему. Не сыграло ли для нее это большую роль? Успешно ли она ассимилировалась или по меньшей мере верила в это?
Арендт: Моя мать не была склонна к теоретизированию. Я не думаю, что у нее были какие-то особенные идеи по этому поводу. Сама она вышла из социал-демократического движения, из круга Sozialistische Monatshefte[44], как и мой отец. Еврейский вопрос не имел для нее значения. Конечно, она была еврейкой. Она бы никогда не крестила меня! Я думаю, она оторвала бы мне уши, если бы узнала, что я отказываюсь быть еврейкой. Это было немыслимо, так сказать. Об этом не могло быть и речи! Но вопрос был, естественно, гораздо важнее в двадцатые, когда я была юной, чем когда-то для моей матери. И когда я выросла, он стал для матери важнее, чем раньше. Но это было обусловлено внешними обстоятельствами.
Я, например, не верила, что когда-нибудь буду считать себя немкой – в смысле принадлежности к народу, а не гражданства, если я могу сделать такое различение. Я помню спор об этом с Ясперсом в 1930 году. Он сказал: «Конечно, ты немка!» Я ответила: «Видно же, что нет!» Но это меня не беспокоило. Я не чувствовала, что это было чем-то недостойным. Ничего такого не было. И возвращаясь к тому, что было особенным в моем доме: все еврейские дети сталкивались с антисемитизмом. И это отравляло души маленьких детей. Разница между нами была в том, что моя мать всегда была убеждена, что нельзя позволять этому задевать тебя. Ты должен защищаться! Когда мои учителя позволяли себе антисемитские высказывания – по большей части не обо мне, а о других еврейских девушках, особенно ученицах из Восточной Европы, – мне разрешалось немедленно встать, выйти из класса, пойти домой и обо всем рассказать. Потом моя мать писала одно из множества своих писем руководству школы и для меня этот вопрос был полностью решен. У меня был выходной, и это было чудесно! Но когда это шло от детей, мне не разрешалось говорить об этом дома. Это было не в счет. Ты сам должен уметь защитить себя от других детей. Так что эти вопросы никогда не были для меня проблемой. Там были правила поведения, благодаря которым я сохранила мое достоинство, если можно так выразиться, и я была защищена, абсолютно защищена дома.
Гаус: Вы учились в Марбурге, Гейдельберге и Фрайбурге у профессоров Хайдеггера, Бультмана и Ясперса; специализировались в философии, а вторая специальность – теология и греческий. Как вы пришли к выбору этих предметов?
Арендт: Знаете, я часто думала об этом. Я могу только сказать, что всегда знала, что буду изучать философию. С четырнадцати лет.
Гаус: Почему?
Арендт: Я читала Канта. Вы можете спросить: почему вы читали Канта? Для меня этот вопрос стоял как-то так: я могу изучать философию или утопиться. Но не потому что я не любила жизнь! Нет! Как я уже говорила – у меня была эта потребность понять… Эта потребность понять появилась очень рано. Знаете, все книги были дома в библиотеке; можно было просто взять их с полки.
Гаус: Помимо Канта, вы помните особенный опыт в чтении?
Арендт: Да. Прежде всего, «Психология мировоззрений» Ясперса[45], опубликованная, думаю, в 1920 году. Мне было четырнадцать. Потом я прочитала Кьеркегора, и они подошли друг другу.
Гаус: Отсюда появилась теология?
Арендт: Да. Они подошли друг другу так, что для меня они связаны вместе. У меня были некоторые опасения только относительно того, как этим заниматься, если ты еврейка… как достичь успеха. Я не имела представления, знаете. У меня были сложные проблемы, которые потом решились сами собой. Греческий – это совсем другое дело. Я всегда любила греческую поэзию. И поэзия играла огромную роль в моей жизни. Поэтому я выбрала вдобавок греческий. Это было легче всего, ведь я уже все равно на нем читала!
Гаус: Я впечатлен!
Арендт: Нет, вы преувеличиваете.
Гаус: Ваши интеллектуальные дарования проявились так рано, госпожа Арендт. Это мешало вам, когда вы были школьницей или студенткой? Не делало ли это болезненными отношения с окружающими?
Арендт: Так могло бы случиться, если бы я это осознавала. Я думала, все были такими же.
Гаус: Когда вы поняли, что это не так?
Арендт: Довольно поздно. Я не хочу говорить, насколько поздно. Я растеряна. Я была неописуемо наивна. Это отчасти обусловлено моим воспитанием дома. Ранги никогда не обсуждались. Это считалось недостойным. Все амбиции считались недостойными. Во всяком случае, мне это было совершенно не ясно. Я испытывала иногда этакую чуждость среди людей.
Гаус: Странность, которая, как вы считали, происходит от вас?
Арендт: Да, исключительно. Но это не имеет ничего общего с талантом. Я никогда не связывала это с талантом.
Гаус: Но приводило ли иногда в юности к высокомерию в отношении других?
Арендт: Да, это случалось. Очень рано. И я часто страдала от того, что испытывала его, то есть я знала, что так быть не должно и так далее.
Гаус: Когда вы уехали из Германии в 1933 году, вы поехали в Париж, где вы работали в организации, которая занималась переправкой еврейских детей в Палестину. Не расскажете что-нибудь об этом?
Арендт: Эта организация привозила еврейских детей тринадцати-семнадцати лет из Германии в Палестину и поселяла их в кибуцы. По этой причине я действительно знаю эти поселения очень хорошо.
Гаус: И с самого раннего времени.
Арендт: С самого раннего времени; я тогда их очень уважала. Дети получали профессиональную подготовку и переподготовку. Иногда я также переправляла польских детей. Это была регулярная социальная, образовательная работа. В сельской местности были большие лагеря, где детей готовили к переезду в Палестину, у них проходили уроки, там они изучали сельское хозяйство; прежде всего они должны были поправиться. Нам надо было одеть их с головы до ног. Мы должны были им готовить. Кроме того, мы должны были готовить для них документы, иметь дело с их родителями – и прежде всего мы должны были найти для них деньги. Это тоже была по большей части моя работа. Я работала вместе с француженками. Это все, что мы более или менее делали. Хотите узнать, как я решила взяться за эту работу?
Гаус: Пожалуйста.
Арендт: Видите ли, я происхожу из чисто академической среды. В связи с этим 1933 год произвел на меня очень глубокое впечатление. Сначала позитивное, а потом негативное. Пожалуй, я лучше скажу сначала о негативном, а потом о позитивном. Люди сегодня часто думают, что немецкие евреи были шокированы в 1933 году тем, что Гитлер пришел к власти. Что касается меня и людей моего поколения, я могу сказать, что это любопытное недоразумение. Естественно, приход Гитлера к власти – это очень плохо. Но это касается политики, а не частной жизни. Нам не нужно было ждать, пока Гитлер захватит власть, чтобы знать, что нацисты были нашими врагами! Это было совершенно очевидно по меньшей мере уже четыре года любому, если он не был совсем уж глуп. Мы также знали, что большое количество немцев были за них. Это не могло шокировать нас или удивить в 1933-м.
Гаус: Вы имеете в виду, что шок в 1933 году вызван тем, что события перешли с общеполитического уровня на личный?
Арендт: Даже не это. Хотя и это тоже. Во-первых, общеполитическое становилось личной судьбой при эмиграции. Во-вторых… Друзья «координировались» или сами вставали в строй. Проблема, личная проблема, была не в том, что делали наши враги, а в том, что делали наши друзья. На волне «координации» (Gleichschaltung[46]), которая была относительно добровольной – в любом случае не под давлением террора, – вокруг меня образовался вакуум. Я жила в интеллектуальной среде, но я знала других людей. И среди интеллектуалов «координация» была правилом. Но не среди других. И я никогда этого не забуду. Я уехала из Германии с мыслью, конечно, в некоторой степени преувеличенной: никогда больше! Я никогда больше не позволю вовлечь себя в дела интеллектуалов. Я больше не хотела иметь с этим ничего общего. И я не верила потом, что евреи или немецкие еврейские интеллектуалы могут поступать по-разному, если различались их собственные обстоятельства. Я так не считала. Я думала, что это должно быть связано с этой профессией, с интеллектуальностью. Я говорю в прошедшем времени. Теперь я знаю об этом больше.
Гаус: Я как раз собирался спросить вас, считаете ли вы так до сих пор.
Арендт: Не в той же степени. Но я все еще думаю, что суть интеллектуала в том, что он для всего может придумать идеи. Никто никогда не обвинял кого-то в том, что он «координировался», потому что заботился о своей жене и ребенке. Хуже всего то, что некоторые люди действительно верили в нацизм! Недолго, многие очень недолго. Но это означает, что они создали идеи о Гитлере, местами ужасно интересные вещи! Полностью фантастические, интересные и сложные вещи! Вещи, гораздо выше обычного уровня![47] Мне это казалось гротеском. Сегодня я могу сказать, что они были в плену у собственных идей. Вот что случилось. Но тогда, в то время, мне это было не так ясно.
Гаус: Поэтому вам стало особенно важно отойти от интеллектуальных кругов и заняться практической работой?
Арендт: Да. Положительная сторона заключается в следующем. Я поняла, что я выразила тогда одним предложением: если на тебя нападают как на еврея, надо защищаться как еврей. Не как немец, не как гражданин мира, не как поборник прав человека и так далее. Но что я могу конкретно сделать как еврей? Во-вторых, это было теперь мое четкое намерение – работать на организацию. Впервые. Работать с сионистами. Они были единственными, кто был готов. Бессмысленно было присоединяться к тем, кто ассимилировался. Кроме того, в действительности я никогда не имела с ними ничего общего. Даже до этого времени я связывала себя с еврейским вопросом. Книга о Рахели Фарнхаген[48] была закончена, когда я покинула Германию. Еврейская проблема играет в этом определенную роль. Я написала это с мыслью: «Я хочу понять». Я не обсуждала мои личные проблемы как еврей. Но теперь принадлежность к иудаизму стала моей собственной проблемой, и моя собственная проблема была политической. Чисто политической! Я хотела заниматься практической работой, всецело и только еврейской работой. С этой мыслью я потом искала работу во Франции.
Гаус: До 1940 года.
Арендт: Да.
Гаус: Потом, во время Второй мировой войны вы поехали в Соединенные Штаты Америки, где вы сейчас работаете профессором политической теории, а не философии…
Арендт: Спасибо.
Гаус: …в Чикаго. Вы живете в Нью-Йорке. Ваш муж, за которого вы вышли в 1940 году, тоже профессор, философии, в Америке. Академическое сообщество, а вы снова к нему принадлежите после разочарования 1933 года, – международное. Еще я хотел бы спросить вас, скучаете ли вы по догитлеровской Европе, которой уже никогда больше не будет. Когда вы вернулись в Европу, что, по вашему мнению, остается прежним и что безвозвратно утеряно?
Арендт: Европа догитлеровского периода? Я бы не хотела вернуться, скажу я вам. Что остается? Остается язык.
Гаус: Много это значит для вас?
Арендт: Много. Я всегда сознательно отказывалась терять родной язык. Я всегда поддерживала определенную дистанцию как по отношению к французскому, на котором я потом говорила очень хорошо, так и по отношению к английскому, на котором я сейчас пишу.
Гаус: Я хотел вас об этом спросить. Сейчас вы пишете на английском?
Арендт: Я пишу на английском, но я никогда не теряла чувство дистанции по отношению к нему. Есть огромная разница между родным языком и любым другим. Для себя я определяю это необычайно просто: немалую часть немецкой поэзии я знаю наизусть на немецком; эти стихи всегда живут в глубине моего сознания. Я никогда не смогу сделать этого снова. Я делаю такие вещи на немецком, какие никогда не позволю себе в английском. На самом деле иногда я делаю их и на английском тоже, потому что стала смелее, но в целом я сохраняю определенную дистанцию. Немецкий язык – это главная вещь, которая осталась и которую я всегда сознательно хранила.
Гаус: Даже в самое горькое время?
Арендт: Всегда. Я думала: что делать? Это же не немецкий язык сошел с ума. И во-вторых, родному языку нет замены. Люди могут забыть родной язык. Это правда, я с этим встречалась. Есть люди, которые говорят на новом языке лучше, чем я. Я все еще говорю с заметным акцентом, я часто говорю не идиоматически. Они могут делать все эти вещи правильно. Но они делают это на языке, в котором одно клише погоняет другое, потому что продуктивность его, доступная родному языку, исчезает, когда забываешь этот язык.
Гаус: Случаи, когда родной язык был забыт: считаете ли вы, что это следствие вытеснения?
Арендт: Да, очень часто. Я видела это в людях как результат шока. Знаете, решающим был не 1933 год, по крайней мере, для меня. Решающим был день, когда мы узнали про Освенцим.
Гаус: Когда это было?
Арендт: Это было в 1943 году. И мы сначала не поверили – хотя я и мой муж всегда говорили, что от них можно было ожидать чего угодно. Но мы не поверили, потому что с военной точки зрения это было ненужно и необоснованно. Мой муж – бывший военный историк, он понимает что-то в этом деле. Он сказал, не будь легковерной, не принимай эти истории за чистую монету. Они не могут зайти так далеко. И потом, спустя полгода, мы поверили, потому что у нас были доказательства. Это был настоящий шок. Прежде мы говорили: хорошо, есть враги. Это совершенно естественно. Почему у людей не может быть врагов? Но это было другое. Тут же как будто разверзлась пропасть. Потому что мы думали, что все можно как-то исправить, поскольку в политике в определенный момент все можно исправить. Но не так. Этого не должно было случиться. И я имею в виду не количество жертв. Я говорю о методе, поставленном на поток производстве трупов и так далее – нет нужды распространяться об этом. Этого не должно было произойти. Случилось что-то, с чем мы не можем смириться. Никто не может. Обо всем остальном, что произошло, я должна сказать, что это было иногда тяжело: мы были очень бедны, нас преследовали, мы вынуждены были бежать, всеми правдами и неправдами нам пришлось через это пройти и так далее. Вот как это было. Но мы были молоды. Было даже немного весело – не могу этого отрицать. Но не это. Это было что-то совершенно другое. Лично я могла принять все, кроме этого.
Гаус: Госпожа Арендт, я хотел бы узнать, как изменилось с 1945 года ваше мнение о послевоенной Германии, куда вы часто приезжали и где были опубликованы самые важные ваши работы.
Арендт: Впервые я вернулась в Германию в 1949 году, на службу еврейской организации по восстановлению еврейского культурного наследия, по большей части книг. Я приехала по доброй воле. Мои мысли после 1945 года были такими: что бы ни случилось в 1933 году, это действительно не важно в свете того, что произошло после. Конечно, измена друзей, откровенно говоря…
Гаус: …которую испытали вы лично…
Арендт: Конечно. Но если кто-то по-настоящему стал нацистом и писал об этом статьи, он не должен быть сохранять верность по отношению ко мне лично. Я все равно не стала бы с ним разговаривать. Ему не нужно было поддерживать со мной связь, потому что для меня его больше не существовало. Это совершенно ясно. Но они не все убийцы. Были люди, которые попались в собственную ловушку, как я бы сказала сегодня. Они не желали того, что произошло после. Так, мне кажется, что основа для общения должна была образоваться прежде всего в пропасти Освенцима. И это касается многих личных отношений. Я ругалась с людьми: я не особенно милая и не то чтобы очень вежливая, я говорю то, что думаю. Но так или иначе все встало на свои места для большинства людей. Как я говорила, эти люди верили нацистам несколько месяцев, в худшем случае – несколько лет, но они не убийцы и не доносчики. Люди, как я говорила, которые «создали идею» о Гитлере. Но, в общем, самый значимый опыт по возвращении в Германию – не считая опыта узнавания, который всегда служит поворотным моментом в греческих трагедиях – это переживание сильных эмоций. И потом это была возможность услышать немецкий на улицах. Для меня это была неописуемая радость.
Гаус: Такой была ваша реакция, когда вы приехали в 1949 году?
Арендт: Более или менее. И сегодня, когда все вернулось на свои места, дистанция, которую я ощущаю, стала больше, чем раньше, когда я воспринимала те вещи очень эмоционально.
Гаус: Потому что все вернулось на свои места слишком быстро, по вашему мнению?
Арендт: Да. И часто на то место, с которым я не согласна. Но я не чувствую себя ответственной за это. Я теперь смотрю на это извне. И это означает, что я гораздо меньше вовлечена, чем тогда. Возможно, из-за времени. Послушайте, пятнадцать лет – это не шутка!
Гаус: Вы стали более равнодушны?
Арендт: Дистанцирована… равнодушна – это слишком. Но есть дистанция.
Гаус: Госпожа Арендт, ваша книга о процессе над Эйхманом в Иерусалиме была опубликована этой осенью в ФРГ. Со времени ее публикации в Америке вашу книгу горячо обсуждали. Особенно с еврейской стороны прозвучали возражения, которые, как вы говорите, частично основываются на неверном понимании и частично на умышленной политической кампании. Прежде всего, людей оскорбил поднимаемый вами вопрос, насколько евреи сами виноваты в их пассивном приятии массовых убийств в Германии или насколько сотрудничество определенных еврейских советов практически раскрывает их собственную вину. В любом случае к портрету Ханны Арендт, так сказать, эта книга ставит ряд вопросов. Если можно, я начну с такого: критика, что в вашей книге не хватает любви к евреям, болезненна для вас?
Арендт: Прежде всего, я должна, при всем дружелюбии, заметить, что вы сами стали жертвой этой кампании. Нигде в моей книге я не обвиняю еврейский народ в непротивлении. Другие делали это на процессе Эйхмана, а именно господин Хауснер из израильской прокуратуры. Я назвала такие вопросы, обращенные к свидетелям в Иерусалиме глупыми и жестокими.
Гаус: Я читал книгу. Я знаю это. Но часть критики основывается на тоне, каким написаны многие пассажи.
Арендт: Ладно, это другое дело. Что я могу сказать? Кроме того, я не хочу что-то говорить. Если люди думают, что можно написать об этих вещах торжественным тоном… Смотрите, есть люди, которые обиделись – и в какой-то степени я могу это понять, – что, например, я все еще могу смеяться. Но я действительно считала, что Эйхман – дурак. Я расскажу вам: я читала стенограмму его допроса, три тысячи шестьсот страниц, читала ее очень внимательно, и я не знаю, сколько раз я смеялась – и громко! У многих такая реакция вызвала неприязнь. Я ничего не могу с этим поделать. Но я знаю одну вещь: за три минуты до смерти я, возможно, снова засмеюсь. И это, говорят они, тон. Что тон голоса особенно ироничен – полная правда. Тон же в этом случае действительно личный. Когда люди упрекают меня в обвинении еврейского народа, это злобная ложь и пропаганда, и ничего больше. Однако недовольство тоном – это недовольство лично мною. И я не могу с этим ничего поделать.
Гаус: Вы готовы смириться с этим?
Арендт: Да, готова. Что еще можно сделать? Я не могу сказать людям: вы меня неправильно поняли и на самом деле в душе у меня происходит то-то и то-то. Это смешно.
Гаус: В связи с этим я бы хотел вернуться к вашему заявлению. Вы сказали: «Я никогда в моей жизни не „любила“ людей или общества: ни немцев, ни французов, ни американцев, ни рабочий класс или что-то в этом роде. Я в действительности люблю только моих друзей, и это единственный род любви, который я знаю и в который верю, – это любовь к конкретным людям. Более того, эта „любовь к евреям“ кажется мне, поскольку я сама еврейка, чем-то довольно подозрительным»[49]. Можно я кое-что спрошу? Как политически действующее существо, не нуждается ли человек в привязанности к группе, привязанности, которая до некоторой степени может называться любовью? Вы не боитесь, что ваше отношение может быть политически бесплодным?
Арендт: Нет. Надо сказать, это другое отношение, которое политически бесплодно. В первую очередь, принадлежность к группе – это естественное состояние. Ты всегда принадлежишь к некоей группе по рождению. Но принадлежать к группе так, как вы подразумеваете, в другом смысле, означает создать организованную группу или присоединиться к ней, а это что-то совсем другое. Этот вид организации связан с отношением к миру. Люди, которых организуют, имеют нечто общее, что обычно называется интересами. Непосредственно личное отношение, где можно говорить о любви, конечно, существует прежде всего в настоящей любви и в определенном смысле в дружбе. Там напрямую обращаешься к личности, независимо от отношения к миру. Так, люди в самых противоположных организациях могут оставаться друзьями. Но если вы путаете эти вещи, если вы приносите любовь на стол переговоров, грубо говоря, я считаю это фатальным.
Гаус: Вы находите это аполитичным?
Арендт: Я нахожу это аполитичным. Я нахожу это безмирным. И я действительно считаю это огромной катастрофой. Я признаю, что евреи – классический пример безмирного народа, сохранявшегося тысячелетиями.
Гаус: «Мир» понимается в смысле вашей терминологии как пространство для политики.
Арендт: Как пространство для политики.
Гаус: Таким образом евреи – аполитичны?
Арендт: Я бы не сказала об этом именно так, потому что общины бывали, конечно, до определенной степени также политическими. Еврейская религия – это национальная религия. Но понятие политического было применимо только с большими оговорками. Эта безмирность, от которой евреи страдали, пребывая в рассеянии, и которая – как у всех народов-парий – создает особенное тепло среди тех, кто к ним принадлежит, изменилась с основанием государства Израиль.
Гаус: Было ли что-то утеряно, то есть что-то, о чем вы жалеете?
Арендт: Да, за свободу платят дорого. Специфически еврейская человечность, основанная на их безмирности, была чем-то очень прекрасным. Вы слишком молоды, чтобы это испытать. Но это было что-то очень прекрасное, это стояние вне всех социальных связей, полная открытость ума и отсутствие предубеждений, которое я испытала, особенно с моей матерью, так же относилось ко всему еврейскому сообществу. Конечно, многое с тех пор было потеряно. За освобождение приходится платить. Я однажды сказала в моей речи о Лессинге…
Гаус: в Гамбурге в 1959 году…[50]Арендт: Да, там я сказала, что «человечность… никогда еще не переживала час освобождения даже на минуту». Видите, что это произошло и с нами.
Гаус: Вы не хотели бы изменить это?
Арендт: Нет. Я знаю, что за свободу надо платить высокую цену. Но я не могу сказать, что мне нравится за нее платить.
Гаус: Госпожа Арендт, не считаете ли вы своим долгом – публиковать все, к чему вы пришли в результате политико-философских размышлений или социологического анализа? Или есть причины молчать о чем-то, что вы знаете?
Арендт: Да, это очень тяжелая проблема. Она лежит в основе единственного вопроса, который меня интересует во всей полемике о книге об Эйхмане. Но это вопрос, который никогда бы не встал, если бы я не подняла его. Это единственный серьезный вопрос, все остальное – пустая пропаганда. Итак, fiat veritas, et pereat mundus [пусть даже рухнет мир, но истина должна восторжествовать]? Но книга об Эйхмане де-факто даже не касалась этих вещей. Книга на самом деле не задевает ничьих легитимных интересов. Она была только задумана такой.
Гаус: Вы должны оставить вопрос о том, что легитимно, открытым для обсуждения.
Арендт: Да, действительно. Вы правы. Вопрос о том, что легитимно, все еще открыт для обсуждения. Я вероятно под «легитимностью» имею в виду нечто другое, чем еврейские организации. Но давайте предположим, что на кону были реальные интересы, которые даже я признаю.
Гаус: Можно ли умолчать об истине?
Арендт: Могла ли я? Да! Конечно, я могла написать это… Но смотрите, кто-то спросил меня, если я принимала участие в том или этом, разве я не должна была написать книгу об Эйхмане по-другому? Я ответила: Нет. Я столкнулась с выбором: писать или не писать. Потому что можно держать язык за зубами.
Гаус: Да.
Арендт: Не всегда надо говорить. Но сейчас мы пришли к вопросу, который в XVIII веке называли «правда факта». Это действительно вопрос правды факта. Это не вопрос мнений. Исторические науки в университетах являются хранителями правды факта.
Гаус: Они не всегда были лучшими.
Арендт: Нет. Они потерпели крах. Они контролируются государством. Мне рассказывали, что историк заметил по поводу какой-то книги об истоках Первой мировой войны: «Я никому не дам запятнать память о таком духоподъемном времени!» Вот человек, который не знает, кто он такой. Но это не так интересно. Де-факто он хранитель исторической правды, правды фактов. И мы знаем, как важны эти хранители на примере большевиков, где история переписывалась каждые пять лет и факты остаются неизвестными: например, что был когда-то Троцкий. Это то, чего мы хотим? В этом заинтересовано правительство?
Гаус