Психи, тихушники и прочие фрики, или Они это заслужили
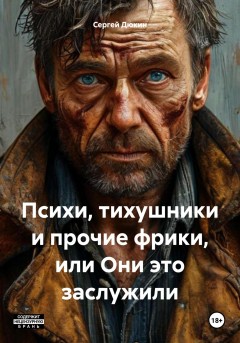
Предисловие
В этой книге правдиво каждое слово. Все сведения имеют документальный характер. Описанные события рассмотрены буквально под лупой. Лупой служит память автора. Я уверен, что идеально помню все те события и всех тех людей, о которых решил написать. Помню даже отдельные слова и фразы. И многие из них я здесь воспроизвёл. Это своеобразный гиперреализм. Такой метод подразумевает утрирование того, что есть или было в действительности. В нашем случае того, что было. Если взять фотографию и жирной линией обвести контуры изображённого человека, получится уродство. При этом тот, кто обводит, не привносит ничего от себя. Он использует лишь то, что дала реальность. Примерно тоже самое решил сделать и я. Мне захотелось заставить проявиться более яркими красками небольшую часть того, что я застал в детстве и юности на изломе советского общества с его специфической культурой.
Теперь спрашивается, зачем? Это не мемуары. Мои мемуары не имеют ни малейшей ценности, разве только для ближайшего круга друзей. Но я надеюсь на больший круг читателей. А потому возьмусь объяснить, чем мои воспоминания о родственниках, соседях, некоторых друзьях могут быть интересны и полезны определённому кругу людей, которые, надеюсь, возьмут в руки эту книгу. Я считаю, что рассказанные здесь истории о психопатах, шизофрениках, самоубийцах, алкоголиках, уголовниках, просто девиантах характеризуют советско-российское общество 80-х – 90-х. Отчасти такая ситуация характерна и для начала нынешнего века.
Замысел книги возник в момент, когда я осознал, насколько высока в моей жизни концентрация всевозможных придурков. При этом я никогда не пытался окружать себя такими людьми. Я их не коллекционировал. Да и даже если бы стремился пополнять их ряды вокруг себя, то вряд ли это получилось у меня в те годы, поскольку описываемый период – это, большей частью, времена моего детства и юности. В эти годы окружение формируется самим человеком, как правило, только на уровне дружеской компании. И в этом смысле у меня все было хорошо. Среди моих друзей откровенных девиантов в те годы не было. Вся чернуха существовала только в объективной среде, среди тех окружавших меня людей, которых я не выбирал.
В первой части книги описываются жители обычного жилого дома, расположенного в самом обычном пермском микрорайоне (не центр, но и не дальняя окраина, спальный, но не рабочий район), который никогда не славился какой-то особой криминагенностью, с совершенно разношёрстным населением. А было ли оно где-то монолитным? Да, было. Отдельные части города застраивались промышленными предприятиями, а, следовательно, превращались в микрорайоны, заселённые почти исключительно заводскими работягами и их семьями. В таких местах часто формировался не очень располагающий к прогулкам там посторонних людей социальный фон. Во времена моего тинейджерства, то есть на рубеже 1980-90-х, существовал условный список «поселочков», в которое соваться без лишней надобности не стоило. Это были части города, где почти со стопроцентной гарантией могла подойти шобла гопников в телогрейках с козырным вопросом: «Откуда?» В этом случае полагалось назвать свой район и перечислить знакомые клички гопников. Мы с друзьями называли главных отморозков из собственной школы. Это срабатывало. В таком случае можно было откупиться содержимым карманов. В противном случае могли хорошенько отдубасить.
В нашем случае речь идёт совсем не о таком районе. И в самом доме, жители которого попали в фокус моего внимания, не было ничего особенного. Обычная четырехподъездная пятиэтажка, «брежневка» 1967 года постройки. Немаловажно, что это жилищный кооператив. То есть будущие жильцы сами вкладывались в строительство, а не получали квартиры от государства. В советское время было принято считать, что в «кооперативных» домах люди живут чуть более приличные, чем в обычных, государственных.
Итак, однажды я понял, что концентрация психопатов и убийц в те годы в обычном жилом доме – это вряд ли случайность. Не есть ли эта ситуация отражением общего положения дел? Не происходило ли что-то подобное в большинстве домов периферийных городов на территории, по крайней мере, РСФСР?
А обилие девиаций, больших и малых, в обычной большой советской семье, точнее говоря, в родственном кругу, – это что, исключение? Вряд ли. Мои родственники не особо отличались от множества других простых советских людей. Все мои родные по материнской линии – мигранты из села, либо их потомки в первом поколении, погруженные в рурализированную среду, то есть продолжавшие вести в городе деревенский образ жизни, даже если, в конечном счёте, были вынуждены поселиться в обычном городском многоквартирном доме. По всей стране таких были миллионы. Это люди, ставшие жертвами революции, гражданской войны, эпидемий и большого голода рубежа 1910-20-х, перипетий индустриализации и коллективизации. О родственниках я рассказываю во второй части книги.
Третья, последняя, самая маленькая часть книги, – о друзьях. В какой-то степени это Postcriptum. Речь здесь уже не о воспоминаниях детства и ранней юности. Действие этой части приходится на 1990-2000-е годы. Однако, во-первых, я не мог умолчать о столь неординарных кадрах. А, во-вторых, жизнь и нетривиальные приключения моих друзей, по моему убеждению, это также инерция позднесоветской и реалии ранней постсоветской культуры. Трагичность и парадоксальность этих биографий вполне логично укладывается в общую логику повествования.
Описываемые в книге люди, я уверен, представляют все позднесоветское и постсоветское общество. И моя задача при описании странностей и ужасов, нелепостей и идиотизма, сопровождавших жизнь моих родственников, соседей и друзей – показать процесс, сопровождавший на антропологическом уровне постепенный коллапс советской системы, а также инерцию этого кризиса и распада. Я хочу, чтобы читатель ощутил этот развал человеческих отношений не через статистику, не через производственные показатели, а через никчёмные, а порой страшные судьбы самых простых людей, которые были близки друг к другу в социуме и в пространстве, хотя, в основном, не были знакомы один с другим.
И ещё. С одной стороны, кое-кто из героев повествования на момент окончания этой книги, к счастью, до сих пор жив. И хочется верить, что это с ними продлится ещё долго. Но большинства уже нет. И ужасно осознавать, что многих из этих людей, наверное, уже никто не помнит. Вообще никто. Я последний, кто что-то может о них рассказать. Ну, возможно, в отдельных случаях кто-нибудь очень смутно может вспомнить, что была там какая-то… Но как её звали? Впрочем, даже в этом я сомневаюсь. А ведь жили-то они совсем недавно. И вот они исчезли совершенно. Могилы заброшены, фотографий не осталось, нет никаких записей. Стёрто абсолютно все. Был ли мальчик-то? А вот и был. Много их было, таких мальчиков и девочек.
Если исходить из того, что очевидцев не осталось, казалось бы, имена можно сохранить неизменными. Но это было бы неэтично, поскольку о фактах в книжке рассказывается непрезентабельных. Потому по этическим соображениям имена, либо фамилии несколько изменены.
Часть
I
. Соседи
Глава 1. Коленька, Лизонька, Ниночка…
На втором этаже, в угловой однокомнатной квартире, прямо напротив нас жил Коленька1. Тогда, во времена моего детсадовского детства, он казался мне стариком. На рубеже 1970-80-х ему было где-то под 60. То, что он придурковат, я знал, казалось, с рождения. Эта была придурковатость мирная, незлобная, даже какая-то добродушная. Сейчас я понимаю, что в те годы моё подсознание воспринимало Коленьку в качестве обязательного атрибута любого мини-сообщества. У всех должен быть свой придурок, – шептала мне моя детская интуиция. Интуиция, как известно, основана на реальном опыте. А мой детский опыт вмещал в себя множество душевно больных. Это были многочисленные дауны, олигофрены, дебилы, заполнявшие собой наш и соседние дворы, улицы, трамваи. Молодой мужик по имени Вовочка, нескончаемо бегавший вокруг гигантской клумбы в нашем дворе, или районный сумасшедший Толя Терехов, именем которого бабушка ругала своих домашних, если хотела подчеркнуть нашу недалёкость, – все они составляли фон нашего существования. Некоторые из дурачков вселяли лёгкий ужас. В Коленьке этого не было. Он казался каким-то своим. Однако не до конца.
Однажды он зашёл к нам по каким-то соседским делам. Мне было года два. Увидев его, я спрятался под швейную машину. Коленька тут же поставил диагноз: «Знаю, знаю. Болезнь такая. Боязливость». Сам я этого эпизода не помню. Мама рассказывала.
Эта сцена важна для понимания того, что для неокрепшего детского сознания внешний вид этого добродушного соседа рождал страх и панику. Коленька было смуглым, скорее всего, от застоявшейся на лице грязи. Плюс к этому, вечная щетина на лице. Правда, до усов и бороды дело никогда не доходило. Своеобразия внешности придавало особое выражение лица: смесь лёгкого наивного восторга и некоторого перманентного возмущения.
Говорил Коленька тоже атмосферно. Чуть ли не каждая фраза предварялась оханием, и многие слова повторялись дважды. Характерна фраза: «Ох, ох, у нас на мусорке, на мусорке, мужик один, мужик работает. Ох, ох….».
Мама говорила, что он кретин. В строгом медицинском смысле. Но, скорее всего, нет. Кретины имеют более ярко выраженные внешние признаки физического отставания. Обычно они маленького роста, с непропорционально сочетающимися частями тела. Там было что-то более лёгкое. Но точно было. Хотя, скорее всего, никакого диагноза ему никто никогда официально и не ставил.
Коленька был ветераном войны. Сам он говорил, что служил на войне конником. На самом деле, извозчиком, – возил для солдат провизию. Он сам об этом рассказывал. Не помню, чтобы он носил какие-либо награды. Скорее всего, у него их не было. В то время этот факт почему-то не вызывал вопросов. А мог бы. У всех ветеранов войны были награды, хотя бы немного, хотя бы юбилейные медали. У Коленьки не было никаких. Зато он говорил, что знал польский язык. И выучил он его во время освобождения Польши. В доказательство он произносил неизменное «Прошу пани», а затем следовало звукоподражание из нагромождения шипящих.
Коленька любил рассказывать о своих профессиональных трофеях. Дело в том, что работал он мусорщиком. Ездил на грузовике (водил грузовик другой человек) и загружал в него мусор, а потом разгружал на свалке. Вот на этой –то свалке Коленька постоянно находил какие-то вещи. Это были одежда, игрушки, иногда шоколадки, конфеты. Помню, как однажды он вынес свои находки на лестничную площадку и показывал их соседям. Как-то он обронил фразу: «Я вот на мусорке проработал всю жизнь, так семью прокормить смог». Имелись ввиду как раз-таки находки.
У Коленьки была жена. У нас дома её называли Лизонькой. В отличие от своего мужа, явными диагнозами она не обладала. Правда, потом уже моя мама рассказывала, что жена Коленьки была до невозможности конфликтна. В основном, это проявлялось в магазинах. Для продавцов почти каждый раз появление там Лизоньки заканчивалось предынфарктным состоянием. Поводы для скандалов эта старушка видела повсюду и использовала их на полную катушку. А в остальном это была обычная старушка. Смешно теперь думать о том, что считалась она бабушкой. Ведь она даже до 60-и не дожила. Лизонька болела раком. Ослабленная и немощная она лежала дома и умирала. Моя бабушка время от времени ходила её проведать, беря меня с собой. Пожилая женщина очень тихо и медленно что-то говорила, постанывала. Хорошо помню, как тающим голосом она попросила подложить что-нибудь под голову, которая скатывалась. Коленька при этом деловито ходил по комнате и как-то нервно и судорожно, но в тоже время бодро и оптимистично приговаривал: «Давай, давай скорее умирай. Умирай давай». Последняя фраза произносилась подчёркнуто повышенным тоном. После, поглаживая себя по животу, самодовольно продолжал: «Ох, женюсь, женюсь. Семейка новая будет. Я ведь могутный, могутный».
Мужская сила вообще была особым предметом гордости Николая Ильича (оказывается, у него было даже отчество). Кстати, сей факт указывает на то, что критинизмом он не страдал, так как сексуальна функция у кретинов страдает. Про свое «могутство» он рассказывал соседкам (больше было некому) почти ежедневно. Как-то я случайно подслушал рассказ про то, как какая-то бабешка зазывала Коленьку в подвал, приговаривая при этом: «Давай, давай, пойдем. Я знаю, – ты могутный». Источником своей мощной потенции наш герой считал «Малинку», – его фирменный напиток. У Коленьки была некая легендарная ямка, – не то огород, не то лесной овраг с малинником. О подробностях он умалчивал. Там он собирал малину, а затем замачивал её в банке. Делал он это на воде. Ничего крепкого он, кстати, кажется, не принимал вообще. Разве что немного пива в жару. Образец напитка выглядел так – пара десятков ягод малины, плавающие в трехлитровой банке с водой. Так он настаивал «Малинку» пару, тройку дней, а затем эту воду выпивал. Результат декларировался следующим образом. Поглаживая себе по животу, Коленька приговаривал: «Ооооох, я здоровый, здоровый, могутный, – малинку пью. Крови мнооооого. Малинку надо пить, ох, ох».
Итак, наш герой ждал, когда жена освободит его от своего присутствия, и он сможет в полную силу реализовать своё могутство. И вот однажды…
Был воскресный вечер. Мама, кажется, гладила, собиралась укладывать меня спать. Мне было тогда года четыре. И вдруг звонок в дверь. Это был Коленька. Вытаращив глаза, явно преисполнившись в тот момент большими планами и надеждами, задыхаясь от чувства больших перемен, грядущих в его жизни, он судорожно как будто прокричал: «Люба, Люба, Лизонька скончалась. Выписывай, выписывай быстрее». Поясняю: мы жили в «кооперативном» доме, и книжки, в которых были прописаны жильцы, хранились у членов правления ЖСК. Моя же мама работала бухгалтером кооператива. Соответственно, у неё хранилась «домовая книга» нашего подъезда. Таким образом, первое, чем озаботился Коленька в момент смерти жены, – поскорее выписать её из квартиры.
Затем новоиспечённый вдовец занялся организацией похорон. И здесь не обошлось без эксцессов. Когда старушка лежала в гробу, поставленном на столе посреди квартиры, Коленька в буквальном смысле чуть не сжёг труп жены вместе с мебелью. На гроб были поставлены ритуальные свечи, одна из которых упала, когда наш герой пошёл выносить мусор и зацепился языками с соседками. Вернувшись, он застал начало настоящего пожара. Гроб уже начал гореть. Потушил пожар Коленька сам. Пожарных не вызывали.
Вскоре после смерти Лизоньки в квартире Коленьки появилась другая старушка. Звали её Ниночкой. Я был уверен, что это и есть его новая жена, о которой он мечтал и грезил. Уже после всех событий, которые я сейчас опишу, я узнал, что эта «старушка» была дочерью Коленьки. И было ей тогда где-то лет 25. Выглядела Ниночка нелепо и немного странно. И опять же, уже потом мне стало ясно, что это внешний признак какого-то врождённого ментального отклонения. Ниночка училась во вспомогательной школе. Иногда она лежала в психбольнице. Обладала она характерной специфической для такого особого рода людей внешностью. Точно помню, что глаза были немного навыкат, одутловатое лицо. Остальное в деталях описать уже не могу.
Со слов мамы знаю, что Ниночка была замужем (официально или нет, не знаю, и никто уже не скажет). Муж был также из тех, кто обладает официальным диагнозом и учится в особой школе. Звали его Толиком. Ниночка его безумно любила. А Толик тем временем водил домой других женщин и спал с ними прямо в присутствии жены. Супругу он перекладывал на пол. В какой-то момент Ниночка ему, видимо, совсем надоела, он посадил её в такси и привёз к отцу.
Ниночка часто приходила к нам, посидеть, по-соседски поговорить. Правда, обычно она приходила, садилась и молчала. Как-то бабушка предложила ей что-нибудь сказать, на что та возмущенно ответила: «А чего говорить-то». Сделано это было как-то конвульсивно и агрессивно. Правда, иногда она все же о чем-то рассказывала. Я, будучи 4-5-летним ребёнком не прислушивался. Но отчётливо помню, что свои спичи она часто заканчивала фразой: «Вот ведь горе-то, ааа, задавлюсь». Бабушка, как принято в таких случаях, пыталась её урезонить. «Ну, что ты, Нина, такое говоришь-то. Перестань».
Запомнился мне ещё такой эпизод. Однажды вечером зашёл к нам Коленька и пригласил маму с бабушкой к себе, – решил показать новый кухонный буфет. А покупка соседом нового буфета долго обсуждалось у меня дома как крайне важное и достойное пересудов событие. Я увязался за старшими. Посмотрели на буфет, укорили Коленьку – зачем, мол, на новый буфет доски от старого прибил. Тот ответил: «Ох, ох, так красивее, красивее». Мама с бабушкой посокрушались, махнули рукой и пошли домой. Буквально перед порогом мама бросила: «А где Ниночка-то у тебя? Чего она закрылась? Испугалась что ли»? Через полсекунды дверь из комнаты резко распахнулась, появилась Ниночка, и раздался страшнейший историчный вопль на полную громкость: «Сааааамаааааа испугаааааалась». После этого что-то ещё типа: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» с истошным хрипом, в который переходил вопль». После этого была какая-то энергичная перепалка между мамой и бабушкой, с одной стороны, и Ниночкой, с другой. Коленька при этом испуганно охал.
Важной темой взаимоотношений между отцом и дочерью была еда. Ниночка любила поесть, по крайней мере, с точки зрения Коленьки. Встречая моих старших, он частенько жаловался: «Ох, ох, я пойду в магазин, продуктов накуплю, а она все пожирает у меня». Если Ниночка была поблизости, то выбегала и истошно орала: «Сааааааам пожираешь». Как-то старик специально пришёл к нам, чтобы пожаловаться на то, что дочь съела у него шоколадку. Помню, как бабушка стала на защиту Ниночки: «Ну что уж ты, Коля, она ведь все же дочь твоя. Что уж ты шоколодки-то для неё пожалел».
Однажды ранним утром буднего дня, часов в 6 утра в нашу дверь позвонили. Это был Коленька. Как всегда несколько торопясь, немного панически, хотя и не более чем обычно, он произнёс: «Ох, ох. Это, Ниночка, Ниночка че-то в петле трепыхается». Мама с бабушкой немедленно последовали за ним. Когда они зашли в соседскую квартиру, Ниночка полулежала в постели, голова была приподнята, так как находилась в петле, прикреплённой к металлической спинке кровати. К тому моменту молодая женщина трепыхаться уже перестала. Своё обещание удавиться она всё-таки выполнила. Как я опять же узнал гораздо позже, её твёрдое намерение покончить с собой было связано с несчастной любовью, с изменами Толика, которого она боготворила. Она мечтала вернуться к нему, ждала, что он приедет за ней и заберёт обратно. На увещевания моей мамы насчёт того, что «зачем нужен такой гад, который других баб водит», Ниночка отвечала: «Так а что же, ведь он иногда и со мной тоже спит».
Примерно через год к нам пришёл Толик. Это был типичный молодой мужчина с явными ментальными отклонениями, с глазами навыкат, в кепке, сдвинутой на макушку. Он спросил, живет ли в квартире напротив Нина Галанова. Бабушка ответила, что она год тому назад удавилась. Толик принял информацию к сведению, ответил: «Хорошо» и удалился.
Через несколько лет у Коленьки поселился его сын Валерик. Так его называли у нас дома, объясняя это тем, что «тоже, мол, придурок». Было ему тогда лет 40. Какими-то экзотическими девиациями, в отличие от отца и сестры, Валерик не отличался. Пил без скандалов, без лишнего шума. Шум создавался от того, что он начал притеснять, а потом и избивать отца. Особенно это стало очевидным после того, как уже в 1990-е он привёл сожительницу, вместе с которой они торговали водкой на центральном рынке. Парочка выгнала Коленьку жить на кухню. Из их квартиры постоянно раздавались крики старика, которого, судя по всему, систематически избивали. Немного погодя, Валерик и его подружка сдали Коленьку в дом престарелых. Там он вскоре умер. Правда, откуда-то я помню, что незадолго до смерти он все же реализовал свою давнюю мечту, – женился. Что собой представлял его второй «брак», – представления не имею. Возможно, что никакого брака и не было…
А про Валерика вскоре после того, как он отправил отца в дом престарелых, соседи начали поговаривать, что вот, мол «Бог наказал». Дело в том, что Валерия посадили на пять лет за изнасилование. Представить себе Валерика, который кого-то насилует, было невозможно. И это несмотря на то, что в то время ему было всего лишь в районе 50-и, то есть был он мужчиной в самом расцвете сил. Ходили слухи, что «изнасилование» организовала его сожительница, дабы заполучить квартиру. Смутно помню, что говорилось о том, что жертвой изнасилования была знакомая гражданской жены Валерика, которую она сама подослала к нем в гости, а потом подруга написала заявление. Но квартиру сожительница не получила. Валерик вернулся из тюрьмы. Продолжал пить. Понемногу тиранил соседей. Пытался склочничать в пределах ЖСК. Делал невыносимой жизнь старика, живущего на одной с ним лестничной площадке, повадившись гостить у него, а заодно и столоваться. А потом Валерик как-то незаметно состарился, окончательно спился и умер, кажется, не дожив даже до 70-и. История семьи Голановых закончилась.
Глава 2. Сана Перминов
На первом этаже, также в однокомнатной угловушке жила асоциальная семья: молодой алкаш и полууголовник с женой, шлюховатой алкоголичкой и с двумя маленькими детьми. Главу семьи звали Александром Перминовым. Соседи называли его Сана. Был он стройным высоким брюнетом со слегка вьющимися волосами. Красив, уверен в себе, брутален. Мог бы быть квартальным Казановой. Но он избрал другой путь.
Жену звали Леной. Её я помню плохо, но, кажется, она также была вполне миловидна. По крайней мере, это предполагалось на генетическом уровне. Миловидной она, скорее всего, должна была быть, если бы не спилась к двадцати годам окончательно и бесповоротно. Описываемая история разворачивалась на пару-тройку лет позже того, что происходило в семье Коленьки, то есть в первой половине 80-х.
Во времена моего детства Сана перманентно отбывал какие-то небольшие тюремные сроки. Уже позже я выяснил, что сидел он два раза. Оба срока где-то года по два. В первый раз сел за бытовую поножовщину: пырнул ножом по пьяни не то дальнюю родственницу, не то соседку. Во второй раз, уже будучи рецидивистом, вмазал по морде менту. Когда Сана отбывал второй срок, к его жене стал заезжать какой-то юный мотоциклист. Детвора сбегалась постоять рядом с шикарной машиной красного цвета. Прибегал туда и Андрюшка, сын Саны и Ленки (соседи и свекровь называли её исключительно так). А через некоторое время у Ленки родился ещё один сын. Случилось это чуть больше чем через год после того, как посадили мужа. Сына назвали Славиком. После того как Александр вернулся из тюрьмы, я неоднократно слышал из разговоров старших, что ребёнка жены, да и саму Елену, он страшно обижает. Славика так вообще чуть ли не с полного размаха бросает на пол.
Не исключено, что не намного лучше он обращался и с собственным сыном. Сана Перминов был абсолютно законченным злодеем и садистом. Моей маме он неоднократно, хвастаясь, по-соседски признавался: «Мне человека убить, вообще ничего не стоит». Правда, до людей дело так и не дошло. А вот кошек убивал. На глазах у соседей однажды показательно размозжил котёнку голову, ударив его со всего размаха об стену.
Через некоторое время Сана овдовел. Елена умерла от рака желудка. Было ей где-то лет 25-27. Помню, как моя мама обсуждала её болезнь с тётей Марусей, Сашкиной матерью, которая дружила с моей бабушкой и частенько заходила к нам посидеть, поговорить. Согласно словам моей мамы, Лена пила и не закусывала. А тётя Маруся поддакивала, списывая на невестку алкоголизм собственного сына. Он без неё-то, мол, может и не так бы пил.
После смерти Елены, Сану лишили родительских прав. Андрея сдали с детдом, а Славика усыновила тётка его покойной матери, живущая в Москве. Вскоре в квартире Александра появилась женщина лет на десять старше его. Она работала в заводской столовой. Сашка же регулярно занимал деньги у мамы, или у бабушки. Они давали (не давать было опасно), он возвращал. В качестве благодарности, он через новую сожительницу подгонял нам мясо из заводской столовой. Советская система блата работала даже на таком уровне.
Как-то заливающаяся слезами Валентина (так звали его новую пассию), прибежала к нам в поисках защиты от взбесившегося дружка. Не знаю, избивал ли он её, но точно помню, что кидал в неё кактусами. Забавная деталь: в этом притоне, в гнезде асоциальности росли кактусы. Интересно, – за ними кто-то ухаживал? На этот вопрос уже точно никто не ответит…
Как-то, зайдя к нам в очередной раз за деньгами в долг, подвыпивший Сана похвастался маме: «Я ведь, слушай, в карты хорошо играю». Помнится, что эта тема стала предметом некоторой тревожности в кругу моих домашних. Кажется, мама и бабушка обсуждали это с матерью Александра, предупреждая, что до добра это не доведёт. Тем более, рядом был прецедент. Ещё до моего рождения в нашем же подъезде, жил некто Новичков. Имени я никогда не знал. Обычный мужик, к криминалу отношения не имеющий. Кстати, жил он прямо над квартирой, в которой позже поселилась семья Саны Перминова. В какой-то момент Новичков связался с уголовниками, начав играть с ними в карты. Закончилось тем, что он проиграл им свою квартиру. Хотя, возможно, он проиграл им деньги, но на такую сумму, которая была эквивалентна стоимости его кооперативной однушки. Помимо него самого в квартире жила жена. Моя мама помнит, как к ней приходили какие-то урки, спрашивая, каким образом можно отписать «кооперативную» квартиру. И вот однажды ночью к дому приехала машина, из которой вышли некие люди, поднявшиеся к квартире Новичкова. Они потребовали его выйти к ним на разборки. Хозяину ничего не оставалось, как пойти. Утром его нашли убитым рядом с домом.
В какой-то момент (это было в 1984 году), Сана стал каким-то особо беспокойным. Вроде и пить стал больше, и деньги занимал чаще. Потом вообще стал бегать по соседям, умоляя купить у него постельное белье. Эта эпопея продолжалась неделю-две. А потом к нам зашла тётя Маруся и спросила: «Вы Сашку не видели? Он пропал, и попасть к нему в квартиру я не могу – дверь не открывается. Он ко мне пришёл пару дней назад. Денег просил. Я не дала. Он на это заявил, что сейчас придёт домой и повесится». Этой угрозе старушка особого значения не придала, так как сын ей неоднократно говорил, что от такой жизни как у неё он бы уже давно покончил с собой. Под «такой жизнью» он имел ввиду постоянное третирование и унижение его матери со стороны его же старшей сестры, в квартире которой жила тётя Маруся.
Итак, Сана пропал, найти его никто не мог, на работу он не выходил уже несколько дней (работал он электриком на пивзаводе), дверь в квартиру открыть не получалось. Тётя Маруся заходила к нам ежедневно, сокрушалась, не понимая, куда подевался непутевый сын, особо при этом не паникуя, или не подавая вида. Ушёл он от неё в субботу, а почти через неделю после этого, в пятницу все стало ясно. Подъезд, по крайней мере, между первым и вторым (нашим) этажами заполнился сильнейшим трупным запахом. На лестничную площадку было невозможно выйти. Дело было в июле. А лето выдалось жарким. Сана своё обещание, данное им матери, выполнил. Как выяснилось позже, сначала он заколотил дверь гвоздями, после чего перерезал вены, но осознав, что пользы от этого никакой, повесился на проводе от утюга на батарее в ванной, поджав ноги. Сана оставил записку со словами: «Я ни в чем не виноват. Меня оклеветали». Из петли его вынимала сожительница Валентина, с которой он к тому времени рассорился, и, кажется, расстался. Потом она признавалась, что предварительно закинула в себя стакан водки. После этого она подошла к начавшему разлагаться бывшему возлюбленному, сказала: «Ну, Перминов, держись», и перерезала верёвку. Кто его подхватил, – не знаю. Я видел в окно, как Сану выносили. Было очень страшно…
Причина суицида осталась загадкой. Возможно, Александр проиграл в карты большую сумму и, согласно бандитским понятиям, покончил с собой из соображений воровской чести. Может быть, поставил на кон душу. Примерно через месяц к уже описанному в первой главе Валерику зашли какие-то двое уголовного типа мужчин и спросили: «У вас на первом этаже сосед повесился?». Валерик ответил утвердительно. На это визитёры удовлетворительно кивнули головами, сказав что-то типа: «Ага, ну, все хорошо» и ушли. Но не исключено, что это была обычная белая горячка, наложившаяся на манию преследования или на какой-то другой психоз. Самоубийце было чуть за 30. Я по прошествии сорока лет с тех пор до сих пор не могу проходить мимо этой квартиры без некоторого внутреннего содрогания.
Вскоре в квартиру вернулся сын Перминова Андрей. Вместе с ним поселилась опекунша, его бабушка по матери. Её называли Томачкой. Она пила, но по сравнению с прежними хозяевами квартиры умеренно. Андрюшка был обычным полууличным парнем. Иногда я ходил за ним, чтобы пригласить его поговорить по телефону с его второй бабушкой тётей Марусей, которая звонила нам с просьбой позвать внука. Потом он вырос, стал профессиональным вором. Не помню, как он потерял квартиру. Знаю лишь, что бомжевал, сидел, потом опять бомжевал. В конце концов, его нашли в подъезде мёртвым. Не то передоз, не то туберкулез. Про Славика, которого забрали в Москву, я ничего не знаю.
Глава 3. Алевтина и другие
Прямо под нами, в небольшой двухкомнатной квартире «трамвайчиком» жила семья Бычковых. Пять человек. Баба Таня, ее сын Толик, сноха Алевтина, внуки Витюша и Андрюша. Баба Таня, в то время старушка лет 75-и, была обладательницей хриплого, но очень мощного и вечно кричащего голоса. Большую часть своего времени она проводила с подругами-ровесницами на скамейке у подъезда. Слышно бабу Таню было всегда. Однажды живший в доме мужчина, отработавший в ночную смену на заводе и пытавшийся отоспаться днём, вышел и отматерил по полной программе старушку, не умевшую сдерживать свою экспрессию. Сама она время от времени не без гордости и самолюбования говаривала: «А что, у меня ведь глотка-то лужёная». Но сама по себе баба Таня вряд ли удостоилась бы чести стать героиней нашего повествования.
Жена её тихого и безобидного сына Анатолия была гораздо интереснее и выразительнее. Все дело в ней. Если бы я знал в детстве такие слова как коммуникабельная, спортивная, эмансипированная, я бы применил их к Алевтине. Именно такой она мне запомнилась из раннего детства. Спортивной была вся семья. У них было четыре велосипеда, которые висели под потолком в маленькой прихожей. Сейчас я не понимаю, где они там умещались, и как там можно было при этом проходить. Четыре «Урала» должны были занимать абсолютно все пространство в коридорчике. Помню, как по выходным тётя Аля с дядей Толей и два их сына – погодки выезжали на велосипедную прогулку. Это казалось будто бы сценой из фильма. Больше я с такой идиллией нигде не встречался. А иногда они ездили аж на мотоцикле с коляской «Иж-Юпитер», что говорило об определённой степени материального благополучия и даже лёгкой степени зажиточности по-советски.
Несмотря на подобное внешнее благополучие, опасные сигнальчики начали появляться. Первым из них стала борьба Алевтины с туберкулёзом. Дело в то, что баба Таня кашляла. Кажется, у неё была астма. Она сама об этом говорила. Но невестка диагностировала у неё туберкулез. Здесь надо учесть, что места в наших квартирах для таких больших семей катастрофически не хватало. А тут ещё и туберкулез, пусть даже с приставкой псевдо. В семье Бычковых отдельно жили супруги. У них была своя маленькая дальняя комната. А в большой проходной комнате баба Таня жила со своими внуками-подростками. Кстати, спала старушка на сундуке. Помнится, в детстве меня этот факт интриговал. Я даже, кажется, бабе Тане немного завидовал. Тоже хотелось променять свою обычную кровать на экзотическую штуку, – сундук. Так вот, в целях борьбы с заразой Алевтина поступила следующим образом. Она переставила шифоньер, стоявший вдоль стены между сундуком свекрови и кроватью одного из внуков, поперек комнаты, перпендикулярно по отношению к стене. По убеждению молодой женщины, эта мера была способна победить туберкулез.
А ещё баба Таня и Алевтина держали кошек. У каждой был свой собственный зверь. Старушкину кошку звали Хохлатка. Алевтина это животное ненавидела. И вот, однажды она посадила Хохлатку в мешок, крепко перевязала и отнесла на помойку. Кошка либо задохнулась, либо погибла на свалке, будучи раздавленной ножом бульдозера.
А затем началась уголовка. Ну, это с точки зрения банальной обыденщины, то есть здравого смысла, кажется, что уголовка. Советский суд решил, что дальше нарушения административного права дело не зашло. А было все так. Алевтина пришла с работы домой, зашла в комнату. Баба Таня дремала на своём сундуке. Невестку это несколько огорчило. Она взяла нож и воткнула его в мирно лежавшую старушку. Кто и когда вызвал милицию, – сейчас уже никто не помнит. Но был суд. Алевтине дали 15 суток административного ареста, признав ее поступок мелким хулиганством. Моя мама свидетельствовала на суде против Алевтины, предлагая отправить ее в психбольницу. Над таким предложением посмеялись. Этим дело и закончилось.
Через пару лет приезжаю я из пионерского лагеря, и мне в качестве одной из главных новостей сообщают, что тётя Аля сошла с ума и угодила на Банную Гору (адрес пермской городской психбольницы). История её сумасшествия была такой. Для начала она нарезала огурцы, картошку и колбасу, покрошила в унитаз, после чего стала звать всех своих есть окрошку. Затем последовала прогулка по центру Перми с вилком капусты. Она отрезала от вилка кусочки и очень назойливо предлагала попробовать свежей сочной капустки всем попадавшимся навстречу. Последней выходкой стала попытка выколоть глаза вязальными спицами мужу Толику. После этого Анатолий вызвал психобригаду и отправил жену в психбольницу. Во время её лечения он с ней развёлся и вместе с матерью бабой Таней поспешно переехал в другую квартиру в том же доме.
Алевтину подлечили. Последующие года 3-4 не помню, чтобы она как-то особо о себе напоминала. Но потом началась следующая стадия болезни. Возможно, это было спровоцировано начавшимся одиночеством. Старший сын Витюша уже давно как закончил школу и поступил в военное училище в другом городе. А к этому времени младший, Антоша, кажется, женился и тоже съехал. Вот тут-то Алевтина и пустилась во все тяжкие.
Последовательность событий не помню, но общий набор её проделок был таков. Во-первых, женщина (ей было тогда где-то около пятидесяти) решила, что главным её врагом должна стать наша семья. А поскольку жили мы прямо над ней, об основании для жалоб думать было не надо. Мы обвинялись в систематическом нарушении покоя. Другим соседям Алевтина рассказывала, что в два часа ночи мы снимаем тапки (важная и неизменная деталь в этих рассказах) и начинаем целенаправленно топать по полу, чтобы разбудить её и вообще всячески испортить жизнь. Мы в это время, разумеется, спали.
Во-вторых, если уж, вправду, то днём мы, действительно, иногда слегка шумели (я мог прийти домой со школьными друзьями послушать музыку, которую мы включали не слишком тихо, хотя и не на полную катушку), Алевтина мстила. Расплачивалась она с нами жёстко. Она выливала к нашей входной двери фекалии. Такое случилось раза три-четыре. Как это прекратилось, – точно не помню. Скорее всего, закончилась эта самая неприятная для моей семьи часть приключений соседки снизу тем, что она вновь угодила на «Банку» (традиционное название городской психбольницы в соответствии с её адресом). А попала она туда на сей раз за то, что «травила невидимок». Травила она их очень просто, – газом. То есть открывала газ на плите, разумеется, не поджигая его, и уходила на некоторое время из дома. Гуляла часок-другой, возвращалась, выключала газ и расслаблялась от осознания того, что невидимки вымерли. Про «невидимок» она сама рассказывала кому-то из соседей, спрашивавших, зачем же она уж так-то, «ведь и взорваться может». На это Алевтина и посетовала, что «невидимки развелись в квартире и никакой жизни совсем не дают, приходится травить газом. Это единственный выход». Кто-то вызвал психобригаду. Вроде бы это сделал бывший муж Толик. Алевтину увезли и немного подлечили. Вернувшись из больницы, она на какое-то время забыла про невидимок и, кажется, даже стала здороваться с нами. И, вроде бы, этот сценарий потом повторился ещё раз, или два. И. как минимум, один раз психобригаду Алевтине вызывала моя мама. Причём на сей раз поводом стала не «борьба с невидимками», а сильные удары по стене поздними вечерами. Это была акция по устрашению, или наказанию нашей семье за все те невзгоды, которые мы приносили соседке снизу.