Мещёрские сказы. Взгляд этнолога
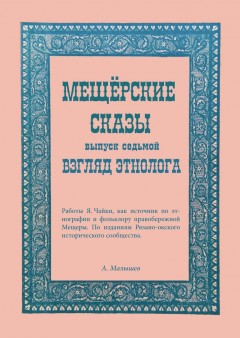
© Малышев А. В.
Мещёрские сказы
С 2018 г. благодаря усилиям руководителя Рязано-окского исторического сообщества Серёжина Игоря Александровича выходит в свет серия произведений рязанских этнографов и краеведов под общим названием «Мещерские сказы». Серия включает в себя самые разноплановые произведения, среди которых и этнологические заметки, и собрания былин, сказок, духовных стихов, и опыт эпической прозы. Особняком в этой серии стоит труд рязанского археолога и этнографа Я. Чайки. Книга, названная «Тропами Варды», является описанием личного опыта автора в исследованиях этнографии правобережья Средней Оки, которое можно назвать «сердцем» древней Мещеры.
Фольклорно-этнографический труд «Тропами Варды» представляет собой уникальный по жанру и по манере подачи этнографический материал, в котором автор выступает не просто сторонним наблюдателем, а участником действий и обрядов, записанных им во второй половине XX в. в этнографических экспедициях, проведённых в сёлах и деревнях Шиловского и соседних районов Рязанской области.
Рис. 1. Обложки первой и второй частей произведения Я. Чайки
Данный труд примечателен присутствием значительного финно-угорского (условно «мордовского») лингвистического следа в преданиях, заговорах и обрядах, собранных Я. Чайкой. Этот след обусловлен в первую очередь тем, что финно-угры были непосредственными участниками этногенеза местного населения. На рубеже старой и новой эр вся территория Среднеочья была заселена племенами городецкой культуры, которую большинство исследователей в этническом отношении связывает с предками окских и в целом поволжских финнов[1]. К финским памятникам относят и рязано-окские могильники I тыс. н. э., локализуемые в основном на территории Среднеочья[2]. Их связь с автохтонным городецким населением убедительно обоснована археологией[3].
В конце I тыс.н. э. финно-угры, жившие в правобережье Средней Оки, встретили здесь племена боршевской культуры, которую связывают с вятичами[4]. А вятичей, в свою очередь, считают славянами. Однако В. Седов полагал, что «вопрос о племенной принадлежности населения, оставившего памятники боршевской культуры, ныне не может быть решён окончательно»[5]. Действительно, данные археологии и лингвистики позволяют усомниться в том, что вятичи были славянским племенем, возможно являя собой некий союз племён, в котором финно-угры играли не последнюю роль.
На самом деле «Повесть временных лет», являющаяся одним из главных источников сведений о расселении славянских народов на территории Восточной Европы в конце I тыс. н. э., перечисляя племена, у которых «Се бо токмо словенск язык в Руси», ни вятичей, ни радимичей в этом списке не упоминает. Источник указывает только, что и те и другие «от рода ляхов», где «были два брата у ляхов – Радим, а другой Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили название своё вятичи»[6]. То есть выходцы из Центральной Европы – Радим и Вятко – со своими родами возглавили народности, жившие по рекам Соже и Оке. Кроме того, описывая похоронный обряд вятичей, летописец указывает, что после сожжения покойника его прах «вложаху в сосуд мал и поставляху на столпе на путех»[7], в чём видна аналогия с финно-угорскими «домиками мёртвых». Хазарский каган Иосиф в своей переписке также славян и вятичей упоминает раздельно[8].
О том, что вятичи являются финно-уграми, утверждалось ещё в начале XX в. Обладавший широчайшим кругозором исследователь, П. Якобий на основании лингвистических и этнографических данных уверенно относил вятичей к восточно-финскому племени[9]. Характерно, что и некоторые современные исследователи говорят о том, что вятичи были племенем, смешанным из «асов и местной мордвы»[10]. Опираясь на созвучие племенного названия вятичей с будинами, упомянутыми Геродотом, их можно принять за некие остатки племени будинов (вутинов), населявших, по мнению учёных, эти же территории[11]. Вятичи-вутины, несомненно, были близки волжским финнам, и неслучайно их прочили в предки мордвы[12]. Во всяком случае, В. Татищев утверждал, что «Вятичи <были> прежде Сарматы, потом Славяне…», то есть уверенно причислял вятичей к сарматам, которые, по его терминологии, были финнами[13].
К началу II тыс. н. э. народы, возглавляемые родом Вятко (вятичи), заняли всю территорию западной и центральной частей современной Рязанской области и проникли и в восточную часть, где смешались с местными финно-уграми – предками мордвы.
Тогда же, в начале II тыс. н. э., на территорию правобережья Средней Оки началась экспансия киевских потомков Рюрика. Рюриковичи столкнулись здесь с уже сложившимся населением из вятичей и живущих восточнее финно-угров. Впоследствии вся территория Среднеочья получила название Мещера, по которой населявшие её финно-угорские («мордовские») племена стали называться мещерой. Следует отметить, что данное название области и народа возникло в русском летописании сравнительно поздно. В ранних летописях никакой Мещеры нет. Она появляется в поздних документах Новгородского летописного свода. В XIV в. Софийская летопись указывает: «…По Оце по реце, где потече в Волгу, седить Мурома язык свой, Мещера свой, Мордва свой язык»[14]. Этот факт может говорить о том, что именно название географической области сделалось для её коренных жителей этнонимом в устах соседей и пришельцев. Всё Средневековье выходцев из Мещеры называли на Руси мещерцами, мещеряками, а за тюрками, чьи предки проживали в Мещере, закрепилось название мишари.
Ещё раз повторим, что у нас нет сомнения в том, что населявшие Мещеру финно-угры были именно мордовскими племенами и получили своё название по географической привязке, так же как и мурома, жившая в округе Мурома, и мокша, заселявшая берега Мокши, и терюхане, обитавшие возле села Терюшево. Даже ещё в XVI в. современники говорили о жителях Мещеры как о мордве. Соратник Ивана Грозного князь Курбский указывал: «А нас послал тогда Иван Грозный с тремя на десять тысяч люду через Рязанскую землю и потом через Мещерскую, иде же есть мордовский язык»[15]. В данном случае «язык» означает «народ», и это сообщение свидетельствует о том, что земли правобережной Мещеры были населены мордвой, которая, ввиду географических и политических факторов, этнографически обособилась от других мордовских племён, что впоследствии позволило современникам выделить её в отдельную народность мещеры-мещеряков.
Ордынское нашествие, так катастрофически отразившееся на экономике и численности населения рязанских земель[16], видимо, не сильно затронуло мордовское население края. Местная мордва была скорее союзником и вассалом ордынцев, и какая-то часть рязанских мещерских земель входила в состав золотоордынских улуса Мохши и Мещерского улуса. Только с ослаблением и распадом Золотой Орды мещерские мордвины принимают сторону русских князей. Об этом сообщает летопись, в которой говорится об участии мордвы в разгроме войска царевича Мустафы, вторгшегося в рязанские пределы в 1444 г.[17]
Новый этап существования мещерских финно-угров настал с присоединением рязанских земель и Мещеры к Московскому государству. В XV–XVII вв. археологи фиксируют серьёзное увеличение, в сравнении с домонгольским временем, числа русских поселений в Мещере, в бассейнах Цны и Мокши, не только около рек, но и на водоразделах, что говорит о сельскохозяйственном освоении земель, в том числе и занятых до этого мордвой[18]. Это заселение отразилось в легендах, записанных Я. Чайкой.
«Много лет тому назад на месте Шилово росли большие дубовые леса. Русского люда здесь не было. Ходили только охотники. На месте Борка жила мордва с князем. Однажды пришли сюда три брата-охотника русских, заплутались и вышли к мордовскому посёлку. Мордва их встретила приветливо. Стали братья жить, да на беду младшему полюбилась дочь мордовского князя. Той тоже полюбился русский охотник, но отец и слышать не хотел об их свадьбе. И тогда братья, захватив княжну, убежали. Бегство обнаружилось быстро. Князь послал лучших своих воинов вслед за беглецами, их настигли на поляне, там, где сейчас улица Рязанская. Изрубили братьев мечами, а княжну увезли к отцу».