Война становится привычкой
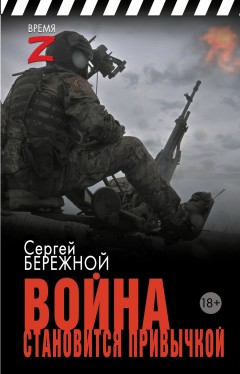
© Cергей Бережной, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Книга «Война становится привычкой» о наших современниках, живых и павших, с кем автору вместе пришлось пройти огонь и воду этой войны, именуемой Специальной военной операцией на территории Украины и Донбасса и контртеррористической операцией на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Эта книга, как и первая «Контракт со смертью», неожиданна и нестандартна, ничем и никак не схожа с иными о дне сегодняшнем.
Не буду пересказывать содержание книги. Тот, кто не потерял еще жажду справедливости, кому нужна надежда и опора в делах праведных, сам прочтет её, и она не оставит его равнодушным. Это книга о вновь запылавшей Украине, то есть окраинной земле Русской, которую наши отцы и деды освобождали от фашизма и где боролись с бандеровщиной и украинским нацизмом. На той земле строили общий дом, заводы и фабрики, открывали детские сады и школы, пели общие песни и говорили на русском языке… И вдруг, благодаря ненасытным «удельным князькам», что всегда предают свой народ и свою веру, мы теряем и землю, и веру, и язык…
Сила слова Сергея Бережного в создании галереи образов красивых русских людей, названных поименно, описанных и отображенных в конкретном историческом времени и конкретном месте. Это десятки, а то и сотни лиц…«Иных уж нет, а те далече…» – по слову поэта, но у нас, современников, есть возможность на их примере знать, с каким мужеством и отвагой мы должны защищать Родину.
Судьбы этих людей тесно переплелись с судьбой России. Они настоящие, они соль земли и лики их твёрдо прочерчены в нашей русской истории. Чтобы помнили! И теперь их, Героев нашего времени, уж точно не забудут.
Bepa Кобзарь
Секретарь Союза писателей России, председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России
Слово автора
«Война становится привычкой» – это, по сути, продолжение книги «Контракт со смертью». Место действия всё то же – Специальная военная операция от Белгорода до Херсона. Время – с июля 2023-го по май 2024 года. Герои те же: крохотная волонтёрская группа, собирающая и доставляющая гуманитарку на фронт; бойцы и командиры, их судьбы, их война; наши люди с открытой душой, чистыми помыслами и любящим сердцем, объединившиеся для спасения России…
Здесь нет пропагандистской шелухи, пафоса и выдуманных историй – всё тщательно проверено и выверено. Здесь практически нет батальных сцен. Меня интересовали судьбы солдат и офицеров, их психология, мысли, переживания, мотивация. А ещё короткие зарисовки о нашей бесконечной гуманитарной миссии, как бы высокопарно это ни звучало. Конечно, миссии помощи нашей сражающейся армии – приобретении беспилотников, тепловизоров, прицелов, приборов для бесшумной стрельбы, продуктов, медикаментов, перевязочных материалов и всего того, в чём нуждаются наши воины и чего катастрофически не хватает.
Героев второй части – несколько сотен, хотя фактически их гораздо больше, но, к сожалению, не обо всех можно ещё писать. Остались «за кадром» штурмовики 11-й гвардейской ордена Суворова десантно-штурмовой бригады ВДВ, «Вагнера», бойцы 24-й бригады СпН ГРУ, мотострелки 448-го мотострелкового полка, 123-й артдивизион, 200-я арктическая, 138-я гвардейская и ещё с десяток подразделений. По-прежнему особняком стоит бригада Филина – уж о нём и его бригаде не рассказать просто нельзя.
Динамичность первого года войны плавно перетекла в позиционную вялотекущую войну нервов, возможностей, нереализованных желаний. С конца лета двадцать третьего ушли драматизм и острота даже из репортажей допущенного на ЛБС репортёрского пула. Скучные и однообразные, кастрированные правовыми нормами с императивной угрозой применения кары за попытки реального освещения событий, не говоря уже об осмыслении происходящего, они будто специально притупляют интерес людей к войне.
Война, которую после провала оперативных замыслов (хочется верить, что они имели место быть) в первые недели лукаво задрапировали под Специальную военную операцию, размыв конечные цели, лакмусом высветила кто есть кто. Зримо проявилась поляризация общества и его социально-идейная непримиримость.
Вторая половина прошлого года не столь драматична, как весна и осень 2022 года – отступление с киевского и харьковского направлений, из-под Херсона, оставление Балаклеи, Изюма, Купянска с окончательным уходом из Харьковской области… Теперь это «позиционка», сродни той, что описал Ремарк в своём романе «На Западном фронте без перемен». Разница лишь в том, что здесь идёт банальное перемалывание людей с обеих сторон: разобрала арта на молекулы одних, на смену им пришли другие – и так бесконечный конвейер…
В сравнении с первой половиной двадцать второго года война приняла несколько иной характер. Война артиллерии, РСЗО, авиации, РЭБ, систем связи. Война технологий, война беспилотников, атакующих не только фронт, перешагнула границу государства Российского… Война ракетных систем, барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и планирующих авиабомб. И всё равно это противоборство веры, духа, света с тьмой, сатанизмом, мракобесием…
Как бы ни хотелось укрыться за победными реляциями, но эти два года показали нашу неготовность к войне, а может быть, и иллюзорность военной доктрины. Мы пребывали в плену иллюзий и не хотели видеть очевидное: жировали одни, называя себя элитой, делили сырьё и прибыль, перенаправляли финансовые потоки, откровенно по разным схемам расхищали бюджет коррумпированные чиновники всех рангов на всех уровнях, кто-то рвал жилы, у кого-то в умах бродил бунтарский дух, кто-то погружался в трясину равнодушия или отчаяния… Громко выраженное неприятие одних с непременными стонами и стенаниями: когда же это кончится? Причём те, кто особо не напрягался, кого эта война напрямую не коснулась – как жили в своём мещанско-сытом мирке, так и живут.
У других же духовный подъём, сплочение, неудержимое желание выстоять и победить, небывалая жертвенность. Это от осознания своей личной ответственности перед детьми и внуками, перед поколениями, которые должны и будут жить на одной шестой части суши по имени Россия. Перед памятью предков – несломленных и непокорённых.
Это книга о людях на войне, будь то бойцы и командиры, волонтёры и обыватели – у каждого своё отношение к происходящему, своя ноша, но одна для каждого цель – выжить. Выжить, но только не любой ценой. Выжить, сохранив честь и совесть.
Мы сражаемся не с Украиной и не с украинцами. Мы сражаемся с нелюдями, возомнившими себя высшей расой без права жизни для нас. Немецкий нацизм по сравнению с украинским – подготовительная группа детского сада.
«Лечение нашего национального организма необходимо начинать с расового очищения нации. И тогда в здоровом расовом теле возродится здоровый национальный дух, а с ним культура, язык и все остальное. Кроме вопроса чистоты, мы должны обратить внимание также на вопросы полноценности расы.
Украинцы – это часть (причем одна из крупнейших и самых качественных) европейской «белой расы». Расы – творца великой цивилизации, самых высоких человеческих достижений. Историческая миссия нашей нации в это переломное столетие – возглавить и повести за собой «белые народы» всего мира в последний крестовый поход за своё существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества».
«Если говорить о русскоязычном востоке Украины, украинские территории в составе России, то мы должны в первую очередь пробудить их расовое сознание. После чего языковыми националистами они станут автоматически. Вопрос же тотальной украинизации в будущей социал-националистической стране будет решен в течение 3–6 месяцев с помощью жесткой государственной политики».
Это Билецкий, Белый Вождь, как он себя величает. Цитаты из его статей «Патриот Украины» и «Украинский расовый социал-национализм». «Братский народ» украинцы – самая качественная часть «белой расы». Её историческая миссия – последний крестовый поход против унтерменшей, недочеловеков, орков, свинособак, то есть против всех, кого они считают русскими. А заодно и против всех не украинцев – кавказцев, тувинцев, башкир, бурят, якутов – да всех и не перечислить, потому что здесь не столько принцип крови и веры, сколько веры, духовного единства, осознания себя русским, а ещё территории по имени Россия. Но это уже для кукловодов – их извечная алчность не даёт им покоя столетия, и столетиями они пытаются разорвать Россию, каждый раз получая по морде.
«…Верим ли мы в мультикультурализм и возможность проживания разных больших этнокультурных групп на одной территории? …Нет. Это миф, который привёл европейскую цивилизацию к огромным проблемам…»
«…Социальная помощь для рождения ребенка должна касаться всей украинской нации, но лучшие семьи, которые потенциально могут родить наиболее талантливых детей, должны иметь социальный стимул для рождения максимального количества детей. Таким образом, увеличивая количество украинцев, мы одновременно увеличивали бы процент наилучшего расового элемента нации…»
Вы где-то это уже читали? Где-то слышали? Совершенно верно: это «Майн кампф». Это воплощение идей Розенберга. Только вместо арийцев – украинцы. Впрочем, они ведь тоже арийской расы, просто немцы тогда этого не поняли, не осознали или вообще не знали и даже не подозревали, что их уже отнесли к второсортной нации. Первая – свидомые. Первая – украинцы, истинные, щирые. А ведь совсем недавно в понимании того же немецкого фашизма как раз они были ущербны и второсортны. Теперь Украина – превыше всего. Украина – древнейшая и первородная цивилизация. Украинцы – самая чистая на Земле белая раса. Украинцы – это мессия для спасения мира от русских. Украинский нацизм оставил нам одно право – право умереть. Право навсегда исчезнуть из истории мировой цивилизации.
Есть галичане с ущербной психологией обиженных и чуждой православию униатской верой, воспылавшие идеей избранности, пассионарные именно в своей озлобленности и ненависти, выпестованные Австро-Венгрией, наделившей их языком-новоделом.
Есть срединная Украина, покорная Речи Посполитой, которая по-прежнему смотрит свысока и спесиво на это быдло. Скотина по-польски – быдло, украинец – тоже быдло, так что же удивляться ясновельможному пану, который уравнял украинца с домашним скотом.
Есть Украина причерноморская, та, что зовётся Новороссией, созданная деяниями князя Потёмкина-Таврического, заселённая сначала белорусскими земледельцами да крестьянами Псковской, Курской, Брянской, Калужской областей и глубинной России, здорово разбавленная галичанами уже Советами и особенно Незалежной западенцами после 1991 года.
Есть русская земля, насильно втиснутая большевиками в этнотерриториальное недоразумение по имени Украина. Разный язык с диалектизмами, ментальностью, верой, культурой. Лоскуты, сшитые тотальной идеей сверхчеловека.
Исконно сельский суржик, величаемый украинским языком, вдруг заменили агрессивным новоделом. Вместе с языком изменилась ментальность и внутренняя культура. Возник новый субэтнос, ненавидящий свои корни, не имеющий своих исторических героев, холопски покорный, холуйски преданный. Необходимость проституирования как формы существования государственности прочно вошла в сознание украинцев через западенцев, спешащих отдаться кому угодно, лишь бы заплатили.
Внешне похожи украинцы, что лицом, что одеждой, с европейцами вообще и с русскими в частности, а вот стереотип поведения совсем иной. Наш сформирован советской средой в особую этнопсихологическую систему: убирать за собою посуду, снимать обувь в прихожей, стесняться, извиняться, сердобольными быть, жалостливыми, стыдливыми… С невытравленной большевиками бесшабашностью, леностью, вороватостью, завистливостью и целым комплексом мелких деталек, отличающих наше поведение во внешнем общении. Но генотип поведения русских остался прежним с поправкой на историческое время. Отвага, мужество, самопожертвование, вера, преданность, щедрость во всём, сопричастность, сочувствие и ещё сотни качеств, которые мы храним веками.
А вот генотип у украинцев сформировался уже иной. Позволили алчным западным соседям изменить себя и… потерять себя тоже.
Вот эти хуторянство, мелочность, жадноватость, хитрость, постоянные жалобные стоны, что их притесняют, что это они сначала кормили москалей, сожравших всё их сало, а теперь кормят Европу, хотя давно уже жрут польское сало, воспринимались нами если не с осуждением, то с внутренним неприятием и отторжением. С этими чертами беженцев (эвакуированных) столкнётся Россия и слегка оторопеет и даже ошалеет: к ним всей душой, а они считают, что им все обязаны и должны. И ещё какая-то озлобленность, помноженная на зависть.
К чему всё это написано? Пытался понять, осмыслить порой бессмысленную жестокость армии врага к русским вообще и к пленным, детям, старикам, женщинам в частности. Но ведь и власть ведёт себя аналогично по отношению к своему же населению. Так что это? Способ выживания? Закон украинской жизни?
СВО – это «ответка» за безразличие, за трусость, за глупость. Потребуются годы лечения – и терапия, и хирургия, но ничего, вылечим. При нынешних технологиях программирования сознания лет за пять-шесть обернёмся, только была бы воля власти и разумные исполнители. Были бы вычищены свои авгиевы конюшни и поставлены в стойла опошлившие понятие либерализма, превратив его в отождествление предательства национальных интересов.
СВО – это превентивное нападение с целью защиты. Незачем ждать, когда тебе воткнут в живот нож и провернут – надо бить первым. И мы ударили: сначала Крым, теперь СВО. Был ещё Донбасс, но там власть заигралась с местной шпаной, поставив её интересы выше национальных, постаралась предать забвению Русскую весну, народных лидеров, в чём-то наивных, но искренних и совестливых, ополченцев, добровольцев… Но двадцать четвёртого февраля две тысячи двадцать второго года мы реализовали наше право спасения нации, спасения государства, спасения веры предков. И обязанность.
Первые пленные на харьковском направлении говорили, что должны были начать обстрел российского приграничья в семь часов утра. Мы опередили их всего на час, но опоздали на целых восемь лет!
А ещё и потому, что мы чуть ли не единственные, сохранившие чувство достоинства, иные ценностные критерии – совесть, доброту, справедливость. Потому что мы другие, хотя общественное сознание и общественная нравственность уже дали трещину, которую сшивай – не сшивай, но рубец останется. Так и будем жить с этой раной, время от времени кровоточащей, не залечиваемой, но лишь бы не загнивающей и не разрастающейся метастазами.
Россия – самогенерирующая, способная возрождаться из пепла, и эта её способность исторически уже не раз доказана. Мы всё равно непобедимые и непокоряемые. Мы же русские! Мы же сильные! С нами Бог!
Июль 2023 года
Итак, вновь едем на воюющий Донбасс. Время работы – третья декада июля. Планировали недельки на полторы, но вынуждены были прервать «сафари» по непредвиденным обстоятельствам.
Макушка лета уже позади и ночи стали прохладнее, а про утренники и говорить уж не стоит – на зорьке зябко и росы обильные. Да и небо потускнело красками, полиняло, не такое сочное и яркое, уже выцвело. Дни летят, как поезда скоростные, однообразные в суете и отличаемые лишь встреченными лицами да характерами. По возвращении сутки на восстановление, и то, если позволят звонки, встречи, сбор гуманитарки, планы на следующую поездку. А между всеми этими событиями короткие зарисовки, отбор фото- и киноматериала, что-то смонтировали для будущего фильма, что-то отобрали для будущей выставки.
Вяжет по рукам непонимание некоторых коллег: то ли чёрствость, то ли привычное ханжество, то ли равнодушие, но большинство в сторонке, обособились, будто не касается их происходящее вокруг. А может, и вправду не касается? Как сказал один из них: да всё равно, чья возьмёт, лишь бы издавали и платили. Вот и живут серыми мышами, тихо и незаметно, шуршат, смотрят на жизнь из-за оконной занавески да выгорают от зависти и ненависти.
За две недели насобирали груза на две машины: уазик и «ларгус», но половина осталась на базе – не смогли разместить. Загрузили по самую крышу и на все пассажирские сиденья, а на пол под ноги сложили броники. В экипаже трое: Старшина[1], Анатолий Залетаев, военный штурман 1-го класса, майор запаса, шёл водителем УАЗа, и я. А вот Мишу Вайнгольца не взяли и лишь потому, что места действительно не было. Мишка сначала возмущался, потом убеждал, потом канючил, но тщетно – нет места и точка. С Мишей надёжно, он как талисман на удачу, да к тому же наш неизменный «папарацци» – спец по фото- и киносъёмке. А теперь приходится оставлять его. Но Миша ладно, простит, лишь бы удачу не оставить здесь, но простит ли история, если в это сафари не будут запечатлены наши физиономии и наши «подвиги». Остаётся только летописание, так что я прохожу в экипаже Нестором Летописцем.
УАЗ-315195, иначе «хантер», «подогнал» Сергей Иванович Котькало – договорился с Тюменью, вот они и приобрели. Вместе с машиной передали сети, дорогущий тепловизор, всякие прибамбасы, медицину и т. п. А теперь имена неравнодушных тюменцев: Братцев Андрей Павлович – купил тепловизор. Он же, да ещё Огаркова Вера Александровна и Юдин Артём вскладчину купили УАЗ «хантер»; Наталья («Тюмень православная Донбассу») и Храм Архангела Михаила отремонтировали купленный УАЗ; Гамлет и Владимир доставили его в Курск. Мы приняли «эстафету» и теперь наша задача перегнать его в Луганск и вручить бойцам.
«Хантер» оказался резвым, но шумным – за семь часов дороги голова от гула что пивной котёл: кипит, бурлит и разрывается, даром что не пенится. Наш боевой штурман ошалел и просто одурел от грохота. Через пару часов пути, когда солнце уже облизало макушки лесопосадки, Старшина решил внести некоторые конструктивные изменения в машину с помощью подобранного на обочине шкворня да какой-то японской матери. Провозились минут сорок, выкурили с полдюжины сигарет, посбивали пальцы в кровь, но зато дальше машина шла уже без одуряющего треска, скрипа и визга. Ну, а майор Толя Залетаев просто сиял, попыхивая сигаретой в открытый косячок форточки боковой дверцы.
Везли почти два десятка маскировочных сетей. Часть сплела Светлана Горбачёва, часть Елена Сафронова со своими «кружевницами» из Масловой Пристани. Они же сделали «кикиморы» и «лешего»; сети, балаклавы летние, медикаменты, которые накануне забрал в Орле у Сергея Репецкого[2]; продукты, жгуты, кровоостанавливающее, носки, футболки, мази, кремы противогрибковые и ранозаживляющие, повязки красные с тактическим знаком, иконочки и всякую крайне необходимую всячину от матушки Иустиньи из Курского женского монастыря. Бережно упаковали беспилотники, приборы и оборудование, ретранслятор и антенны, миноискатели и ещё кое-что – это уже от нас со Старшиной.
Как всё это уместилось в двух машинах – уму непостижимо, потому что потом с трудом «растолкали» по четырём легковушкам и ещё осталась половина груза в уазике, который на следующий день доставили в артдивизион. Всё привезённое распределили между артиллеристами, диверсионно-штурмовой бригадой «Волки», 488-м мотострелковым полком. Был ещё целевой груз в местный храм для передачи в подразделения, но за ним приехал батюшка, и что было в коробках, мы так и не узнали. К тому же любопытство в данном случае излишне, хотя…
Разнотравье, настоянное солнцем и полуденной жарой, источало медвяный запах, дурманящий и пьянящий до головокружения. Это я в салоне легковушки через приоткрытое окошко пил мелкими глотками тягучий воздух, а каково бойцам в окопах? Или там не до этого? Да и воздух у них наверняка совсем иной, густо замешанный на запахе разлагающейся человеческой плоти и сгоревшего тротила.
Ещё оставалось время, чтобы засветло добраться до Кременского леса, но предварительно с полком не связались – звонки не проходили, а ехать вслепую, чтобы зависнуть где-нибудь на блокпосту, когда прихватит ночь, не очень-то хотелось. К тому же к вечеру как-то неожиданно тяжестью неподъёмной навалилась усталость, стала пеленать дремота, страстно захотелось смыть дорожную пыль и, даже отставив ужин, свалиться спать.
До базы добрались в сумерках. Неожиданно появилась связь, дозвонились до Спартака[3] и договорились о встрече. Место «сбора» привычное – за Житловкой на опушке Кременского леса около покосившейся то ли от старости, то ли от взрывов избушки.
В путь тронулись по утреннему холодку. До Северодонецка прошли в одно касание – хороша дорожка, ничего не скажешь, а вот дальше по окраине Рубежного уже средней паршивости. Дальше больше: от Рубежного до точки встречи не дорога, а одно название – колдобина на колдобине, ухаб на ухабе, зато всего пара (или тройка?) блокпостов. Но суровых стражей дорожного порядка и пропускного режима очаровывал своей беспардонностью Старшина, выскакивая из-за руля с голливудской радушной улыбкой и распахнутыми объятиями, словно встретил после долгой разлуки самых близких людей, роднее которых и быть не может. Истомившиеся от зноя комендачи с радостью принимали полторашки с газировкой, прощая нам отсутствие пропусков и незнание паролей.
За Житловкой у нашей избушки на курьих ножках вдоль изгороди под разлапистыми соснами «выгуливался» Ванечка: Спартак распорядился выздоравливать ему в этом именном санатории после выписки из госпиталя. Огромный шрам красным витым аксельбантом вился от правого плеча через грудь почти до пояса как свидетельство Ванечкиной доблести. Правда, не преминул вылить ушат ледяной воды Паша, сочтя доблесть Вани элементарной дуростью и грубейшим нарушением дисциплины:
– Тоже мне, герой! Да таких надо перед направлением в госпиталь на «губу» сажать и стоимость лекарств взыскивать. И вообще это равносильно попытке дезертирства: надо боевую задачу выполнять, а он, видите ли, телеса на солнышке греет. Понимаешь, Саныч, этот крендель вылез из мотолыги[4], стащил броник, снял берцы, напялил тапки – и житуха ему сразу в кайф пошла. Но тут откуда ни возьмись жужжалка прилетела. Ваня вместо того, чтобы в траншею нырнуть или на худой конец под сосну спрятаться, давай отмахиваться тапком от беспилотника, как от назойливой мухи, а тот возьми да урони «маслёнку»[5].
– Жарко было, – лениво оправдывался Ванечка. – Аж чехол от броника мокрый, как из воды вытащили.
– Ага, ему, видите ли, жарко, а остальным холодно, что ли? Будь этот теннисист в бронике – обошлось бы, – рассудительный Паша такого легкомыслия не позволил бы. – А так осколками располосовало от плеча до пояса. Ну что с него взять: брянский, дикий лесной человек, никогда сроду беспилотники не видал, вот и давай тапками разбрасываться. Не бережёт казённое имущество.
– Да это мои тапки были, – улыбается Ванечка. – Хочу – ношу, хочу – ими «птички» роняю…
С Пашей обнялись крепко, а вот Ванечку лишь приобняли аккуратно: как бы не ровён час не навредить. Очень уж «аксельбант» через грудь красный, не воспалился бы… Разгрузили машину играючи, что называется, в одно касание: хоть и загнали в сосны, но беспилотники – хищники глазастые, так и норовят на макушку какую-нибудь хреновину опустить.
Пока распаковали и разнесли привезённое по закоулкам, Ванечка сварил кофе, разлил его по чашкам, пододвинул миску с печеньем.
– Это не из гуманитарки, сам в магазине купил, – успокаивает он, видя, как мы, переглянувшись со Старшиной, не притронулись к угощению. Он знает, что у нас принцип: ничего из доставленной гуманитарки не брать и даже глотка воды не пить. А жара нешуточная, сухость во рту дерёт горло, сейчас бы газировочки холодненькой, но её в ближайших двух десятках километров днём с огнём не сыскать, так что придётся довольствоваться горячим буржуйским напитком. А ещё любоваться восхитительным пейзажем – бритыми «смерчами» и «Градами» макушками мачтовых сосен.
Сначала Старшина всё никак не мог наговориться, ходил вокруг тубусов из-под чешского и шведского гранатомётов, нашей «стрелы» и «шмелей», сваленных в углу двора, ворочал их, протирал надписи, шептал что-то – не иначе ворожил, расспрашивал, советовал. Короче – шаманил, чёрт полосатый.
На пластиковом садовом столике теснились разномастные чашки, пепельница полнилась окурками (половина – моих), накатывала дрёма – сон минувшей ночью был рваным: то звонки разрывали на части тишину, то приезжали и приходили званые и незваные гости и друзья-товарищи, а с рассветом по холодку подъем и снова в путь. В машине подремать не удалось – пришлось головой крутить на все триста шестьдесят и пялиться в небо, чтобы не прозевать «птицу», так что немудрено, что сонливость накатила и просто валило с ног.
Поддерживать беседу желания не было, и, откинувшись на спинку садового пластикового стула, погрузился в приятную полудрёму, не обращая внимания на стоявший вокруг грохот: арта привычно играла в «пинг-понг». Порой земля начинала трястись в эпилептическом припадке, дом подрагивал в нетерпении, будто собирался пуститься пляс, да и стул подтанцовывал, но всё это никак не мешало моему погружению в нирвану. К тому же грохотало поодаль, а значит, у нас полная безопасность.
Через час после нашего приезда появился Спартак. С неизменной улыбкой на усталом и запылённом лице даже не вылез, а просто вывалился из кабины «Урала», сбросил разгрузку и броник, у стены поставил автомат, протянул к нам руки: вот он я, берите, обнимайте! Обнялись, но его протокольно-дипломатичные вопросы о том, как добрались, опередили со Старшиной дружным «Хорошо!».
Спартак симпатяга редкостный, наш любимчик, располагает какой-то детской незащищённостью (целый майор и начальник весьма важной полковой службы!), поэтому всегда привозим ему что-то сверх потребности. Не больше того, что просит, а именно больше, чем требуется, потому что Спартак никогда ничего не просил. Да и его ребята ему под стать: открытые улыбки, бесхитростные какие-то, дружные, все земляки, одним словом – семья.
На этот раз в качестве сюрприза футбольный мяч. Хотя и подозрительно лёгкий, но Старшина заверил, что настоящий. Замкомвзвода Саша в молодости играл за сборную Брянска, так что мяч для него не только средство для поддержания формы, но и ностальгия по спортивной молодости. Он сразу же схватил мяч, подбросил, принял на грудь, сбросил на ногу и погнал настукивать, припрыгивая на одной ноге, светясь счастьем. Такие финты выкидывал, что загляденье! Вроде бы и взрослый дядя, а на деле ну чисто пацан!
Пора было уезжать – ещё надо Кременную проскочить, потом Рубежное, ну а от Северодонецка дорога относительно гладенькая, так что к вечеру в Луганск успеем, если повезёт, конечно.
Канючил с четверть часа: «Вить, ну, поехали. Вить, поехали, чёрт возьми! Вить, да поехали же!», а в ответ бесконечное: «Сейчас, Саныч. Ну сейчас. Да сейчас…» С трудом, но Старшину удалось-таки притащить к машине. Вообще-то он неугомонный и разговорчивый до невозможности, поэтому пришлось его буквально за рукав тащить в наш «корвет»: нас ждал Филин. Витя упирался, всё пытался что-то досказать, разузнать, наставить на путь истинный. Он так и остался в душе, да и по повадкам, старшиной разведроты советской десантуры, искренне полагая, что кругом царит бардак несусветный, который надо исправлять. Дай ему волю, так строевым бы бойцы вышагивали даже в траншее. Летом двадцать второго года под Изюмом он «строил» генерала, уча его уму-разуму: и не так служба охраны организована, и дисциплинка хромает, и скрытые дозоры не выставлены, и вообще всё не так, не по-старшински…
Моё терпение лопнуло, и я бесцеремонно затолкал его в кабину, несколько нелитературно и довольно эмоционально выражая недовольство. Буквально минут двадцать назад сонливость как рукой смахнуло, заползла змеёю в душу неясная тревога, свила себе гнёздышко и давай расти-разрастаться. Так что дело вовсе не в закончившемся терпении, а во вселяющемся неясном чувстве страха, величаемом у нас просто чуйкой.
Поправив загруженные за разложенным задним сиденьем гранатомёты и ПЗРК, устроился рядышком со Старшиной, и мы рванули подальше от избушки на опушке шумного леса. Мелькнула мысль: а ведь лес тоже сражается. Укрывает технику и блиндажи от зорких «птичек», даёт тепло – вон сколько валежника для блиндажных печек, принимает на себя осколки снарядов и мин – почти у всех сосен, акаций, клёнов иссечены стволы и особенно макушки, начисто отсечены огромной секирой ветви.
А уезжать-то всё равно не хотелось. Остаться хотя бы на сутки, наварить ребятами домашнего борща, нажарить картошечки, наслушаться бы их историй да исписать блокнот, но всё на бегу да на бегу, всё торопимся, всё спешим, не замечая походя красоты…
Едва миновали Кременную, как пришло видео от Спартака. Оказывается, четверть часа спустя после нашего отъезда в то самое место, где рассматривал шайтан-трубы Старшина, прилетела «дура». Не снаряд прилетел и не ракета, а осколок, небольшой такой метровый осколочек от натовского гостинца. Сама «малыха» разорвалась за забором в саду, а эта железяка завалила ограждения и вошла в землю аккурат в то самое место, где только что стоял Старшина. На первый взгляд всё же ракета была от европейского аналога «смерча» или «урагана», ну да что там гадать – пронесло и хорошо!
Вот ведь как бывает: какие-то минуты могли разделить всё на «до» и «после», не прояви я настойчивость. Наверное, Господь решил, что на этой земле от нас пока есть хоть какой-то прок. Так что ещё подвигаемся, побарахтаемся, посуетимся… А Спартака попросили сохранить нашего «крестника» до нашего возвращения: в следующий раз обязательно заберём в домашний музей Старшины.
Грех обижать другие части, но «Волки», пожалуй, самая что ни на есть упорная в обороне, дерзкая в наступлении и вообще самая лучшая бригада из всех, встреченных мною. А ещё потому, что это бригада Филина. Почти половина бригады мобилизованные: хотя они уже воюют с осени прошлого года, но все проходят по графе «мобилизованные» и зовут их по привычке и снисходительно не иначе, как мобики. Ещё есть пара сотен «кашников»[6] – вчерашних зэка. Остальные – «добровольцы-контрактники».
Две бригады минобороновских чевэкашников за пару месяцев укры размотали в прах, подразделения армии «проломились» и оголили фланги. Кому обязаны своим рождением эти «частные войска» мраком покрыто, но управление ими отдали ГРУ, или, как теперь называется, Главному управлению Генштаба. Идею Старинова и Жукова претворили в «Редутах», превратив их в коммерческий проект.
В самом начале войны на харьковском направлении непосредственно работали с этими отрядами – так себе впечатление. Осадочек остался, и к концу мая они растворились: кто разбежался, кто подался на Донбасс, кто вернулся домой. Но были среди них и такие, как Серёга «Маугли» – отчаянно-дерзкие, безбашенные, отважные и смелые.
Тогда у комдива оставалась последняя надежда – «Волки», отдельная диверсионно-штурмовая бригада. Не резервы, а именно надежда. И Филин бросил своих «волчар» на оборзевших гайдамаков. Сначала два десятка первых попавшихся под руку «кашников» быстро отрезвили ошалевших от успеха укров – каждый дрался за десятерых, и «воины света» повалили вприпрыжку на постоянную прописку к Небесной Сотне, бросая обжитые окопы. «Кашники» ворвались в траншеи, добили раненых – закон войны: не оставлять за спиной живого, полуживого и даже полумёртвого врага, рассредоточились, доложили по рации о потерях – шестеро «трёхсотых», и приступили к «работе». Узкий участочек фронта – взглядом окинуть, головы не поворачивая, но слух о матёрых и неустрашимых бойцах мгновенно разлетелся по укроповским подразделениям, отрезвив и помножив на ноль их наступательный пыл.
Два десятка вчерашних зэков стояли насмерть, и накатывавшие волны противника разбивались о них на мелкие брызги – бежавшие, ползущие, орущие. За четыре часа три отбитые яростные атаки, поддержанные бээмпэ. На поле остались три горящих факела ещё с первой атаки, полсотни неподвижных тел и чуть больше орущих и шевелящихся. «Волки» раненых не добивали – давали отползти, уползти, эвакуировать. Это был особый почерк бригады – позволять украм убирать убитых и выносить раненых, за что их уважал враг.
«Кашники» не дрогнули, когда их окопы засыпали минами и осколки выстригли под ноль всю прошлогоднюю траву вокруг, заодно густо перемешав землю со снегом. Не ушли, когда закончились патроны и остались только гранаты. Они верили, что помощь придёт – Филин дал слово прислать резерв, и ещё ни разу (!) не было случая, чтобы он его не сдержал.
Сначала появились «мобики» – запрыгнули в траншеи, с ходу дистанционно заминировав кустарной установкой подступы, от щедрот душевных плотно прошлись из пулемётов и АГС по ещё не опомнившимся украм, а потом взялись за сапёрные лопатки. Нет, не в рукопашную пошли, кроша направо и налево, а с бешеной скоростью стали рыть дополнительные ходы сообщений, «лисьи» норы и подправлять траншеи. Закопались, и когда начала укроповская арта «лохматить» опорники, они стали недосягаемы для осколков. Это были уже не прошлогодние «мобики», стенающие и стонущие, в соплях и слезах взахлёб ведающие о своих переживаниях, а заматеревшие, цеплявшиеся мёртвой хваткой, мыслящие трезво и рационально, настоящие бойцы, а потому отличавшиеся стойкостью и отчаянной храбростью.
Всех своих раненых «волки» вынесли – таков закон бригады: чего бы то ни стоило, но всегда и при любых обстоятельствах вытаскивать своих раненых и погибших. Как говорят в бригаде: «Закон Филина – своих не оставлять, вытаскивать всех». Выносили «трёхсотых» «кашники» и вовсе не потому, что раненые из их набора: не забери сразу, так Филин всё равно заставил бы вернуться и вытащить всех. «Волки» заняли оставленные чевэкашниками позиции, напрочь отбив охоту у вэсэушников рыпаться на их участке, и стали ждать замены. Не дождались. Генерал был признателен Филину – спас честь дивизии и корпуса и в благодарность «прирезал» ещё шестьсот метров линии фронта.
Свои потери Филин оценивает, как «жуткие»: с дюжину погибших и около сотни «трёхсотых» с апреля этого года. Рядышком подразделения «обнуляются» за месяц-другой, а то и быстрее – как умеют наши командиры, так и воюют, а у Филина «кашники» пишут рапорта с просьбой заключить с ними контракт повторно. И всегда приписка: «…просим оставить в бригаде у Филина…» А кто-то намеренно переходит к нему, прося лишь об одном: сообщить в прежние подразделения, что они не дезертиры. Они просто хотят сражаться по-настоящему под началом настоящего офицера.
На Соледар насыпают щедро, мощно и регулярно. Выбраться из него целым – всё равно, что в рулетку сыграть с пятью патронами в семизарядном револьвере. По всей линии фронта северо-западнее Бахмута (при всём уважении к товарищу Артёму город всё-таки исконно русский, Бахмутом наречённый ещё Иваном Грозным, с историей казацкой) идут жёсткие бои: грохот арты рвёт барабанные перепонки, так что край нужны тактические наушники, которых у нас нет и не было. Были у меня противоосколочные очки, но первые подарил ещё в четырнадцатом кому-то из бригады «Призрак», вторые отдал в самом начале войны земляку потому, что особо не верил в их чудодейственную способность держать осколки, ну а третьи подарил комбригу ещё в позапрошлом году под Изюмом: и нужнее они ему, и он сам гораздо более ценен для Родины, чем волочащая ноги рухлядь. А тактических наушников сроду не имел. Точнее, были поначалу, но так, для форсу и мне без надобности, потому и отдал в артдивизион: им нужнее, глохнут ребята…
В подвале поёт гитара. Точнее, рвет её струны культяшками пальцев – обкорнал их осколок, начисто срезал фаланги – старшина миномётной батареи с позывным «Осколок». При первой встрече на вопрос о причинах такого позывного отшутился:
– Предлагали Миной назвать или Снарядом – по специальности, значит, но у них, двоечников, ни ума, ни фантазии. Вот я и подумал: назови так – непременно миной или снарядом шандарахнет и поминай, как звали. А тут Осколок – есть шанс уцелеть.
И плывёт над тесными сводами подвала «Война становится привычкой» Виктора Верстакова[7]. Он вообще обожает его стихи. Может быть потому, что знает о войне не понаслышке: захватил Афган, затем две Чечни, Донбасс в четырнадцатом…
- Война становится привычкой,
- опять по кружкам спирт разлит,
- опять хохочет медсестричка
- и режет сало замполит.
– Жаль, что сала нет, – обрывает себя Осколок, и струна жалобно стонет. – На хлебушек с натёртой чесноком корочкой тоненько так намазать и маленькими кусочками откусывать, чтобы во рту таял… Твердят нам всякие чудаки на букву «м», что войны никакой нет. Есть только спецоперации, а войны нет. Да что они знают-то про войну?
И вновь обрубками пальцев перебирает струны, едва попадая в тон, и плывёт по тёмному подвалу «Война становится привычкой…».
Ну, а теперь продолжу коротенькие зарисовочки о «волках» Филина. В разное время написанные, только в силу каких-то причин раньше свет не увидевшие. Хотя причина, как правило, одна: Филин запрещал. Не хочет публичности для себя, а страдают все остальные… Нарушаю запрет.
Укры ломились на опорник, как истомившиеся похмельной жаждой мужики в только что распахнувшую двери пивнушку. Дважды простреленный комроты приказал оставшимся в живых уходить, а сам лёг за пулемёт. Бойцы были тоже изранены, но, наложив жгуты и перевязавшись, делали вид, что ничего не слышат. Ну, пропал внезапно слух и хоть тресни! Бывает, особенно когда ничего слышать не хочешь. Конечно, они могли уйти: ползком, по-пластунски, на карачках по ещё не занятой украми широкой лесополосе, но не хотели оставлять своего комроты, а вытащить не осталось сил. У троих осколочные ранения в ноги – иссечены так, что клочья брюк свисали вместе с ошмётками мяса, у одного разворотило бедро, у остальных простреляны или разорваны пулями и осколками руки, грудь, живот. Буряту повезло больше других: ему огромный кусок от разорвавшейся мины плашмя ударил по спинке броника, динамическим ударом переломав рёбра. И всё равно они, даже «везунчик» Бурят, не могли тащить раненого комроты даже волоком.
Старлей не стал кричать на них, материться и приказывать, прекрасно понимая, что сейчас никто из его бойцов никакому приказу не подчинился бы. Здесь нужно было что-то необычное, что могло их убедить оставить его. Он разомкнул пересохшие губы и тихо попросил выйти в расположение бригады и доложить, что он остаётся, потому что капитан последним покидает тонущий корабль, а опорник – это его фрегат. Что на опорник укры зайдут только по трупам своих, когда у него закончатся патроны и ему останется только встретить их последней гранатой. Но, в принципе, он не возражает, если Филин пришлёт за ним, чтобы вытащить его. Связаться по рации он не мог: разорванная осколками, она валялась ненужным хламом за бруствером окопа.
И они услышали его, понимая, что спасение командира в том, сумеют ли они добраться до Филина или нет. Они смогли кое-как проползти всего сотни полторы метров, когда наткнулись на спешащих на выручку разведчиков. Филин нутром чувствовал неладное – молчала рация и выстрелы доносились всё реже и реже, потому и послал разведчиков на опорник. Они подошли вовремя: отстреляв последнюю ленту, комроты лежал на спине, провожая взглядом медленно плывущие облака и грея зажатый немеющими пальцами кругляш расчерченной на квадратики рубашки «лимонки». Он ждал, когда к нему подойдут укры, и он выдернет чеку с уже разжатыми усиками. И даже хотел, чтобы всё случилось поскорее, пока он не потерял сознание. Солнце, неяркое и какое-то тусклое зимнее солнце, словно сквозь вуаль, не слепило и угасало вместе с истекающим коротким днём. И всё же едва ощутимо касалось его лица теплом, словно нежная женская ладонь.
Его начинало морозить, мелкой дрожью пробивал озноб от потери крови и туманило поволокой глаза. Он застонал от бессилия и мысли, что всё-таки не успеет дождаться врагов. Что потеряет сознание раньше, чем они подойдут, и он не успеет выдернуть чеку и отпустить предохранительную скобу. Что не сможет забрать их с собою и придётся в одиночку уходить. Что надо не пропустить тот миг, когда угасающее сознание сотрёт ту незримую грань, когда пальцы ещё могут удерживать скобу и когда силы оставят его, и они сами по себе разожмутся. Грань между жизнью и смертью.
Разведчики зашли на двух бээмпэшках с флангов и ударили в подбиравшихся к опорнику укров с тыла. В несколько минут всё было кончено. Спрыгнувший в траншею командир группы сначала сжал пальцы ротного, аккуратно вставил чеку обратно в корпус запала, разомкнул усики, а потом забрал гранату и сунул её в карман разгрузки. Они положили на броню комроты, и тот, улыбнувшись из последних сил, прошептал:
– Я знал, что Филин вытащит, я знал…
Оз[8] из остатков роты сколотил группу эвакуации, разместил всех «трёхсотых» на носилках и волокушах и отправил их в тыл, а сам вернулся обратно. Добравшись до позиции своей роты, поднял опрокинутый взрывом пулемёт, заправил ленту, передёрнул затвор, расставил в траншее собранные ручные гранатомёты, аккуратно разложил на полке траншеи гранаты и снаряжённые магазины и стал ждать, когда наступающая цепь врага подойдёт на сотню метров.
Когда Филину доложили, что всех «трёхсотых» вытащили, но командир роты Оз остался, он сначала решил, что у парня просто снесло крышу. Такое бывает, когда отчаяние захлёстывает злостью и мозг закипает. Он бросился к рации и вызвал ротного:
– Ты чего это удумал? Ты давай выходи. Ты мне нужен здесь живым. Понимаешь: живым! Кто ротой командовать будет, если ты там останешься? Умереть мы всегда успеем, это дело нехитрое…
Ровный голос Оза прервал его:
– Товарищ Филин, я в порядке. Просто жалко оставлять такую позицию. Попробую отбиться. Мне бы патронов побольше сюда да выстрелов к «гранику»…
Он отбил две атаки прежде, чем добралась к нему посланная Филином подмога. Перебегая от пулемёта к пулемёту, он бил короткими очередями, а когда самые настырные подходили близко – работал с «граника», приговаривая сквозь зубы:
– Бессмертные, говоришь? Ну так к своему Бандере пожалуйте. Он вас заждался. На небо пожалуйте, ангелы света, на небо…
Их было немного, посланных Филиным, но это были «волки», его «волки», и когда очереди их автоматов заглушили пулемёт Оза, укры рванули назад. Ни в этот день, ни на следующий, ни даже в течение недели они больше не наступали на опорники, которые держали «волки».
И комроты, и Оза представили к орденам Мужества. Получат ли они их – никто сказать не может: у «волков» особый порядок награждения. Иной раз и по году наградные ходят по коридорам Минобороны, залёживаются, пылятся или вообще теряются.
На Филина представления ещё за Чечню где-то бродили по канцеляриям, пока не затерялись – уникальнейшие операции проводил. Такое бывает, особенно когда награда приглянулась другому. За эту войну уже больше года плутают где-то по коридорам (или закоулкам?) представления на медаль «За отвагу» и Орден Мужества.
За четырёх «леопардов» никто из его бойцов ничего не получил. За отбитые у Берховки и за Соледаром утраченные другой бригадой позиции тоже никто и ничего. И ему, и его бойцам можно за каждый прожитый на войне день по медали давать, да только тогда кризис с металлом в стране возникнет. К тому же, если так воевать, то и война закончится…
– Не до ордена, была бы Родина с ежедневными Бородино, – цитирует Филин Кульчицкого и улыбается. – Не за бронзулетки сражаемся – за Россию.
Баркаса Филин до этого не видел. Знал в бригаде многих в лицо, а вот встретить Баркаса не довелось. Слышал по связи: Баркас то, Баркас это, а вот так, глаза в глаза, воочию, впервые.
– Товарищ Филин, разрешите на три дня в отпуск.
Перед ним стоял невысокий, ничем не приметный мужик лет за сорок и выделялся лишь умоляющим взглядом. Когда обращается незнакомый боец, да ещё с такой просьбой, значит, случилось что-то выпадающее из обычной рутины.
– Ты кто, чудо природы? Позывной?
– Баркас.
– Давно у нас?
– Два с половиной месяца.
– И уже по дому затосковал? – усмехнулся Филин.
– Не в тоске дело. Надо мне, товарищ Филин, очень надо.
– Мотивируй.
Оказывается, отсидел шесть лет за ДТП[9]. Освободился, толком дома не побыл, как случилась СВО. Добровольно пошёл в военкомат, подписал контракт. Дочь толком не видел, а тут послезавтра она замуж выходит. Повидать хотел, слово родительское сказать, а то, может, и не свидятся больше.
Филин не имел права давать отпуск – не в его полномочиях. Но раз такое дело – взял на себя всю ответственность. Под честное слово этого Баркаса, будь он неладен.
– Даю ровно четверо суток, и чтобы во вторник двадцать первого был здесь как штык.
– Спасибо, товарищ Филин. Не подведу.
Во вторник в десять семнадцать утра в эфире Филин услышал «квитанцию»[10]:
– Я Баркас, правее полсотни два вижу бэтээр и «саушку»[11].
Впервые за неделю Филин улыбнулся.
Спозаранку, пока утренний холодок бодрит, рассортировав привезённое и распределив его по двум машинам – в уазик и эльку, отправились из Луганска за сотню километров на рембазу артдивизиона. За Горском нас должен был встретить зампотех и сопроводить к Белогоровке, где Старшину и меня уже заждались.
Однако зампотех ещё не вернулся с «боевых», куда сродни нам тоже подался по утренней прохладе. Провожатых не нашлось, поэтому, разгрузив эльку, вдвоём со Старшиною на уазике отправились дальше без сопровождения. Без сопроводительных документов, без пароля и пропуска болтаться в прифронтовой полосе – безумие, дерзость и мальчишество, но мы дали слово прибыть к назначенному времени и нарушить его не могли. Хотя запросто нас могли на первом же блокпосту задержать и отправить «на подвал»: ну кто эти два охламона не первой свежести, как не потенциальные шпионы, шатающиеся вдоль ЛБС? Ну даже если и нет, то пусть впредь наукой будет и им, и другим. Профилактика – вещь доходчивая и в прифронтовой полосе даже крайне нужная: другим неповадно будет шататься без документов. А вот если бы попали мы к «вагнерам», то шансы остаться навсегда в ближайшей от блокпоста лесопосадке возрастали бы до немыслимых высот.
Пекло неимоверно, к тому же влажность зашкаливала, поэтому броники надевать даже не пытались – лежали они сиротливо на заднем сиденье вместе с разгрузками и касками. Вместо брони – тельняшка да нательный крестик, молитва и вера, что ничего случиться не должно. Ну просто не может!
Поскольку шли вдоль ЛБС, то на блокпостах эти два старичка вызывали любопытство, удивление, а то и оторопь. Во-первых, здесь давненько не появлялись военкоры. Во-вторых, у этих наглецов не было никаких разрешений и согласований. В-третьих, их никто не сопровождал: ни ССО, ни спецназ, представитель пресслужбы, ни даже какой-нибудь товарищ прапорщик из военной полиции, как принято у приличных и уважаемых представителей прессы. Короче, старички-разбойники шарились на свой страх и риск, создавая головную боль старшим блокпостов: им-то зачем принимать самим решения – пропускать их дальше или нет.
Наглость, как известно, второе счастье, а дерзость города берёт, так что все преграды прошли почти в одно касание, кроме пары постов из въедливых комендачей. Те своими наивными вопросами мозги выполоскали до стерильности, хотя прекрасно понимали, что ответы наши будут либо лукавыми, либо вообще нереально-фантастическими. Спасало то, что в случае задержания надо было выяснять личности, что было на грани фантастики ввиду отсутствия приличной связи, писать рапорта, выделять сопровождение для доставки в комендатуру и совершать ещё кучу формальностей. И это при дефиците личного состава, утомительной жаре, не утоляющей жажду тёплой до противности воды, дискомфорте от нагревшихся броника и каски, пыли, пота, при желании упасть и уснуть… Проще было бы пристрелить их и прикопать в какой-нибудь лесополосе, да только комендачи – не «вагнера», блюдут правила, хотя порой и формально.
Добрались в Кременские леса к полудню. Выжатые зноем до полуобморочного состояния, мокрые от пота и грязные от дорожной пыли, прибыли в условленное место на опушке леса. Близкая пулемётная трескотня, разбавляемая татаканьем зушек, добавляла дискомфорт, а вот совсем рядом бахающая и бухающая арта (выходы) вызывала досаду: того и жди из-за них ответку, могли бы и подальше отъехать, лентяи.
В Кременной навстречу пронеслась багги с развевающимся жёлто-чёрным имперским флагом. Попалась «буханка» с советским красным флажком на лобовом стекле. У многих военных шевроны тоже были с красными флажками со звездой. Преемственность поколений, продолжение Великой Отечественной и Гражданской, вместе взятых.
Встретил нас Паша, так и не услышавший, как мы подъехали, как я ножом открыл замок, как вошёл: после полученной контузии он едва слышал и в разговоре больше читал по губам собеседника, вслушиваясь изо всех сил в звук его голоса и всматриваясь в губы. Был он в футболке с улыбающимся Чебурашкой на груди, в берцах, с автоматом за спиной.
Дома у Паши осталось трое детей: два мальчика и девочка – старшей двенадцать годочков, младшему три. Алкоголь и табак на дух не переносит, что, в общем-то уже не удивительно: встречал таких мужиков довольно часто. Тут крайности – либо заливающие свой страх, либо ярые противники этих пристрастий. На фронте с первых дней: как только началась спецоперация, то сразу же пошёл в военкомат, не дожидаясь повестки. Думал попасть в танкисты согласно ВУС,[12] но направили стрелком в пехоту. После первого ранения «работал» уже на АГСе[13] – всё бы ничего, да только тяжеловатая штука. За точный глаз перевели на зушку[14] наводчиком – старенькая пушчонка, ствол пятой категории – не стреляет, а плюётся, давно просится на замену, но в Пашиных руках по точности сродни снайперской винтовке.
Два месяца назад в их мотолыгу вошёл дрон-камикадзе. Результат – бронетранспортёр повреждён (укры отчитались об уничтожении мотолыги и ЗУ-23 с расчётом), четверо ранены, а пятый погиб. Весёлый был паренёк, всё шутил, и как-то сразу прикипели к нему душой, да только не повезло парню. Увы, дрон вошёл в мотолыгу рядом с ним, когда тот сидел сверху на броне между башенкой и зушкой. Ему перебило ноги, и он истёк кровью – не спасли. Не поехал бы с ними – был бы жив, а судьбу за хвост дергать не стоит. Хотя кому что на роду написано, судьбу не обманешь.
Он не из их экипажа-расчёта, из соседнего взвода, первый раз с ними поехал: уговорил взять его с собою в качестве охраны, потому что в лесополосе, которую «расчёсывали» зушкой, всего метрах в пятистах закопались укры. Хорошо, если отсидятся в траншеях, а если какие-нибудь «бессмертные» подберутся вплотную и пустят в ход гранаты или вообще попытаются захватить в плен? Командир дал отмашку: тут прикрытие в его лице не помешает. Вот ведь как: готовились к засаде, а прилетел беспилотник…
Мехвода спас открытый люк – принял и осколки, и ударную волну. Правда, глушануло знатно, так что дня три в голове гудело и тошнило. Командира сбросило взрывом и посекло осколками, как и заряжающего. Паше осколки пробили руку, зашли под броник со спины, обожгло щёку. Мехвод завёл мотолыгу, и они своим ходом добрались до лесочка, где и укрылись. По пути ещё трижды их пытались достать минами – видно, висел где-то второй «глаз», но корректировал не совсем удачно.
Паша фактически сбежал из госпиталя через неделю, не долечившись – не хотел, чтобы отправили в другую часть. Короткий отпуск, встреча с родными, и вот он здесь поправляет здоровье ароматом настоянной на солнце терпкой хвои Кременского сосняка.
Мне всегда было интересно понять мотивацию этих ребят попадания на войну. Ну с мобилизованными ясно: там выбора нет, принесли повестку и вперёд. Судьба, что поделаешь. А вот с контрактниками сложнее: кто-то не скрывает, что пошёл лишь потому, что таких денег на гражданке ему никогда в жизни не заработать. И что век может быть укорочен пулей или осколком не останавливает – авось пронесёт. Но кто-то сразу говорит, что деньги ни при чём. Вот и Паша из этих. Деньги никогда не были самоцелью – зарабатывал неплохо, дом построил, машина была.
Паша допил кофе, выплеснул гущу на тарелочку, усмехнулся.
– Жизнь себе на кофейной гуще не загадаешь. Ты сам себе ей дорогу торишь. Я ради детей своих пошёл, чтобы им не пришлось опять очищать от скверны землю русскую. Пафосно звучит? А просто я так думаю. Мы же брянские, люди лесные, духом вольным напоенные. Мои предки ходили на поле Куликово, поляков изгоняли с земли русской, Бонапарта били, немцев… Мы завсегда воинской профессии не чурались. Спрашиваешь, ненавижу ли хохлов? Да нет, конечно, такие же русские, только мозги набекрень. Отношение как к больным. Только вот различать надо: хохлы и нацики. Вот тех, последних, я ненавижу и считаю, что их надо просто стирать с лица земли. Эти не перевоспитываемы. Эти хуже зверей. Вэсэушники воюют знатно – славяне всё-таки. Уважаю. Устал от войны? Как сказать, заканчивать, конечно, пора бы, да только на западной границе бывшей империи и никак не иначе. Ничего, потерпим, поясок потуже затянем и дальше пойдём, поползём, но гниду эту в землю закопаем.
У нас ответственная миссия: вручить награды бойцам 448-го мотострелкового полка. Вручить в окопах и желательно под треск пулемётов, свист пуль и разрывы снарядов. Так решил Витя, а противиться ему бессмысленно, так что оставалось радоваться за ребят и молить Господа сберечь этих шутоломных и не очень нормальных волонтёров. В блиндаже сумрачно и камера даёт не очень качественную съёмку, в окопе тесно и нужный ракурс не подберёшь, вот и выбрались в лесок под тень деревьев. Хорошо хоть не на бруствер окопа, а то Старшина мог и такое учудить.
Решение о награждении медалями «Ратная доблесть» и «За участие в специальной военной операции» приняла «Ассоциация поддержки десанта Курской области» по согласованию со Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство». Медали авторитетные, минобороновские, но право награждения сохранили за всероссийской ветеранской организацией.
Награждаемых шестеро, но трое ещё утром ушли на задание, поэтому награды вручает Старшина только троим. Не останови его, так он отправился бы следом.
Это их первые медали за полтора года войны, хотя за время боёв они не раз и не два ходили на штурм укроповских опорников, отражали атаки, сражались на изюмском направлении, теперь под Кременной. Были ранены, а некоторые и дважды, и трижды, но каждый раз возвращались в свой родной полк. Олег, Саша, Ваня. Самые что ни на есть русичи – москвич, калужанин, брянчанин. Отважные, скромняги, о себе ни слова: пожимают плечами, говорят, что ничего такого не совершали. Чего ничего? Спартак, их командир, смотрел на мужиков с гордостью и неподдельной радостью: достойны и не таких наград.
На время награждения арта замолчала. Не доносилось стрельбы и «стрелкотни», будто все прониклись торжеством момента. Как только сделали групповой снимок, вновь совсем рядом тишину разорвал грохот артиллерийских «выходов», взвыла РСЗО, невдалеке на бреющем прошли „сушки“ – товарищи по оружию салютовали героям.
Комдив приказал взять укроповский опорник. Приказ не обсуждают, а выполняют, даже если он невыполним. Позиции укров протянулись по самому гребню холмов, а значит, можно не то что полк – дивизию положить, но высоты не взять. Обойти бы их и ударить в тыл или, в крайнем случае, во фланг, но только не переться в лоб. А то и вообще артой перепахать, а потом уже заходить на зачистку, но комдив был непреклонен: плечи жгли полковничьи погоны, а заветная генеральская звезда всходила как раз за этими холмами.
Остаться на НП и наблюдать, как под огнём ложится полк, комполка с позывным «Клён» не захотел. Раз суждено погибнуть батальонам, так он будет с ними. Среднего роста, сухощавый, даже поджарый и на первый взгляд ничем не примечательный своей обычностью, тем не менее он обладал завидной отвагой, мужеством и настолько редким в нынешней офицерской среде таким понятием, как офицерская честь. Его любили солдаты, уважали и готовы были идти за ним, что называется, в огонь и воду.
Он долго изучал передний край, прощупывая взглядом каждую травинку и мысленно сравнивая его с картой комдива. Танковую роту комдив предлагал поставить в центре и под её прикрытием навалиться по всему фронту. Клён чертыхнулся: стратегия времён наполеоновских войн, осталось только построиться в парадные коробочки и с развернутыми знаменами под барабанную дробь двинуться на пулемёты. Нынешним Наполеонам хотя бы эпопею Озерова «Освобождение» посмотреть, а не современный лубок с претензией на трагедийность или компьютерные игры, тогда, может, и понятие о тактике было бы иным. Чем они в академиях занимались? Двоечники.
Комполка действовал вопреки планам комдива. Он поставил танки по флангам, приказав комбату-1 одной ротой двинуться по центру, поддержав их АГС, «Кордами», «Утёсами», птурами, создав маломальскую огневую мощь. Пусть укры думают, что именно здесь наносится главный удар. Второй и третий батальоны он сместил на правый фланг – самое неподходящее место для атаки: в логу ручей и густой тальник по берегам, карабкающийся по крутому склону, далее полсотни метров степи, упирающейся в траншеи. Триста метров открытой местности. Если его клинцовцы[15] одним махом перескочат через ручей и окажутся в «мёртвой зоне», то останется ещё полсотни метров. Это на один рывок, десяток секунд вверх по склону, а потом бросок гранаты и автоматная очередь в упор. Но если повезёт…
Клён сам повёл батальоны в атаку. Со стороны могло показаться бравадой, куражом, вызовом, но для него это решение по совести. Полковник впереди атакующих рот. Что-то из «Войны и мира». Капитан Тушин современной войны. Незаметный и надёжный. Такому верят. За таким идут на смерть во имя жизни.
Наступающие цепи прореживали пулемёты, кромсала арта, а они шли. Осколками мины его автомат покорёжило – разорвало магазин, пробило ствольную коробку и глубоко резануло ствол. Клён поднял автомат сражённого бойца, мазанул рукавом, стирая грязь, и бросился вперёд, обгоняя цепь. Вроде бы и невысокий в обыденной жизни, он вдруг предстал былинным богатырем, которого видели бойцы и слева, и справа, сжатый в пружину, краса и гордость брянцев. Ну почему будто вырос вдвое, так ведь выкосили вокруг него бойцов, вот и оказался на виду.
В одно касание они перемахнули ручей и, не останавливаясь, рванули вперёд. Сначала ошалевшие укры даже не поняли, откуда выросла эта мабута[16], молча рванувшая вверх, захватывающая ртом воздух, выдавливаемый из лёгких учащённым дыханием. И это «ах-ха-а-а, ах-ха-а-а», вдох-выдох, неслось вдоль цепи атакующих. Рыскающие взгляды, застывшие на спусковых крючках пальцы и несущийся по цепи вдох-выдох. А потом будто взорвавшееся ура, мат, взрывы гранат, автоматные очереди, крики, и пошла зачистка по траншеям.
Клён окинул взглядом лощину: всё ещё горели его три танка – два справа и один слева; бугрилось телами погибших поле – совсем немного, но это были его солдаты, и заходили желваки на скулах под натянутой кожей; эвакуационные команды собирали раненых. Он доложил о выполнении приказа, и комдив не скрывал радости, обещав «загнуть» фланги другими полками, а его немедленно сменить на захваченных позициях. Комполка ждал, но фланги оставались открытыми, а обещанной ротации не было, только доносилось из рации: «Да, да, подходим, мы рядом, мы скоро…» И так до самых сумерек, пока стало понятно, что никто не придёт. А зачем, когда доклад ушёл в штаб корпуса: высота взята. И теперь комдиву можно было колоть дырочку на мундире и менять полковничьи погоны на генеральские. Цинично, но, в общем-то, типично.
Укры сначала засыпали взятые траншеи минами, а затем обошли с флангов. Клён понимал, что полку осталось жить до утра, и потом его полк накроют минами, снарядами и ракетами, а затем теперь уже укроповская мабута зачистит траншею, безжалостно добивая раненых. Он давно уже понял суть и выгоду этой странной войны, её циничную ложь и жуткую правду, потому и отдал приказ на отход.
Ночью батальоны бесшумно снялись и отошли на исходную, вынеся всех «трёхсотых» и «двухсотых».
Комдив обвинил полковника в трусости, ни словом, ни взглядом не укорив командиров двух других полков, не выполнивших его приказ и не пришедших гибнущему полку на помощь. А Клён смотрел на своего комдива и думал о том, что никакая генеральская звезда не стоит спасённых им жизней. Что он выполнил невыполнимый приказ и взял опорник. Что ему ещё идти дальше на запад со своим полком. Что сегодня батальоны поверили в него и в себя, потому что взяли высоту малой кровью и потому что именно он вёл их.
Он ещё не знал, что стал для полка, да и для всей дивизии чуть ли не легендой, и солдаты с восхищением наперебой рассказывали, как Клён вёл в атаку своих солдат в полный рост, расчищая короткими автоматными очередями путь. Как первым ворвался в траншею, круша врага прикладом автомата, потому что закончились патроны, а потом ножом, сапёрной лопаткой и всем, что попадалось под руку. И никому было невдомёк, что у комполка не было никакой сапёрной лопатки, что он не крушил головы укров прикладом автомата, потому что у него был автомат со складным прикладом, и что за всё время боя он не обнажил нож. Просто он стал легендой, этот молодой отважный полковник, умеющий воевать и беречь солдат.
Конечно, не дело комполка водить в атаки своих солдат: его место на КП полка. Поднимать в атаку бойцов – это дело взводных или, в крайнем случае, ротных. Но здесь был особый случай и честь офицерская не позволяла ему прятаться за спинами своих бойцов, идущих на смерть. Он именно так понимал свой долг командира: быть рядом со своими бойцами в момент смертельной опасности. Для него честь, долг, совесть всегда были в приоритете. Его так воспитали.
Назови сейчас его фамилию – и конец его военной карьере: сразу же легко узнать фамилии двух других комполка и комдива, а они будут всё отрицать и плевать, что их презирают солдаты. У них карьера. Им тоже хочется генеральские звёзды на погоны, «бронзулетки» на грудь, а понятия чести и долга – это что-то из придуманной книжной жизни.
Не буду называть конкретное место, время и бригаду, чтобы не впасть в немилость Минобороны. Ограничусь лишь общим направлением – Сватово – Кременная. Наши занимают позиции на высотах, хотя какие там высоты – одно название, так, пупочка на ровном месте, но какая-никакая, а видимость приличная и горизонт заметно отодвигается. Укроповская оборона напротив просматривались неплохо, во всяком случае в дальномер отчётливо видно, как сновали их машины, бронетранспортёры, бээмпэшки, что-то и кого-то привозили и отвозили. Впрочем, они особо не прятались – так, малость осторожничали, знали, что у нас очередной дефицит в снарядах и минах, потому и трогать их не будем.
Между нашими траншеями и украми – низинка, ложок с покатыми склонами, складочка, от ледника оставшаяся, шириной в полкилометра, а местами и того меньше. Внизу по сухой старице редкий и хилый кустарник, а по склонам в обе стороны неяркий цветастый ковёр с низким ворсом из сизого чернобыльника, жёлтого донника, сиреневых шапочек татарника, ковыля, чертополоха, овсяницы и ещё десятка малознакомых или совсем незнакомых трав.
До сентября двадцать второго года в этом ложку вдоль старицы посёлочек в два десятка домов тулился, прячась в садах. Теперь на месте построек лишь груда кирпичей среди выстриженных под ноль тополей и ракит и дичающий сад без рук хозяйских.
Недели две назад укры решили выбить наших с «опорника» и ломанулись напрямик через лощину, да неудачно: с десяток самых ретивых (или невезучих?) ещё на склоне положили, два бэтээра сожгли птурами вместе с десантом. Сегодня на поле уже десятка полтора бээмпэшек и бэтээров и сотни две «двухсотых». До самых шустрых рукой подать – сто двадцать семь метров до самого ближнего и в оптику даже нашивки читаются. Наверное, не верили, что останутся здесь лежать на выжженных солнцем склонах, думали, что всё, одолели русню, в кармане победа, а оно вон как обернулось… И стлался по склонам запах смерти – густой, насыщенный, тошнотворный, перемешанный с запахом степного травостоя.
Комбриг говорил негромко, кривя рот – контузило ещё весной, а мышцы лица так и не обрели прежний тонус, – что каждые два-три дня приезжает пара-тройка автобусов, выбрасывает вэсэушников, и они тупо лезут на наши пулемёты. Без попытки обойти по флангам, без предварительной артподготовки, с какой-то обречённостью – волна за волной, то накатываясь, то откатываясь, оставляя в выгоревшей траве маленькие бугорки. Сначала двигаются перебежками под миномётное сопровождение, но как только натыкаются на своих «побратимов», то шаг замедляется, начинается челночная движуха вправо-влево, а то и вовсе останавливаются и выбирают место, куда бы залечь, но всё уже занято прежними «бессмертными». Тут они осознают неизбежность конца, неотвратимость смерти именно здесь и сейчас, и что им уже никогда не выбраться отсюда, сбиваются в стайки пугливыми перепёлками, и пулемёты начинают свою жатву…
Голос его был бесцветен, с налётом равнодушия, тон негромкий – он никогда не кричал и не ругался матом. Он вообще был уникален, этот молодой комбриг: мат он не терпел в принципе, что делало его белой вороной, потому что мат гулял и по траншеям, и по штабам, и даже в самых высоких кабинетах. Любил песни Высоцкого и Визбора, Кукина и Дольского, «Колоколенку» Леонида Сергеева, а Николай Емелин у него вообще звучит каждый день. Но вот Митяева слушать не хотел. Слащавый, говорит, и неискренний, короче, слабый он… Читал Маркеса и Карлоса Сафона в подлиннике, мог часами рассказывать о Дали, а вот к Лорке относился более чем прохладно. Вообще-то, и в школе, и потом в училище английский изучал, а вот испанским овладел по интернету. Почему испанским? А считает их в отличие от итальянцев по характеру жёсткими, настоящими мужиками. К тому же, если знаешь испанский, то разберёшься и с португальским. А ещё он знал чуть ли не наизусть «Честь имею» Пикуля – считал её настольной книгой настоящего офицера.
Комбриг как-то тускло произнёс, что с минуты на минуту, как по расписанию, подойдут автобусы и выбросят очередную смену, которая так же, как и предыдущие, начнёт торить свои последние тропы в низинку, чтобы никогда из неё не выбраться. Ну а тех, кто будет упрямо карабкаться наверх, положат его пулемёты…
И тон, и слова его поражали обыденностью: автобусы, очередная смена, будто речь шла о шахте или заводе. А людей привозили для того, чтобы они здесь просто умирали. Харон переправляет их отсюда в вечность… А их с надеждой тоже ждали жены, дети, матери… И не ждала предавшая свой генный код Украина…
Комбриг ненавидел тех, кто обрекал этих мужиков в бессмысленных атаках на заведомую смерть и даже не забирал тела убитых. После того, как очередной раскрученный военкор из пропагандистского пула поинтересовался, не чувствует ли он себя палачом, выкашивая ряды наступающих, он приказал выкинуть его за пределы расположения бригады и навсегда закрыл сюда путь этой братии. Своим бестактным вопросом этот военкор затронул то, что комбриг прятал от посторонних глаз где-то в глубине души и не хотел ни перед кем делиться сокровенным.
– Мы зеркально воюем. Ты думаешь, у нас дуроломов или предателей меньше? Поровну. Кто-то за полковничьи или генеральские погоны мясные штурмы устраивает. Кто-то за бронзулетку или звёздочку батальоны кладёт. Ни они не берегут людей, ни мы… Начни мы эту войну по-другому, ни на рассвете, а хотя бы предварительно недельку через матюгальник разговаривали – по-другому бы и война шла.
Я мысленно прикинул: вторую неделю каждые два-три дня по три-четыре автобуса – это минимум шестьсот человек. Два батальона в пять приёмов всего на узкой полоске фронта в полкилометра длиной пожирала эта война.
Подошёл к дальномеру, навёл марки – благодаря оптике было прекрасно видно, как подъехали автобусы, как, толкаясь, вылезли из них озирающиеся по сторонам люди и затолпились тут же, как подошли три бэхи[17], забирая на броню десант. Марки легли на корпус автобуса – четыреста восемьдесят девять метров. С АГСа покрошить – раз плюнуть, не то что из миномётов, да «Кордами» заполировать. Конечно, для дальномера полкилометра – не расстояние, здесь бинокля достаточно, но лучше не высовываться, а то снайпер воткнёт пулю в глаз или с поправкой на полметра от окуляра вниз прямо в сердце…
Нам повезло: ветер гулял с подветренной стороны и украм приходилось задыхаться в смраде разлагающихся тел, что никак их не воодушевляло. Да и солнце било им в глаза, слепя и мешая бить прицельно. Они двинулись в атаку как-то суетливо, прижимаясь к бээмпэшкам, словно пытаясь за ними найти защиту. Они шли, то ускоряя шаг, то замедляя, а как только ступили на усеянную телами погибших низину, так и вовсе остановились, но потом снова пошли, стараясь не наступать на погибших. Да и цепи-то уже никакой не было и штурмовые «тройки» смешивались, сжимаясь к центру и превращаясь в обыкновенную толпу испуганных и обречённых… Хоть и враги кровные, но всё же люди и также жить хотят…
Их подпустили ровно на две сотни метров и ударили в упор из «Кордов», «Утёсов», ротных ПК[18], автоматов. Разом вспыхнули две бэхи, и лишь третья, распуская шлейф дыма, развернулась и ходко рванула назад. Слетевшие с брони пехотинцы быстро-быстро бросились вдогонку. Её можно было стреножить, но комбриг процедил:
– Пусть уходит. Им будет что рассказать и, может быть, после этого они начнут воевать по-настоящему.
Почти никто из наступавших обратно не вернулся, не считая сбежавшей БМП с десантом.
Завтра или послезавтра снова придут три больших автобуса и выбросят полторы сотни обречённых на смерть. А потом будут привозить ещё и ещё, и так до тех пор, пока они не закончатся, страшные в своей покорности умирать, либо когда кто-то не сочтёт достаточным оптимизацию этих недочеловеков. Ведь у приватизаторов войны мы все недочеловеки, независимо от того, из Украины они или из России. Недочеловеки крошат недочеловеков.
– Когда всё началось, я думал, что это продолжение войны Великой Отечественной, – комбриг смотрел на простиравшееся перед его взором поле. – Теперь считаю, что Гражданской – корни туда уходят. Потому и такая она обоюдно жестокая и ожесточённая. Только вот есть одно отличие: мы обходимся без издевательств, мы уважаем доблесть солдата, даже если он враг. Более того – даже если он идейный враг. А вот они – нет. У них какая-то животная ненависть. Откуда это? В культуре, что ли? Воспитании? Или это на уровне генном?
– От страха это, комбриг, от страха, – тихо произнёс я, разминая сигарету, но не прикуривая, – комбриг не любил сигаретного дыма. – Слабые они духом.
Двадцать седьмого июля – День памяти детей, жертв войны на Донбассе. 27 июля 2014 года во время обстрела «Градами» Горловки погибли Кристина Жук и её дочь Кира. Сейчас число пострадавших от войны детей Донбасса приближается к трём тысячам, а погибших, раненых и искалеченных детей после начала СВО не поддаётся счёту. А сколько их с искалеченной психикой, неврозами, сопутствующими заболеваниями? А сколько лишённых детства? А сколько потерявших отца, мать или вообще ставших круглыми сиротами?
Кто-нибудь считал, сколько погибло детей и сколько их было искалечено здесь, в белгородском, курском, брянском приграничье? Знают ли об этом те, кто так и не собирается заканчивать эту войну? А сколько ещё детских душ, этих ангелов безвинных, уйдут в мир иной и будут с укором взирать на то, как взрослые разрушают мир?
Эта дата должна быть не Днём памяти детей – жертв войны на Донбассе, а Днём памяти жертв войны с Западом и украинскими нацистами. Жертв геноцида русских в современной прокси-войне.
Не знаю почему, просто необъяснимо, но в этот день мы молчали, ограничиваясь односложными фразами – говорить вообще не хотелось.
Вчера прислали наши друзья из мотострелкового полка, сражающегося под Кременной, несколько фото, снятых через полчаса после нашего отъезда. Оказывается, пристреливаются укры к нашей «избушке»: ударили «хаймарсами» и кассетниками.
В прошлый приезд ракета «Града» вошла в соседний дом. Обошлось без жертв и ранений, да только девочка – двенадцать лет всего! – сошла с ума. Мать плачет, отец лицом каменеет. Говорит, что жизнь потеряла смысл.
На этот раз ударили по нашему месту: прошлый раз «малыха»[19] прилетела, теперь натовские ракеты и снаряды. Наверное, кто-то из местных «стучал». Тут этих «дятлов» достаточно. Кто-то ждёт возвращения Киева, кто-то ненавидит Россию, причём ненависть необъяснима, кто-то этим зарабатывает…
Вечером позвонил Старшина, сетовал о случившемся, а потом сказал, что пора заканчивать таскать судьбу за хвост. Я рассмеялся: это он мне говорит, что пора начинать осторожничать? Это я каждый раз осаживаю его, предупреждаю его, прошу, а он только отмахивается: авось пронесёт. Начал перечислять ему все случаи: «хаймарсы» под Сватово и Боровой, минная засада между Боровой и Балаклеей, леса от Святогорска до Изюма и от Купянска до Балаклеи, Попасная, Кременная и… Но тут он прервал меня, поскоморошничал насчёт раскаяния, изобразил раскаяние и пообещал, что ходить теперь будем не по лезвию бритвы, а по жёрдочке. В общем, исправился и сегодня же покается в церкви.
Война – это лакмус. На войне выпукло высвечиваются те проблемы, к которым мы привыкли, приспособились, притёрлись на гражданке, принимаем как неизбежное зло: жестокость, алчность, равнодушие, подлость, ханжество, тщеславие, трусость, ложь, казнокрадство. А рядом – отвага, товарищество, жертвенность, сострадание, участие, доброта… Но есть деликатные темы, о которых вслух говорить не принято, а спрашивать как-то неловко. А проблема есть, зачастую трудно разрешимая, да ещё с последствиями…
Штаб бригады занимал целый подвал пятиэтажки. Собственно, кабинеты (разделённые занавесками или фанерными перегородками помещения) комбрига, начштаба, управление связи, оперотдел с картами во всю стену, начальник разведки, помещение для приёма пищи, для отдыха и ещё с полдюжины разных служб и отделов. Даже нашли место для тренажёров. Ну и, конечно же, спальные места, уголки, закутки, где можно было «заныкаться» от сурового взгляда комбрига.
Он сидел за столом, угрюмый, без привычных весёлых чёртиков в карих глазах, короткими взмахами впечатывал кулак в столешницу и цедил сквозь зубы:
– Я вас всех кастрирую. Я вас в штурмах сгною. Жеребцы племенные, быки-производители, боровы-осеменители. Кто приплод воспитывать будет?
С полдюжины «производителей», склонив головы и потупив взгляды, стояли перед ним, старательно изображая глубокое раскаяние. За занавеской давился от смеха начштаб. Мы старательно изображали на лицах печать серьёзности, как и подобает моменту, едва сдерживая рвущийся наружу смех.
– Пошли вон, кобели, – выдохнул комбриг. – Превратили бригаду в племзавод.
Провинившиеся мгновенно и бесшумно испарились.
Комбриг выдохнул, словно груз тяжкий с плеч сбросил, и потянулся к остывшему чаю:
– Да я их не виню. Молодые, кровь кипит, бунтует, бесится, природа своё берёт. Ты только взгляни на них: красавцы! Аполлоны! А бабы взбесились, чуть ли не силком тащат на себя. Тут такие страсти кипят – Шекспир от зависти сдохнет. Мы здесь больше года стоим, кто со скуки кобелится, кто романы крутит, а кто успел и детишками обзавестись. Намедни очередная мамаша заявилась с претензиями: пусть боец деньги на содержание даёт, а то дитё сделал и в кусты. Говорю ей, что нет его в бригаде, что он в госпитале, а она не верит: покрываешь своих кобелей, командир, жаловаться самому главному буду. Хохлы – ещё те марксисты, у них бытие определяет сознание, прагматичные до пяток, только вот как эта Галю промашку дала – удивляюсь, не иначе обольстил её суженый-контуженный светлым будущим.
– Она не промашку дала, а Бурому, – ржёт за занавеской начштаба. – Я уж списочек составил, кого усыновлять и удочерять всей бригадой. Придётся на довольствие брать.
– Ты мне, лишенец, всю оперативную работу с местными провалил. Я тебе говорил взять на контроль всех особей женского пола, особенно слабых на передок да до мужиков охочих, а ты что?
– А что я? Бурому поручил, только у него своя метода проверки. Кто ж думал, что он познаёт всё эмпирическим путём.
– Нашёл кому поручить. За ним аж трое младенцев числятся. Глянешь на его лоснящуюся физиономию и без генетической экспертизы ясно: этого подлеца работа.
Бурый классный разведчик, а ещё красавец: высокий, атлет, роскошная улыбка с голливудскими зубами, голос воркующий, взгляд томный из-под бархатных ресниц. Да, здесь начштаба явно лопухнулся – пустил козла в капусту.
– Сам понимаешь, – как бы винится комбриг. – Полтора года никого из бригады в отпуска не пускают – только в госпиталь отбывают не по своей воле. Я уже говорил комдиву, что проблемы будут, а он отмахивается: веди разъяснительную работу. С кем? С бабами или с бойцами? А может, мне тут полевой роддом организовать?
– Давай я тебе памперсы привезу, – сочувствую я. – И детское питание.
– Нам бы лучше презервативов побольше, – опять давится смехом за занавеской начштаба.
Комбриг в меру воспитан, но тут не сдерживается и посылает нас в долгий эротический путь: решил, видно, что я тоже подшучиваю над его бедой.
Мы выбрались из городка под вечер. Комбриг провожал нас до самой опушки и долго махал рукой, пока наша машина не скрылась за поворотом.
Война войной, а детишки рождаются. Только вот порой сиротами… А может, это форма народной дипломатии?
Как-то уже рассказывал о Патрике и Персике: дружном собачье-кошачьем семействе, живущем у разведчиков артдивизиона. Точнее, жившем: разведка ушла дальше, сменив дислокацию и оставив Патрика в крохотном городке на попечении добрых людей. Изредка проведывают, привозят продукты, а иногда просто заезжают, чтобы душу отвести. В день их приезда Патрик с утра дежурит у калитки, во двор не заходит, чует, что именно сегодня приедут ребята, и ни разу ещё не ошибся. Необъяснимо, как собака узнаёт о приезде!
Как только машина останавливается, и бойцы выпрыгивают, Патрик с лаем и даже визгом бросается к ним, подпрыгивает, норовит лизнуть – высшее проявление собачьей радости и преданности!
А Персик погиб: вроде бы и не близко мина упала, но осколком – крохотный такой осколочек, достало. Бросился к нему из укрытия Патрик, схватил зубами за загривок, притащил его к хозяйскому порогу, да не спасти уже было. Похоронили Персика на опушке леса со всеми воинскими почестями, а Патрик до вечера не возвращался: молча лежал у маленького холмика, положил голову на вытянутые лапы и даже не оглядывался, когда его звали. Медаль Персика командир прикрепил на стене блиндажа рядом с его фотографией.
Вот ведь как бывает: вроде кошка да собака, подобрыши, а словно люди, всё понимают и переживают также по-человечески. А может, нам у них надо учиться переживанию?
После Персика осталась дочка. Маруськой назвали, только окрас в папашу. Шалунья и проказница ещё та и, конечно же, всеобщая любимица. Комдив ворчит: не балуйте, испортите кошку, мышей ловить не будет. Только сердитость эта напускная: при случае сам норовит на колени её взять и приласкать. Говорит, что как только война закончится, так заберёт Маруську с собою, не бросит, потому что друзей не бросают.
Август
Первая декада
Очередной «конвой» не задался сразу: долго не могли найти что-то из разряда «буханки», куда можно было бы запихнуть основной груз. Не загрузить, а именно засунуть, запихнуть, запрессовать, потому что разумно разложить его в машине просто невозможно – негабаритный и слишком объёмный, а Витин «ларгус» оказался таким крохотным!
Выручил Алексей, координатор регионального КРП[20]: предоставил «буханочку». Набили грузовой отсек под «завязочку», досталось и пассажирскому – оставили условно-свободным только уголочек сиденья для третьего из экипажа.
Вторая машина – привычный Витин «ларгус», наш заслуженный работяга войны. Груз «запрессовали», выделив только чуть-чуть сиденья для Светланы Владимировны: она сопровождала адресные посылки в Горловку, не доверив столь ответственное задание нам. Возмутительно, конечно, но что хочет женщина, то хочет сам Господь. Хотя нет, он тоже ошибается и порой в недоумении от напора и решимости женщины. Тем более если эта женщина – Светлана Владимировна Горбачёва, экс-федеральный судья первого квалификационного класса (целый генерал), почти полгода пролежавшая после травмы позвоночника, стержневая, с железной волей, необыкновенной доброты и совестливости, а ещё бесстрашия.
Разбились на две группы с разными задачами и логистикой, но до Луганска – вместе. Вообще-то уже не раз убеждались, что в дальней дороге лучше идти парой: нередко приходится реализовывать принцип взаимовыручки. Так и в этот раз – три с лишним часа потери времени на ремонты «буханки». Хорошо хоть рядышком с Вейделевкой, где нашёлся свой Левша, а заодно магазин запчастей.
Экипаж «буханки» – Евгений и Дмитрий Бакало (отец и сын) и Александр. У нас привычный – мы с Витей Носовым да Светлана Владимировна. Конечно, моряки были суеверными чудаками, придумав, что раз женщина на корабле – жди беды. Это просто совпадение, что машина стала ломаться после первых двухсот километров: Светлана Владимировна здесь, конечно же, ни при чём.
В Луганске расстались с Женей Бакало и его командой: у них в плане были Северодонецк, Рубежное, Боровое, а у нас Первомайск, Попасная, артдивизион, штурмовая бригада «Волки», 200-я арктическая бригада, дерущаяся за Соледаром… Короче, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…
Хоть и с запозданием, но успели что-то сделать засветло, «отработали» горловский госпитальный груз, коробки с карандашами, красками, альбомами и прочей всячиной для луганских деток, ну и спецгруз для 39-го госпиталя 106-й десантной дивизии. Ну, а уже ночью передали тээрки[21], металлоискатель (гораздо эффективнее штатного армейского миноискателя), сети, «кикиморы» и тому подобное для миномётчиков и сапёров 2-го армейского корпуса.
На следующий день по адресам разошлись сети, миноискатели, БПЛА, кое-что из снаряжения и «бытовухи». О команде Жени рассказ отдельный, но отработали они на пятёрочку с плюсом.
Сегодняшний солдат нашей армии и прошлогодние мобилизованные – небо и земля. Во всём: по духу, по умению воевать, по сноровке, по стойкости. Да и держат себя иначе: спина прямая, в струночку, взгляд серьёзный, испытывающий, не затравленный и угасший, как осенью. Порой израненный весь, а с позиции не выгонишь. Белый от потери крови, сам жгут наложит, кое-как перевяжется – и за автомат. Его в госпиталь, а он обратно рвётся.
Клещеевка стала уже нарицательной и проклятым местом, как прошлой осенью Терны, Васильевка, Невское. Хотя таких Клещеевок здесь более чем – и больших, и малых. И всё-таки в Клещеевке по-прежнему муторно: грохочет день и ночь, село ровняют артой, укры лезут на высотки упрямо, буквально по своим трупам, а наши упорно отбиваются. Вроде бы и слова схожие по значению – «упорно» и «упрямо», а вот понятия всё-таки разные. Украми движет наркота и страх как доминанта их упрямства.
А вот у нас упорство – это всё-таки наше, родное, русское.
Почему помянул Клещеевку? Ушли «вагнера» или ушли «вагнеров» – не важно, но пока сбылось пророчество Пригожина, что уход «вагнеров» обернётся позиционкой и продвижение либо захлебнётся вовсе, либо будет в полшажочка и с большими потерями, потому что армия не готова к «рубилову». Да она ко многому не готова, только вот умолчал он о цене своих побед, а она далеко не малая. Хотя он прав в том, что его «вагнера» – это рэксы войны, что равных им в городских боях в нашей армии, да и не только в нашей, нет.
Из боя под Клещеевкой вышли четверо: трое ранены, один контужен – его взрывами трижды швыряло, как мячик в центрифуге. Не просто вышли – вынесли всё «железо» – АГС, «Корд», РПК, автоматы, каски, броники, разгрузки. К слову АГС весит три десятка кило, «Корд» – двадцать пять, броник с разгрузкой – без малого пуд. И всё это вытащили четверо – трое раненых и один трижды контуженный.
Троим всё-таки выдали справки о ранении, четвертому, контуженому, нет: ротный фельдшер решил, что контузия – пустяк, не стоящий его бумаги. И вообще с контузиями разбираться надо, а то как чуть что, так контузия, хотя налицо – симуляция. А у симулянта голова распухла, под глазами круги иссиня-чёрные от сотрясения мозга, но видимых-то ран нет!
Пока на них документы оформляли, они глотали какие-то таблетки, запивали энергетиком и отнюдь не собирались в госпиталь: только обратно на позиции. Не в состоянии шока говорили – сутки выбирались, так что шок, если и был, давно прошёл, и не бравировали вовсе: они уже знали цену смерти. Там оставались их товарищи, и они должны быть с ними. Вот так просто говорили, без патетики, словно в магазин за хлебушком собрались.
А контуженый ничего не говорил: он просто не мог говорить, а только мычал да заикался и знаками давал понять, что никуда от своих товарищей, ни на шаг, что они одной пуповиной связаны.
Говорят, что больше половины штурмов[22] – зэки. Не знаю, как было у «вагнеров», но в нашей бригаде их едва пятая часть наберётся. Но какая! А нашей потому, что замкомбрига наш земляк, наш друг, такой же «отмороженный» и не очень нормальный, как и мы сами, и опекаем мы его ещё с прошлого года. И гордимся им, потому что таких, как он – по пальцам пересчитать. Имя своё он запретил упоминать – не нужна ему слава. Осмелюсь назвать его позывной – Филин. Этим всё сказано для людей сведущих.
Правовой статус бывших заключённых размыт, да и государство этим не слишком озабочено: зэки в «штурмах», а значит, решается проблема содержания осуждённых, проблема их будущей социализации, проблема фронта. Они без имени, звания, прав – только личный номер и жетон с литерой «К» – в обиходе «кашники». Они разные: мастер спорта, срок в двадцать два года за двойное убийство («замочил» приехавших дербанить его бизнес рэкетиров); криминальный авторитет, пятнадцать лет за наркоту (говорит, подсунули опера, потому что ну никак взять иначе не могли); совсем молоденький паренёк – девять месяцев за кражу, отбыл пять. Украл шоколадку и ещё что-то по мелочи в магазине, но хватило на срок – к таким суд щедр. Как говорит один мой знакомый, укради миллион – депутатом или сенатором станешь, а мелочь какую-нибудь – срок огребёшь. Но для нас они все зэка на одно лицо, от которых исходит опасность: чёрные души и мысли чёрные. Чернорабочие войны. А на поверку дело делают светлое – за Россию головы свои кладут. Хотя это уже слишком пафосно: они просто реализуют шанс изменить свою жизнь, вектор которой уже однажды менял направление. А у кого-то и не однажды.
В комнатёнке тесно и шумно: одновременно работает дюжина радиостанций с дюжиной радистов, принимающих дюжину сообщений и передающих их только Филину. Тот, не выпуская из цепкого взгляда расстеленную на столе оперативную штабную карту, анализировал и выдавал короткими фразами распоряжения, которые тут же летели в эфир. У случайно оказавшегося здесь и не посвященного в это действо уже через четверть часа раскалывалась голова от множества голосов, шума, треска, писка радиопомех, от наэлектризованной опасностью и ответственностью штабной атмосферы, а Филину всё нипочём.
В привычный и размеренный ритм ворвался дежурный с сообщением, что какой-то раненый сидит в Новоазовской комендатуре и требует, чтобы за ним прислали машину. От Новоазовска до штаба – почти две сотни километров и послать машину даже в корпус проблема, а не то, что в такую даль. И кто требует?! Не комкор, не комдив, а какой-то безвестный солдат! Невиданная дерзость! Не иначе обдолбался наркотой или горилки набрался, а теперь кочевряжится. И всё же он вызвал начмеда и распорядился доставить этого оборзевшего воина в штаб, разобраться и доложить.
Начмед вернулся к вечеру и, тая в усах улыбку, поведал, что раненый – «кашник» из их бригады. Последняя стадия онкологии, три месяца назад был отправлен в ростовский госпиталь умирать. Филин вспомнил: это он приказал отправить доходягу, чтобы тот хоть закончил свой жизненный путь в больничке на белых простынях. А «кашник» упирался, ругался, просил и умолял оставить его в бригаде.
Начмед добавил, что «кашника» госпитальные медкомиссии трижды списывали «подчистую», но он упрямо требовал направить его к «волкам».
– Волчара я, понимаете? Волчара! И воевать буду только у них и с ними, – хрипел он, заходясь в натужном кашле.
Филин выслушал начмеда и хмыкнул:
– Жив, значит, лагерник. Давай его сюда.
Через минуту перед ним стоял худющий – в чём только душа теплилась – боец. На вид лет шестьдесят, зубы редкие и прокуренные, недельная щетина – ну просто бич вокзальный, жизнью выполосканный и до косточек выжатый.
– Тебе годков-то сколько, лишенец?
– Тридцать девять.
– Семья?
– Жена, двое детишек. Девочки, младшей семь, старшей двенадцать.
– На шконку загремел за что?
– Бытовуха. Собутыльника неудачно приложил. Шесть лет вкатали, пять с половиной отмотал.
– Что ж не досидел? Всего ничего осталось.
– Не хочу зэком домой возвращаться.
– Воевать можешь?
– Хочу.
– Не про хотелки спрашиваю. Воевать можешь?
– Хочу, – набычился «кашник».
Филин по-птичьи склонил на плечо голову и с любопытством смотрел на стоящего перед ним.
– А почему к нам?
– Я начинал у «вагнеров», потом в «Ветеранах» был, пока не расколошматили, у вас уже полгода. Здесь человеческое отношение, людей берегут, даже «двухсотых» вытаскивают, не то, что «трёхсотых». С умом воюете. Да и потом в авторитете вы, гражданин начальник, у нашего брата. Человеков в нас видите, а это уже уважуха, которую надо отработать.
Филин давил рвавшееся наружу желание обнять этого мужика: услышать такое из уст солдата – дорогого стоит.
– Будешь пока при медчасти до заключения начмеда, что к войне годен.
Боец ушёл, а Филин смотрел ему вслед и думал о том, что в словах этого солдата ответ, почему стремятся попасть в его бригаду, даже сбегают из других частей и умоляют принять их. Побольше бы таких бригад, и врагам совсем грустно будет.
Филин был неправ: дело совсем не в бригаде. Её олицетворяет командир и он делает из порой аморфной массы мощный кулак, который зовётся воинским коллективом. Личность творит историю и Филин, вольно или невольно, но тому подтверждение. Так что этот зэк рвался не вообще в бригаду, а именно в бригаду Филина. Точнее, к самому Филину, которого не просто любили и уважали – боготворили бойцы.
Пленный сидел на снарядном ящике, прижимая к груди раненую руку, будто нянчил в пелёнки укутанного грудничка. Он изредка морщился от боли: рассечённая до кости рука – это всерьёз и надолго. Его взяли после полудня два часа назад. Они шли на ротацию 7-й роты, которой не оказалось на позиции: одних смели артой, другие, не дожидаясь, сами «сменились» и выскользнули по флангу к себе в тыл и затихарились. В перепаханных и разрушенных взрывами траншеях лежали погибшие и из земли торчали их головы, руки, ноги, части тел, что повергло смену в уныние и безысходность. Но унывать долго не пришлось – наши накрыли их артой сразу же, как только те вышли к позициям и ещё не растеклись по траншее. Там его и ещё троих нашла наша разведка и привела сюда.
Он сидел ссутулившись, на вид за полтинник, тускл, сер и безучастен, говорил на вполне понятном суржике. Зовут Дмитро из Кропивницкого. Мобилизован в июне этого года: пошёл вечером к куму горилочки выпить, да не дошёл: остановилась машина, выскочили военные, скрутили, привезли в военкомат, расписался в получении повестки – и в лагерь для подготовки. Короче: сходил к куму в гости, попил горилки.
Говорить он начал на украинском, но минут через двадцать перешёл сначала на суржик, а потом и вовсе на чистый русский и звался уже не Дмитро, а Дмитрием, и родом не из Кропивницкого, а из Кировограда. Тракторист, работал в агрофирме. Старший сын в Польше, младший школьник, но мобилизация уже в затылок дышит.
Поначалу говорил неохотно, смотрел как-то исподлобья и затравленно. Потом стало понятно: ждал, что начнут избивать и измываться. Им внушали, что в плену обязательно будут пытать и истязать, а тут вкололи обезболивающее, перевязали, накормили, дали помыться и даже переодеться, пусть и не в новое, зато в чистое. Ну а когда дали пару пачек сигарет за просто так – вообще шок.
На груди православный крестик на шнурке. Стали говорить о закрытии лавры – не верит. Командир роты разведчиков показал видео: почерневшие кресты на лавре, вынос икон, взашей гонят братию. Заёрзал, взгляд тупит и спина гнётся всё ниже и ниже. Ссутулился, плечи опустил, губы сомкнул, под небритыми щеками желваки заходили. Стали спрашивать по поводу ЛГБТ. Вроде бы не верит, но в глазах уже сомнение. Комроты показывает Раду – принимают закон, разрешающий однополые браки. Плюётся и крестится. Молчит, думает, что-то для себя решает. Увиденное и услышанное для него откровение.
Что хочет? Чтобы не обменивали – только не это, иначе опять на фронт отправят. Воевать не хочет, хватит, навоевался. Война всё равно закончится, так хоть живым останется. Почему не сбежал обратно в тыл, когда их арта накрывала? Страх спеленал, а потом стало всё равно: или русские убьют, или опять в атаку погонят и всё равно убьют. Если бы знали в роте, что никто в плену их не истязает и убивать не собирается – давно бы сдались.
Всего два часа плена, а уже верит, что русские не убьют его, что руку вылечат, что всё равно победит Россия. За тех, кто его в плен взял, будет молиться, а когда вернётся – будет за здравие свечки ставить.
Ощущение: сидит уставший от работы мужик, вроде бы и загнанный жизнью, но теплится надежда: а вдруг всё изменится? И говорит, будто сокровенным делится, не заботясь вовсе, что услышат его или нет. Всё равно, просто душа выговориться хочет. Может быть, впервые за эти годы он может открыто, вслух, выговорить наболевшее, и ему от этого уже легче, уже забрезжил свет надежды.
Разведчики улыбнулись: за двухсотую арктическую бригаду молись. Мы тут все Моисеи, всё равно выведем вас на дорогу, то есть на путь истинный наставим.
После предыдущей поездки мы давали объявление на нашем писательском сайте о сборе альбомов, карандашей, красок для детских интернатов ЛНР и детского реабилитационного центра. Сразу же откликнулся Женя Бакало со своим «Десятым кругом» – приготовил три огромные коробки с необходимым. Не удивился, когда знакомые лица отмолчались: что-то со слухом не в порядке. Они вообще по жизни не привыкли делиться – только брать. На себя заточены, что поделаешь. Надо просто исключать их из своей жизни, а переубеждать – только небо красить.
Что-то прикупили мы и в эту поездку передали в Луганский Гуманитарный центр помощи детям Василию Васильевичу Леонову, солнечному человеку, который, как солнышко своими лучами, согревает души детские, лишённые родительской ласки. Впереди школа и по-прежнему необходимо ученическое – тетради, ручки, учебники, карандаши, линейки, альбомы, пластилин. О школьной форме промолчу: очевидно, что не сможем – с нашими возможностями это уже финансово не по силам. И всё же будем собирать средства, чтобы увидеть сияющие от счастья детские глаза.
Война – это противоестественно и страшно, но вся история человеческой цивилизации – бесконечные войны. Война не только временной пласт, часть жизни нашей, отсчёт поколений, но ещё и судьбы каждого, слитые воедино. И всё равно у каждого своя война с искалеченными телами и душами. СВО – лакмус, проводит многих через осмысление, кого-то очистив, кого-то ожесточив, кого-то сломав. А кто-то всё равно умудряется остаться в стороне, спрятавшись в свою ракушку.
Всегда избегал пропагандистских штампов – просто короткие истории о том, чему был свидетелем или участником. Писал не о обо всём, тем более публиковал – были внутренние запреты на картины жестокости, человеческое падение, мерзость. Впрочем, о слабости человеческой как поведенческой мотивации тоже старался не говорить и вовсе не потому, что оправдывал или осуждал. Да нет, просто не хотел оценивать по привычным меркам тех, кто оказался перед выбором. Легко назвать предателем не выдержавшего пытки, трусом – сбежавшего в бою, мародёром – снявшего берцы с убитого, потому что у своих неделю назад напрочь оторвалась подошва и он целую неделю голыми пятками щупал земельку.
Имеем ли мы право судить себе подобного, не пережив того, что пережил он? Или прежде надо бы примерить на себя: а что бы делал я? Как поступил? Только не всегда можем честно ответить даже себе, не говоря уже о других…
Как-то вскользь упомянул Персика, блиндажную кошку, носившую на ошейнике медаль «За отвагу». Медаль действительно отважного бойца, добровольцем пошедшего на войну ещё в феврале прошлого года, контуженого и раненого. А потом был короткий отпуск к родным в Луганск всего на трое суток, встреча с детишками и женой, вставшей на колени в дверях, обхватившей его ноги и умоляющей: «Милый, любимый, не ходи! Ради детей молю: не ходи! Не пущу». Когда за ним приехали командир с бойцами, он забаррикадировался в квартире и выбросил в окно медаль со словами: «Простите, мужики, не могу больше! Забирайте, не хочу ничего! Не вернусь!»
Был бы один такой – ещё можно объяснить нервным срывом, но таких медалей лежало у командира пять. Пять тяжёлых серебряных кругляшей с колодками!
Кем их считать? Трусами? Сломавшимися? Предавшими фронтовое братство? Впереди неизвестность, за спиной рыдающая и умоляющая жена и дети. Ну, а у тех, кто, стиснув зубы, никуда не ушёл, детей разве нет? И рыдающих жён тоже нет? И впереди счастливое будущее?
Не оправдываю, но и не жалею. Пусть с этим и дальше живут: за кого-то и вместо кого-то.
Комдив привалился к сосне и запрокинул голову, провожая взглядом сбивающиеся в табун облака:
– Я с семнадцатого года в дивизионе. За всё время только пятеро «пятисотых», да и те, думаю, вернутся. Ну, а как вдовам будут в глаза смотреть? А их детям? Вот возьми соты пчелиные – все ячейки полные, и мёд вроде одинаков что по вкусу, что по цвету, вроде и рамка одна, и вощина, и соты одинаковые, а мёд разный в разных ульях. Да что там ульях – в рамках разный, хотя пчёлы в один улей нектар несут и вместе соты из вощины тянут, и мёд тоже вместе делают… Так и люди: вроде одно дело делаем, и всё же врозь. Один выкладывается, а другой норовит не устать, зато потом громче всех кричит и в грудь себя бьёт. Одним словом – жизнь во всех её проявлениях.
Военком был суров: «пятисотый», трус, под суд такого, чтобы другим неповадно было. Сам военком герой – с 2015 года шесть медалей на груди, давно неотделимой от живота. За СВО тоже успел получить ещё одну – «Участника». Когда запылал Донбасс в четырнадцатом – рванул в Киев, там до весны отсиделся, после Дебальцево вернулся серой мышью, затихарился, огляделся и всплыл в кресле военкома – прежние дружки подсобили.
А «пятисотый» в мае четырнадцатого пошёл к Мозговому в «Призрак», отвоевал весь год, в декабре по ранению вернулся, женился, тремя детишками Господь одарил. Началась СВО – добровольцем ушёл в 204-й полк, тот самый, что почти полностью полёг под Изюмом в сентябре прошлого года.
Военком занимался мобилизацией – жёстко, яростно, ретиво, затем вылавливанием отказников – и такие были, что греха таить.
«Пятисотый» воевал. Дядя его, племянник и брат тоже воевали. Дядя ещё осенью погиб при отступлении из Лимана, племянника в феврале мина на молекулы разобрала под Попасной, брат кровью истёк в апреле в траншее – не смогли эвакуировать. Отец умом тронулся после смерти сына – всё укры ему мерещились, потому с ружьём не расставался. Два месяца назад что-то померещилось ему, застрелил жену, а потом и сам загнал картечь себе в сердце.
Весной «пятисотый» получил контузию – голова до сих пор трясётся и речь как у пьяного. Отлежался в госпитале, потом отбыл положенный отпуск и… не вернулся в часть.
Плакал, твердил как заведённый, что его тоже убьют, если вернётся, что не может больше. Жена выла рядом, толкая детишек к ногам бойцов, приехавших за ним: «И их забирайте, всё равно без мужа на погибель оставляете!» Командир решил: пусть остаётся, оклемается, отдышится, сам вернётся.
А «пятисотый» два месяца смывал грязь и кровь с чехлов бронежилетов, которыми поделились «вагнера» с луганчанами, заправлял в карманы бронеплиты, стирал «разгрузки», пока не пришли за ним из военкомата: прознал о нём военком, вот и направил наряд на задержание. Военкоматовские – мужики местные, историю его знали, как «Отче наш», потому оставили лазейку: окно блокировать не стали, громко в дверь стучали, говорили, зачем пришли.
«Пятисотый» рванул через окно, они для порядка пальнули пару раз в воздух и ушли со спокойной совестью, а он, отсидевшись несколько дней у друзей- товарищей, решил уйти в Россию. На переходе погранцы сверили его паспорт с каким-то списком и двинулись к нему, но он ждать не стал и опять дал дёру. Повезло, ушёл, да только на другой день сам явился к погранцам сдаваться. Те передали его в комендатуру к остальным трём десяткам «пятисотых»: ждут, когда за ними приедут из части.
Жена каждый день воет под окнами комендатуры и умоляет отпустить его. Он уже ничего не просит – смирился. Такие, сломленные, погибают в первую очередь: внутренняя обречённость пулю или осколок притягивают.
Две короткие истории, а знаю подобных ещё с дюжину. Осуждать не берусь – слабость достойна сожаления, а не осуждения. И всё же…
А вот Паша из госпиталя сбежал обратно в полк. Даже в отпуск не поехал, хотя своих жену, троих дочек и двух пацанов любит безумно. На вопрос: почему вернулся до срока, ответил просто, без патетики: эту войну должен закончить он, не оставляя её своим детям.
Когда рассказал ему про первых двух, Паша не осудил, лишь пожал плечами: бывает, слабые они, хотя, может, и пройдёт. А вообще бабы виноваты: они делают мужика слабее. Особенно если хочется оправдать свою слабость.
Вторая декада
Этой поездки не должно было случиться, но случилась, порушив запланированное на неделю: укры вместе с кассетными снарядами применили химию и надо было срочно доставить противогазы в Житловку. Почему в полку их не оказалось – даже не спрашивали: какая разница почему, если их нет в полковой природе. Может, зам по тылу не подсуетился, может, начальник химслужбы полка лоханулся, может, какой-нибудь товарищ прапорщик загнал на барахолке, но противогазов нет. Нет от слова совсем! Вообще-то, противогазы – это так, призрачная защита в данном случае, когда даже не знаешь, отчего защищаешься. Туда бы сначала специалистов – пробы взять, состав химии определить, инструктаж, как действовать и чем защищаться, но у нас опять всё через одно место…
Остальное нанизывали, как колечки на стержень пирамидки: три беспилотника, антидроновое ружьё, маскировочные сети, генератор, стиральная машина «малютка», сбрасыватели (для беспилотников), ТР (трубы разведчиков), антитепловизорные накидки (одеяла), пять баллонов резины на машину, трёхлитровую банку мёда, генератор, «Теймуразова мазь», сухой душ, репелленты и кое-что по мелочам.
Витин «ларгус» даст фору грузовику, потому что втиснули всё собранное. Немыслимо!
Подъём в два часа ночи, потом база, погрузка, выезд в четыре утра, до самой дальней точки 627 километров. Расчётное время прибытия – одиннадцать тридцать. Опоздали всего… на две минуты! И это при непредсказуемости времени прохода границы и дюжины блокпостов. В прошлом году «нестыковка» в два-три часа – обычное явление, теперь же почти тютелька в тютельку. А всё благодаря Старшине – он уже порядком намылил глаза военной полиции на всех блокпостах, потому и пропускали его, приветствуя взмахом руки и улыбаясь.
Первой «точкой встречи» была двухсотая арктическая бригада: привезли обещанную резину, маскировочную сеть пять на шесть, два беспилотника и совсем не обещанную банку мёда.
Hyundai Tucson разведке «двухсотой арктической» пожаловал Алексей Васильевич Сотников[23] ещё по весне, но за четыре месяца резина «облысела» и пришлось прикупить новую. Беспилотникам ребята обрадовались несказанно – хоть они и считаются «расходниками», но у них «птичек» берегут. Привезённые нами беспилотники они «перепрошили», приспособили для сбрасывания гранат и к вечеру пустили в дело.
Разведчики обычно отказываются от всего, если и берут, то только то, в чём нужда крайняя, но на этот раз, увидев мёд, не устояли и радовались, как дети. Да они, в общем-то, пацаны ещё – немногим за двадцать, задор так и плещется в глазах, и разве подумаешь, что у каждого за плечами полтора года войны, что они уже заматерели, что давно «на ты» со смертью, не раз и не два расставлявшей силки на их фронтовом пути.
Ракетчиков «достали» стервятники – висят день и ночь, головы не поднять, так что купленное нами шестиканальное антидроновое ружьё всего за что-то около двухсот тысяч рубликов оказалось весьма кстати. Ну, а новенькая «птичка» – это будущий глаз дивизиона, пусть пока только один, зато острый, зоркий, считай орлиный. А вот на второй «глазик» средств пока не хватает.
Старшина долго и занудно втолковывал, как обращаться с нежной техникой, на какие кнопки можно нажимать, а куда не стоит, с какого расстояния «брать» беспилотник, а с какого бессмысленно – только себя засветишь и обязательно пришлют гостинчик. По беспилотнику он в тысяче первый раз втолковывал, что нельзя использовать другие батарейки, как пользоваться пультом, что ремонт нынче дорог, потому и беречь надо, как зеницу ока. Слушали бойцы, согласно кивали головами, но через неделю пошло-поехало: ружьё не работает, беспилотник не летает, пульт вообще сгорел.
Опять ехали, опять втолковывали, что можно, а что категорически нельзя, грозили карами небесными, чем запугали бесстрашных, и они начали отказываться от привезённого: да ну его к лешему, напортачишь, а Старшина запросто приведёт обещанное в исполнение. Уж лучше по старинке воевать будем. Пацаны неразумные, ну что с них возьмёшь! Но это было раньше. Теперь ребята со смехом вспоминают свои страхи и восторгаются Старшиной: Песталоцци! Макаренко! Ушинский! По своей уникальной методике обучил всех неучей дремучих.
«Ружьишко» пришлось ко двору: к полудню следующего дня «завалили» два «стервятника»: одного подобрали, а второй долго сопротивлялся, всё норовил прорваться обратно к украм и упал на нейтралке, обессилев. Разведчики обещали попробовать достать его. Короче, теперь в дивизионе есть своя результативная ПВО.
Блиндаж решили электрифицировать с помощью генератора – пусть и б/у, зато надёжный и достался по дешёвке. А вот сетей не хватило на все «коробочки», и ребята робко попросили, по возможности, конечно, привезти большую – шесть на четыре метра, чтобы укрыть «мотолыжку».
На следующее утро добрались до Кременского леса. Грохотало не по-детски, причём в разной тональности, создавая некую иллюзию работы на ударниках. Правда, диссонанс вносила долгая пулемётная дробь, то и дело доносившаяся со стороны реки, но через несколько минут уже перестали обращать на неё внимание.
На блокпосту уже знакомые комендачи встречали шуточками-прибауточками:
– Привет, суицидники! Ну что, помирать дома не хотите? Да и то верно: чего уж семью обременять, когда укры одним снарядом могилу выроют, а другим закопают.
Га-га-га, гы-гы-гы! Тоже мне, юмористы кандальные, чтобы вам вовек броню не снимать!
Встречал Ванечка – как всегда сияющий голливудской улыбкой. Он уже оправился от раны, дважды побывал в бою, а теперь поджидал нас по поручению замкомполка, занятого составлением рапорта по поводу гибели Весны. Это позывной паренька, что всего две недели, как пришёл в подразделение, но успел стать любимцем. Час назад он вылез из траншеи, снял броник, повесил его на сук сосны и только взялся за черенок лопаты, чтобы подправить окоп, как прилетевшая мина разворотила бронежилет и осколками располосовала грудь. А ведь было же приказано не снимать броню даже для сна, так нет, ослушался. Спартаку теперь достанется: командир всё-таки, за всё отвечает и его в любом случае назначат крайним, но огорчался он не по поводу предстоящих неприятностей, а горевал по поводу гибели Весны. Вот каждый раз будто отсекают по кусочку от плоти – больно, ой как больно!
На «точке встречи» Ванечка был с Димкой – водителем уазика. Машина стояла на двух пеньках – Димка крутил гайки на заднем мосту, поэтому только обнялись, и он тут же скрылся под своей развалюхой. Он из Питера, сюда добрался вот на этом самом уазике – купил по случаю. Как казаки на войну со своим конём призывались, так и он со своим «хантером» прикатил. На вид ботаник ботаником – долговязый и нескладуха, в очках с приличной толщины линзами, стеснительный и даже робкий. Но это только на первый взгляд: в бою цепкий и бесстрашный, водила – классный, а своего «коня» разбирает и собирает с закрытыми глазами.
Удивительно, насколько Русь богата талантами! Кругом одни самородки – что беспилотник подшаманить, что антидрон собрать, что машину починить, что самоходку…
Брянчанам привезли «заказ»: стиральную машину «малютку», сети, сбрасыватели с накалывателями (работают с беспилотников), несколько покрывал от тепловизоров и противогазы – сорок штук. Почему их нет в полку – говорить не буду, иначе дискредитация Вооруженных Сил, а вот в Великую Отечественную противогаз был у каждого бойца. Занимаясь поиском непогребённых останков бойцов Красной армии, всегда находили рядом с погибшими красноармейцами противогазы. Но это так, к слову.
Укры стали засыпать кассетниками, напичканными в том числе какой-то химией, отчего бойцы задыхались, кашель рвал грудь, из глаз текли слёзы. В таком состоянии, конечно, не навоюешь, так что противогазы пригодятся.
Для фотографирования Старшина по традиции развернул десантный флаг – ну никак без этого! Пиарщик! Конечно, десантное братство – это свято, только вот других курских десантников около Старшины за полтора года что-то не припомню. Но флаг всё равно разворачиваем: ну, как не уважить нашего дорогого Старшину.
Прошлый раз коснулся темы «пятисотых». Так вот один из них, тот, у которого погибли брат и дядя, умерли отец и мать, который «сломался», теперь вновь на войне. В наказание его отправили в штурмы, две недели отвоевал как положено, был ранен и представлен к медали – словно перевоплотился парень, отваги немереной, отчаянный и дерзкий в бою. Тайна перевоплощения так и осталась тайной – не сказал он ничего о причинах, какая внутренняя пружина расправилась. Сейчас перевели в санроту: раз вину свою кровью смыл, то живи теперь и наслаждайся. Ходит парень с головой поднятой, в глаза смотрит, взгляд не прячет.
Это к слову о «пятисотых» – всякое бывает. Сейчас частой гребёнкой чешут луганщину, собирают «пятисотых» и возвращают в части. Разумно, во всяком случае прежде мобилизации надо бы подсобирать тех, кто уже начинал воевать, а уж молодняк да необученных после обкатки на полигонах на фронт отправлять. Но мы русские, у нас всё делается через одно место.
А ещё бы собрать в отдельную боевую единицу всех вернувшихся в республику беглецов, сейчас рассевшихся в чиновничьих креслах, военкоматах, силовых структурах, этих затаившихся и мимикрированных укропов: пусть кровью докажут, что осознали, что это их сознательный выбор, а не хуторянская иезуитская хитрость. Это будет для них покаяние. Но их даже в храме со свечою не встретить, не то что с автоматом на передовой.
Возвращались через Кременную. Городок хоть и изранен – на каждом шагу развороченные взрывом дома, но кое-где в окнах стеклопакеты и новая кровля. Кстати, улицы не захламлены, мусора почти нет, во всяком случае видел, как один боец опустевшую сигаретную пачку с десяток шагов нёс до урны, другой вышел из машины и пакет с мусором тоже отнёс к мусорному ящику. А может, ещё и потому так с мусором обстоит дело, что народишка маловато, всё больше военные, а те к дисциплине и порядку приученные. Во всяком случае гражданские попадаются редко, да и то торопятся покинуть улицу. Точнее, то, что от неё осталось – выбоины, рытвины, воронки, пыльная проезжая часть в сухую погоду и грязища в дождь и слякоть. А тротуаров, помимо центра, нет вовсе, так что редкие прохожие едва успевают выскочить из-под колёс или траков мчащейся военной техники.
Заехали в администрацию – у Дэна[24] были там какие-то дела. Машина не закрывалась (хорошо хоть, что ещё двигалась), поэтому я остался «на охране», пока Дэн «прощупывал» местную власть, нестойкую к соблазнам и меняемую с завидной регулярностью. Старшина отправился в лавку молочком разжиться: Ваня на дорожку угостил пирожками, вот Витя и решил «размяться» ими.
На скамейке сидел пожилой мужчина, рядом играла девчушка, от машины к машине рыскала поджарая собака шоколадного цвета, напротив администрации на двух скамьях кружком расположились мужики, курили, переговаривались. Торопливо просеменила женщина в старенькой, но чистой курточке, затем ещё одна с бидончиком; проехала девчонка на велосипеде с приторочённой к багажнику сумкой; гуськом, след в след, прошли пятеро бойцов – низкорослые, худощавые, похожие внешне на китайцев или корейцев. Трое были в армейских панамах с красными флажками вместо кокард – китайские флажки, красные, со звездочками: одна большая и четыре маленькие. По-летнему тепло, сухо и даже пыльно.
У сидящего мужчины поинтересовался: это кто? Эскимосы? А может, корейцы? Лицо его по-прежнему ничего не выражало и ни один мускул не дрогнул даже на мои дурацки вопросы. Он ответил нехотя и равнодушно:
– Да нет, это удмурты или ещё кто-то. Короче, ваши, русские.
Вот ведь как: уже полтора года Кременная наша, а у него по-прежнему делёж на «ваших» и «наших». Причём подчёркнуто отчуждённо. И не только у него.
В общем, поговорили. Впрочем, словоохотливость может и боком выйти, поэтому местные, по обычаю, немногословны, тем более с незнакомыми.
Где-то совсем рядом внезапно «заработал» «василёк»: три пристрелочных по три мины, потом залп всей батареей. «Василёк» – штука голосистая, а когда мины выходят всей кассетой, то и вовсе глушит. Но что удивительно, так это ощущение, что ничего вокруг не происходит. Дедушка с внучкой, мужики на скамьях, прохожие, эти китайско-корейские русские удмурты, даже собака (удивительно!) ни хвостом, ни ухом не повела (наши бы уже забились в какую-нибудь щель) – ровным счётом никто не обращал внимание на грохот. Наверное, скорее им непривычна тишина, а с этой аранжировкой войны они уже свыклись.
Интересно, с какого бодуна поставили «васильки» в центре городка? Дебилы. Факт, что «ответка» не заставит себя ждать. Товарищи миномётчики смотаются, но под раздачу могут попасть вот те же мужики, сидящие на корточках или дедушка с внучкой. М-да-а, весело тут жить…
«Ящик» полнится фантазиями «экспертов и аналитиков», особенно по планам наступления, словно только что с совещания у начальника Генштаба вернулись и им доверили самое сокровенное по великому секрету, которое они непременно должны навешать на уши доверчивому обывателю. Иначе нельзя: приоткрой только занавесочку, так сразу же пойдёшь по статье о дискредитации армии и её стратегов, а так и на душе спокойно, и за умного можно сойти.
Меня заботит другое: как люди живут-выживают вот уже полтора года, что на душе, в какую сторону шагают или собираются дорожку торить. А так, с наскока не узнать и не познать, надо потереться, потолкаться, пощупать-понюхать да желательно на рынке или там, где есть очереди – вот классный источник информации.
Вернулся Старшина, разложил на соседней скамье газету – походная скатерть-самобранка, выложил на неё пирожки, достал тетрапакет молока (из Питера в Кременную доставили – фантастика!) и приступил к трапезе, щупая взглядом окрестности: умница, не расслабляется, всегда начеку, разведшкола десантуры в кровь вместе с солдатской кашей всасывается.
Шнырявший челноком пёс (породистый, крапчатый, охотничий) равнодушно окинул Витю взглядом карих глаз, втянул воздух, задрав нос, оценил малоинтересную снедь и опять забегал туда-сюда вдоль припаркованных легковушек.
Я всё-таки разговорил соседа по скамье, пока внучка вокруг круги нарезала, и поведал он о жизни в городке скупо и односложно, но хоть что-то… Работают только бюджетники – коммунальщики, энергетики, газовики, чиновники. У остальных вся надежда на пенсии. Вэсэушники обстреливают постоянно, но чаще окраины: горят дома, только и успевают тушить, рвутся провода, полосуют осколки газопровод. Раньше восстанавливали быстро, теперь подольше: повалит украинская армия столбы взрывами, а потом мин сыпанут вокруг, вот и приходится ждать, пока сапёры разминируют, а уж затем газовики или электрики начинают работать. Жить вприглядку приходится, всё время настороже, но ничего не поделаешь – война. В Россию не уедешь – никому там не нужны нахлебники, кто-то Украину ждёт – не без этого, конечно. Человеку что надо? Работа, спокойствие, уверенность в завтра, будущее для детей и внуков, да только где всё это? И какое на хрен спокойствие, когда город взяли, а дальше не пошли, будто нарочно подставили людей, чтобы укры разметали город по кирпичику.
Интересная версия, но подобное не раз уже слышал на Донбассе, да и у нас в белгородском приграничье…
Договорить не дали – вернулся Дэн, Старшина «добил» пирожки и молоко, облизнулся, как сытый кот, а ждать «ответки» на «василёк» что-то не хотелось, и мы рванули дальше. Мост проходили «змейкой»: в нескольких местах мины пробили полотно, так что приходилось лавировать. На выезде из города с нами попрощался «Град» – ушло не меньше полпакета. Взвыл знатно и совсем рядышком. Вообще-то реактивщики работали всё время, пока были в этом районе, и к счастью без ответа. Укры заняты обрабатыванием наших позиций – там ребятам крепко достаётся. То ли превентивно хохлы работают, чтобы не дать нам сконцентрироваться для атаки, то ли, наоборот, свою готовят, перемалывая наши опорники, но в воздух взлетают комья земли, обрубленные ветки и даже стволы, тянет дымом, гарью и сгоревшим тротилом.
Солнце пекло, воздух высушен и колюч, безветренно и пыль, поднятая машиной, висела над нами клубком, демаскируя по полной. Только беспилотников не хватало! Ещё не было случая, чтобы кого-то не достали они на этой «тропе войны», особенно любят легковушки, джипы, багги, квадроциклы. Думают, что на них передвигаются командиры, вот и висят над дорогой. Но нам опять повезло: в линялом небе ни облачка, ни «птички».
И опять про «кашников» – безымянные бывшие зэка с литерой «К» на жетоне. Как ни пытался разузнать юридическую подоплёку такого явления, как заключённые на фронте, но безрезультатно. Мне так никто и ничего вразумительного не поведал, как они проходят по документам: то ли всё ещё зэки, то ли уже освобождённые по УДО[25], то ли амнистированные. Как они вообще попадают на фронт? Заключают ли с ними контракт? Если да, то на каких условиях? А если нет?
Комбриг вообще отмахнулся: не лезь ты ко мне с этими пустяками. Ну какая разница, как они попадают в бригаду. Прислали списки, по головам пересчитали – вроде совпадает, по батальонам распределили и до первого штурма. Хорошо, если половина через месяц останется, а то бывает вообще меньше четверти доживают.
С «вагнерами» относительно понятно, не скрывали, что с зоны вытаскивали прямо под ружьё и порой без всяких формальностей. Поговаривали, что уфсиновцы под шумок списывали особо доверенных за огромную мзду под видом служивых всякую мразь. По документам вроде бы воюет, а фактически на юге пузо греет. Вообще, такое ощущение, что это сугубо частная армия и присягают «вагнера» на верность не государству, а хозяину. И зэки тоже ему клянутся в верности. Ну да там похлеще всяких клятв шанс отправиться на тот свет за малейшее нарушение: отвели за угол и шлёпнули без всякого суда и следствия. А вот как в войсках оказываются? Присягают ли на верность Отечеству? Или достаточно контракт подписать? Ну и ещё дюжина «как?» и «почему?».
Комбриг отмахнулся:
– Да достал ты своими «почему» и «как». Они всё равно живут от атаки до атаки, так что некогда мне заморачиваться на бумажки всякие. Я даже их лиц не запоминаю, не то что имён и фамилий. Они у меня расходники. Сегодня в штурмах положу – завтра новых пришлют.
Ну почему у Филина они такие же бойцы, как остальные «волки», а здесь безымянные «кашники»? Люди ведь они, да и невиновные есть – просто кому-то нужно было либо расправиться, либо бизнес отобрать, вот и подставили… Время такое беспредельное, но лакированное лозунгами всякими.
Под Соледаром севернее Бахмута невесело. После известных событий и ухода «вагнеров» Пригожин предрекал, что армия не удержит город и его придётся брать снова. Что фланги не выдержат, прогнутся или вообще «схлопнутся» и укры выйдут к Лисичанску, отрежут Кременную и вообще будет «не ах». Его прогноз не подтвердился, да и то лишь потому, что перебросили сюда десантуру да вчерашних «вагнеров», влившихся в армейские части. Правда, отношение к ним было аховое: старались нерадивые командиры растратить по пустякам этот золотой фонд профессионалов из-за страха перед ними. Или по заданию сверху? Кто ж знает, по каким внутренним законам живёт армия. А может, и по понятиям…
О жёстких и упорных боях под Соледаром, Берховкой, Ягодным, Парасковиевкой говорят мало или вообще в рот воды набрали, хотя они действительно имеют стратегическое и политическое значение, как и, в общем-то, весь отрезок фронта. Оборону держат бригады армейских ЧВК всех мастей, десантура и мотострелки. «Кашники» растворены в ЧВК, но по стойкости, упорству, духу их вполне можно выделить в отдельный род войск. Не знаю, есть ли они у десантуры или в «мабуте», но у «беспринципных наёмников» (так наш друг величает себя и своих товарищей) их достаточно. Впрочем, ЧВК называю по привычке, на самом деле это мужики, пошедшие под ружьё по контракту с Минобороны.
Случай из прошлой поездки к Филину. Разведка выходила к ЛБС и выносила раненых, когда упёрлись в минное поле. Небольшое такое, метров двести глубиной, а вот сколько по фронту – никто не скажет, потому как схемы минирования нет в принципе, а разбрасывали все, кому не лень. Точнее, все предшественники. А вдалеке едва виднелись наши траншеи. Обходить – сил уже не осталось, да и на сколько оно тянется – никто не знал, идти к своим по минам – шансов ноль и сто процентов гарантии подорваться. Можно, конечно, помощь подождать, да только здесь рулетка: фифти-фифти, то ли наши подойдут, то ли укры. Связались по рации, доложили, Филин распорядился ждать эвакогруппы.
Залегли, заняли оборону и стали ждать. Может быть, и дождались бы помощи, да только стали укры насыпать минами – щупали только, пока вслепую, но того и гляди накроют. И тут из траншеи поднялась дюжина «кашников» и молча пошла на заминированное поле. На глазах ведь разворачивалась трагедия разведгруппы, понимали, что погибнут ребята, если укры первыми поспеют, но не могли допустить этого. Поднялись и пошли цепочкой след в след: первый, второй, третий… Без приказа вышли из траншеи. Без приказа на смерть пошли во имя жизни. Молча.
След в след идут, взглядом траву щупают, а ни щупов, ни миноискателя нет… Первый подрыв – «двухсотый». Идущего сзади спасла дистанция – на пятки не наступал, отпустил на десяток метров, вот и повезло. Только удача шутницей оказалась: второй, третий, четвёртый – «все трёхсотые»: кому ногу оторвало, кого осколками иссекло. Падали молча, лишь изредка глухой стон сквозь стиснутые зубы… Жгут наложат, перевяжут, рядом с протоптанной тропой положат бедолагу и дальше идут цепочкой: первый, второй, третий… Взрыв – опять «двухсотый». Не трогали, только переступили и дальше змейкой шаг влево, шаг вправо – в шахматном порядке обычно минируют, вот и шли зигзагом. Молча топают, зубы стиснули, взглядом рыскают, ножками своими разминируют.
А шмели гудят, цикады вторят смычками, птицы высь таранят, солнце плавит день – сельская пастораль. Ещё один, другой, третий взрывы – все «трёхсотые». Противошоковое, жгуты, бинты – лежите, мужики, ждите, а если можете – ползите обратно. А сами опять идут, тропу торят, путь к спасению топчут. Дошли четверо из дюжины, вывели по своим следам разведку, своих раненых и погибших подобрали – разведчики помогли донести.
Когда вышли к своим, то командир разведгруппы обнял каждого «кашника», заглянул в запавшие глаза на исхудавшем лице, с трудом от перехватывающего спазмами горла произнёс:
– Спасибо, брат, мы ведь с жизнью уж распрощались… Вовек не забуду…
Никто не заподозрит командира даже в крохах сентиментальности – не тот мужик, заскорузла душа жестокостью, а тут что-то прорвало…
«Кашники», изгои, прокажённые. Герои земли Русской, плоть и кровь её. Смогут ли сломить нас? Победить ли смогут? НИКТО и НИКОГДА!
Это были «волки» Филина. Под Берховкой. На наших глазах. Слева отбивался Бахмут, справа – утюжили Соледар, а здесь, под Берховкой, шли редкие бои местного значения, о которых молчали военкоры и официальные СМИ. А ещё здесь насмерть стояли «кашники» Филина. Зэки без имени с литерой «К» на жетоне.
Ещё накануне с командиром разведчиков шутили, подначивали друг друга, курили, говорили, слушали. Был он непривычно словоохотлив и весел и пошутил ещё:
– Ой, чует сердце, не к добру разболтался.
Вечером он уехал – вызвали в штаб, а оттуда подался к себе в разведроту проведать однополчан. На следующее утро он не вышел на связь, а через час пришла весть: укры проломили оборону и захватили наши траншеи. Внезапно ударили, ночью скрытно подтянув резервы. Остались редкие очаги сопротивления, всё чаще угасающие, как угольки в кострище. Командир тоже остался там, не вышел – совсем ещё мальчишка, смешливый, с детскими ямочками на щеках. Верим, что жив, что ещё встретимся на этой земле.
Комбриг приказал поднять «птичку» – нужно было осмотреться, заглянуть вглубь, в ближние тылы укров. Линия окопов, хода сообщений, блиндажи. Почти везде уже суетится противник. Хотя нет, везде – да не везде. У раздвоенной сосны держались «кашники» – огрызался пулемёт короткими экономными очередями, дважды поднимался над бруствером боец с РПГ[26]. В третий раз выстрелить не успел: так и осел на дно окопа с гранатомётом в руках. Видно было, как другой боец отбросил пулемёт и взял в руки автомат – наверное, закончились патроны.
Перебежками продвигались укры, трое спрыгнули в окоп, двое по брустверу стали пробираться к тому бойцу, что был у пулемёта. Ему бы уйти – ещё была возможность по траншее вправо и далее через голое поле в лесопосадку – всего-то и переждать с полсотни метров, а он пошёл им навстречу. Прилипли к экрану, впились взглядами, понимали, что это конец…
Он замер, где ход сообщения делал поворот, и метнул за угол гранату – классический проход траншеи. Выпрыгнул, падая на колени и прижимаясь к противоположной стенке, полоснул короткой очередью вдоль окопа, добивая оставшихся в живых после взрыва укров. Поднялся над траншеей и короткой очередью в три патрона срезал оставшихся двоих. Голливуд отдыхает: пятеро «бессмертных» отправились на встречу с обожаемым ими Бандерой. Боец подошёл к ним, держа автомат наизготовку, нагнулся над ними, снял с них «разгрузки» с магазинами и вернулся к пулемёту.
Он не уходил. Он продолжал бой. Один. Безымянный «кашник», имя которого вряд ли когда кто-нибудь узнает. Воин православный земли Русской. Или магометанин. Или буддист. А может, язычник. Неважно – русский воин. Это у пиндосов один в поле не воин, а у нас и один в поле воин. Хотя всё-таки на миру и смерть красна…
Беспилотник возвращался – закончился ресурс. Все молчали, понимая, что никто на помощь ему не придёт – просто некому.
Наш старлей Саша, командир разведроты, третьи сутки вне связи, но комбат уверяет, что он жив. Пусть не выходит на связь ни он, ни его группа, но какие сомнения – живы! Бывает, что замолчала рация – сели аккумуляторы. Одновременно у всех сели – бывает! Или чужие уши пасут и каждый звук может предательски выдать – тоже бывает. Конечно жив, а иначе и быть не может: из таких передряг парень выбирался и из этой выберется. Знаем одно: занявших наш опорник укров уже «обнулили», «волками» идёт зачистка траншей, вытаскивают «двухсотых» и «трёхсотых», взяли шестерых в плен. Много не берут – так, для обмена только…
Пока ждём старлея, несколько слов о пленных, взятых в наш прежний приезд. Пленные на войне – явление не частое, это либо результат наступления или рейдов в тыл врага, либо его величество случай. Это только в «телеящике» бодрым голосом очередная «говорящая голова» радостно сообщает, что укры валом в плен. Правда, на экран выводят пару-другую, но остальные за кадром, это мы знаем. В этом мы даже уверены!
Разные они, эти пленные братья-славяне, но общее – это отличие от прошлогодних: уставшие, полиняли уверенность и спесь, всем видом выражают покорность судьбе. Глаза тусклые, взгляды потуплены, слова заученные: мобилизованные, воевать не хотели, необученные, в плену хорошо, не бьют, кормят, сигареты дают… Кто-то даже с облегчением смотрит, будто избавились от чего-то тяжкого и гнетущего, будто жили приговорёнными в ожидании смерти, а тут всё закончилось.
Про Дмитро из Кировограда уже рассказывал – типичный представитель укровермахта из сельской глубинки с раздавленными работой руками и чёрной каймой под ногтями. Взяли его раненым при прочёсывании траншей, не добили, пожалели – была возможность вытащить к своим. Хотя какая к чёрту сельская глубинка, когда жил на окраине областного города и работал в пригородном хозяйстве. Не такой уж и тёмный – темнее видали, а вот то, что воевать не очень-то и хотел – верю. А автоматный магазин был, кстати, пуст – расстрелял все патроны этот обозник.
Второй свалился в нашу траншею в рассветных сумерках, утонувших в разлившемся тумане. Сначала услышали его – ломился кто-то по окопу, как медведь в малиннике, спотыкался и чертыхался, потом увидели воина с цинком в руках и автоматом за спиной. Был он неказист и по-граждански мешковат, на худом небритом лице очки с толстенными линзами – сослепу заплутал, набрёл на наш ход сообщения и вышел прямиком на наше боевое охранение. Автомат отобрали, дали сигарету, напоили и послали в одиночку в наш тыл, предупредив, чтобы и не думал даже сбежать. Да он и не думал: потопал добросовестно, радуясь, что война для него закончилась.
Сорок восемь лет, полтавчанин, служил на почте сортировщиком, мобилизованный. Не горюет, что «демобилизовался» по случаю – ну, судьба, повезло так повезло. Доволен, что кормят сытно – давно так не ел, а ещё даже помыться дали. Двухлетнее плотное общение с хохлами убедило, что желудок у них как раз то место, которым думают и ради которого живут. Всё остальное – вторично.
Третий появился уже засветло – сам пришёл. Пятьдесят шесть лет, с Ровенщины, афганец. Мобилизовали ещё год назад, но оставили при военкомате – нет пальцев на левой ноге, так что не ходит, а ковыляет. Месяц назад закусился с военкомом и оказался на фронте. По документам провели добровольцем. Осмотрелся что к чему и через неделю подался к нам, но не напрямик через поле, а вкруг через превращённый в кирпичный хлам хуторок. Пробирался сутки, затаиваясь и часами высматривая безопасный проход, пока не вышел к нашим позициям. Рассказывал, что в Афгане его земляки называли свою дивизию «СС-Галичина» – тогда вроде ёрничали, да нынче слова материализовались. Украина сейчас кровью платит за предательство, за этот шабаш бандеровский.
Он на «расконвойке»: помогает по хозяйству, что-то ладит-прилаживает, чистит-моет – эдакий счастливый живчик. Поверили мужику не только потому, что сам сдался, а потому, что глаза у него бесхитростные, держит себя с достоинством, не угодничает. А по вечерам про Афган рассказывает – на всю оставшуюся жизнь врезалось. Если доживёт до возвращения домой, то будет чем с внуками делиться.
Трое пленных, три судьбы, почти одно поколение – сорок четыре, сорок восемь и пятьдесят шесть лет. Западная Украина, Полтава, Кировоград – вроде бы и разброс этногеографический, а по сути одинаковы, одной матери сыновья – Страны Советов. Западенец так и говорит: советский я, меня никакими печеньками в польские холуи не заманишь. А эти идиоты майданные уже доскакались.
И ещё что уже не первый раз слышу от пленных: кормят у вас хорошо и не бьют. Старшина бурчит:
– Хохлы чёртовы, за шмат сала ридну нэньку продадут. У них всё сознание, вся идеология в желудке помещается и через прямую кишку выходит.
А они-то знают, что с нашими в плену обходятся хуже, чем со скотом: и голодом морят, и бьют, и издеваются. У бандеровцев особая психология садиста на генном уровне…
Мы всё больше о войне говорим, а рядышком другая жизнь, её не остановить никакими минами да снарядами. Я уже как-то рассказывал о них: Виталии Рыбальченко, Денисе Пашкове, Медведе, Горе, Байке… Наши боевые друзья ещё по четырнадцатому году, и с тех пор так и идём по жизни вместе, помогая и поддерживая.
Денис Пашков – офицер МЧС, горноспасатель. В четырнадцатом с друзьями ушёл в ополчение, воевал на Весёлой Горе и у Металлиста, а в октябре новая власть родившейся в пожаре гражданской войны республики их разоружила, пропустила через «подвал» и вышвырнула за ненадобностью. Ни работы, ни денег даже на кусок хлеба, но не сломались: сначала в Семейкино (это посёлок под Краснодоном, откуда две трети «Молодой Гвардии» вышло) стали возводить церковь, а по вечерам в отремонтированном ими нетопленном спортзале собирали мальчишек и девчонок, «сбили» их в секции и стали тренировать. Выпестовали несколько команд по волейболу, атлетике, армреслингу, а когда тесно стало в Луганске – поехали по России и возвращались только с победой. И всё на личном энтузиазме да вскладчину, без поддержки со стороны местной власти, словно их и нет в помине.
Так и в этот раз. Сунулись было с предложением в администрацию, но там лишь скривились: опять эти неугомонные. И тогда они сами 12 августа провели спортивный фестиваль: пришёл участковый в свободное от работы время службу нести – охранять общественный порядок, пришли медики, из части приехали сапёры – так, на всякий случай. Участники – от шестнадцати до шестидесяти четырёх лет! По результатам – пятьдесят четыре диплома и непременные каша с чаем! Уложились в собранные в складчину десять тысяч рублей. Всего десять тысяч (!), которых не нашлось у администрации, ну да к этому привыкли. Праздник всё равно состоялся не благодаря, а вопреки! Информационное сопровождение организовало молодёжное отделение ЛДПР – им в зачёт пошло, но ребята не обижаются: одно ведь дело делается. Они бы лавры и администрации отдали, да только у тех соображалка не сработала.
А Данилыч наглядно доказал вред курения. Ему сейчас семьдесят два годика, а в 2014-м «скакал» по траншеям сайгаком, давая фору молодым. Он и сейчас пошёл бы, да военкомат завернул: иди, старик, домой, не морочь голову, без тебя забот хватает.
Подошёл к нему его бывший ученик: «качок», едва за тридцать, в меру нагл и хамовит соответственно накачанным мышцам, сигарета во рту. Поздоровался снисходительно, будто одолжение сделал.
Данилыч прищурился: здесь спортивные состязания, а ты с сигаретой. Негоже, слаб ты духом, хоть и мышцами обзавёлся. «Качок» завёлся: сигарета ему не во вред, здоровья хватает. Тут Данилыч и предложил: давай на руках бороться. Если одолею – публично поклянёшься бросить курить.
Стоящие стали отговаривать Данилыча – ну куда старику против этого амбала. Но если он закусил удила, то пиши пропало. Сели, локти в стол, кисти сцепились в замке. У «качка» на лбу вены вздулись и пот прошиб, глаза в пучок к переносице, а Данилыч, удержав руку, припечатал противника под удивлённые и восторженные возгласы зрителей. «Качок», багровый от стыда и публичного унижения, смял пачку с сигаретами и выбросил её в урну, поклявшись никогда больше не курить.
Удался праздник. И ещё деталь: пригласили, привели, привезли вернувшихся с фронта раненых и покалеченных. Поначалу они просто смотрели, а потом кто-то включился: шахматы, армреслинг, подтягивание, а Толян даже в заплыв пошёл. Показали им, что не брошены они, не обделены вниманием, что внутри жизни они, не на обочине.
Жизнь не остановить, жизнь продолжается. Они как та барахтающаяся лягушка, что сметану в маслице сбила.
Сентябрь
Первая декада
Планировали выехать в конце недели к «Волкам», что зубами вцепились в Берховку, не давая украм прорваться с севера в Бахмут (Артёмовск). Отвезти оборудование, сети, перископы и прочее, а заодно доставить в 7-ю бригаду, что сражается на кременском направлении, земляку, борисовцу, командиру взвода, Юрию Мамонтову УАЗ-452, купленный его женой. У Юры позывной «Бизон», хотя с одним Бизоном из лэнээровского полка мы приятельствуем.
По фронтовым меркам от Берховки до Кременной рукой подать даже по бездорожью – всего-то с сотню километров, а по карте так и вовсе крохотулька – пять сантиметров. А там и до «точки сбора» на окраине Рубежного всего ничего. Поэтому расчётное время прибытия на место встречи – девять часов утра плюс полчаса на всякие неожиданности.
Уже две недели машина маялась на базе ввиду отсутствия второго водителя для перегона. «Выпали в осадок» бившие себя в грудь обещавшие по первому зову поехать с нами – у каждого нашлись дела срочные и важные либо хвори внезапные одолели. А один так вообще согласился оказать только платные услуги по перегону машины. Так что поиски водителя на УАЗ пока успеха не имели, и поездка всё откладывалась и откладывалась на неопределенное время. Старшина тихо материл свою героическую десантуру, не пылавшую желанием подставить братское плечо, а Миша грустно сопел и в отчаянии безуспешно обзванивал приятелей.
Неожиданно утром позвонил давний друг, узнав про нашу маяту в поисках желавшего сесть за руль, и предложил свои услуги. Поскольку у него уже лежал в кармане билет на поезд, который через сутки должен был унести его в даль светлую, то сборы были скорыми и даже очень. Собрались буквально за пару часов, выехали за полдень, потому как планировали обернуться туда и обратно в одно касание, однако машина оказалась норовиста, торопиться не желала и требовала периодических привалов на мелкий ремонт. Так что к ночи удалось добраться только до перехода через теперь уже административную границу.
В вязкой темноте беззвёздной ночи оказались в Ровеньках. За «лентой» ждал комендантский час с предсказуемой недоверчивостью, настороженностью и назойливыми расспросами первого же блокпоста, а после 23 часов и до рассвета так и вовсе «парковка» в любом самом неподходящем месте. И самое главное неудобство – чуть меньше сотни километров разбитой вдрызг дороги (большей частью грунтовки), ныряющей в балки и карабкающейся на взгорки, продирающейся сквозь смыкающиеся заросли придорожных посадок, и гарантия нечаянной встречи со всякими обнаглевшими «ловцами счастья с большой дроги». Конечно, это был запасной вариант, который и намеревались использовать в светлое время суток, но ехать в ночь – это уже верх безумия.