Воспоминания о будущем
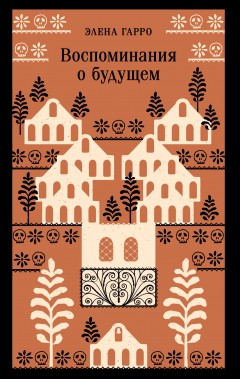
Магистраль. Главный тренд
Elena Garro Los recuerdos del porvenir
D. R. © 1963, Elena Garro + D. R. © 2021, Roberto Tabla, por la titularidad de los derechos patrimoniales + D. R.© 2022, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. (Mexico)
Перевод с испанского Екатерины Даньшиной
© Даньшина Е., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Воспоминания о будущем. Элена Гарро
Часть первая
Я здесь. Сижу на камне, который кажется вполне обычным. И только памяти моей ведомо, что он в себе таит. Смотрю на камень и вспоминаю себя. Подобно тому, как ручеек впадает в реку, я впадаю в печаль и вижу себя в этом камне. В камне, покрытом пылью, заросшем травой, заключенном в самоё себя и осужденном на вечную память и ее многоликие зеркала. Смотрю на камень, на себя и превращаюсь в разноцветное месиво эпох. Я был и я есть во множестве глаз. Я всего лишь память о памяти.
С этих высот я обозреваю себя: огромного, распростертого в иссохшей долине. Вокруг меня острые пики гор и желтые равнины, населенные койотами. Мои дома приземисты, выкрашены в белый, их кровли матовые от солнца или глянцевые от воды – засуха то или сезон дождей. Бывают дни, как сегодня, когда мне больно себя вспоминать. Вот бы совсем не иметь памяти или стать милосердной пылью, дабы избежать проклятия видеть себя.
Я помню времена. Когда меня заложили. Когда подвергли осаде. Меня завоевывали и украшали, встречая войско за войском. Познал я и неописуемый экстаз войны, рождающей хаос и неопределенность. Затем меня оставили в покое, пока вдруг не появились новые воины. Они выкрали меня и перенесли на новое место. И вот уже я в зеленой и светлой долине, у всех на виду. До тех пор, пока иная армия под предводительством молодых генералов не явилась под стук барабанов, чтобы захватить меня и вознести на гору, полную воды. И узнал я о водопадах и обильных дождях. Там провел я несколько лет. Когда же Революция впала в агонию, ее последняя армия, охваченная поражением, забросила меня в это умирающее от жажды место. Многие дома мои уничтожил огонь пожара, а их хозяев – огонь из ружей.
Помню, как кони в полном безумии метались по моим улицам и площадям, помню вопли испуганных женщин, захваченных всадниками. Когда последние из них скрылись из виду, а пламя уступило место пеплу, из колодцев начали выходить юные девы, бледные, онемевшие и разгневанные из-за того, что не смогли вмешаться в погром.
Мои люди смуглы. Носят белые накидки, ходят в кожаных сандалиях. Носят на шее золотые цепи или платки из розового шелка. Они неспешны, немногословны, и взгляд их устремлен к небу. Вечером, на закате, они поют.
По субботам церковная площадь, усаженная миндальными деревьями, наполняется торговцами и покупателями. Сверкают на солнце разноцветные бутыли с газировкой, переливаются ленты, горят бусины, розовеют и синеют ткани. В воздухе витают ароматы жарений и дровяного угля, запахи пьяных глоток и ослиных стойбищ. Ночь взрывается шумом петард и разборок: рядом с батареями кукурузных початков поблескивают мачете и масляные лампы. По понедельникам, рано утром, шумные захватчики уходят, оставляя мне парочку мертвецов, которых подбирают люди из городской управы. Так и повторяется, сколько себя помню.
На площади, где растут тамаринды, сходятся все мои улочки. Одна из них убегает дальше всех, пока не скрывается из виду на выезде в Кокулу. Вдали от центра уже редок камень, которым она вымощена. Чем ниже спускается улица, тем выше дома по ее обочинам – они растут на насыпях высотой два или три метра.
На этой улице стоит большой каменный дом с парадным входом в виде буквы L и садом, полным растений и пыли. Время здесь застыло: движение воздуха остановилось после стольких слез. В день, когда из дома вынесли тело сеньоры Монкада, кто-то, кого я уже не помню, распустил слуг и запер ворота. С тех пор магнолии цветут без зрителей и дикая растительность покрывает дворовые плиты; пауки свершают долгие прогулки по картинам и пианино. Давно умерли пальмы, когда-то дававшие тень, и ни один звук не проникает под своды коридора. Летучие мыши гнездятся в позолоченной лепнине зеркал. Рим и Карфаген, стоящие друг против друга, до сих пор нагружены плодами, падающими с веток от зрелости. Всюду забвение и тишина. И тем не менее сад в моей памяти до сих пор залит солнечным светом, пестрит птицами, оживлен беготней и криками. Дымящаяся кухня в фиолетовой тени жакаранд, стол, за которым завтракают слуги семьи Монкада.
Утреннюю тишину прорезает крик:
– Солью тебя засыплю!
– На месте хозяйки я бы приказал срубить эти деревья! – говорит Феликс, старейший из слуг.
Николас Монкада, забравшись на самую высокую ветвь Рима, наблюдает за своей сестрой Изабель, которая устроилась среди ветвей Карфагена и задумчиво разглядывает собственные руки. Девочка знает, как можно победить Рим: только молчанием.
– Глотки твоим детям перережу!
Сквозь листву Карфагена просвечивает небо. Николас слезает с дерева, идет в кухню за топором и быстро возвращается к сестриному дереву. Изабель, медленно спустившись по ветвям, оглядывается; затем пристально смотрит на Николаса, и тот, не зная, что делать, замирает с орудием в руке. Хуан, самый младший из детей, принимается плакать: «Нико, не режь ей глотку!»
Изабель медленно отходит назад, в тень деревьев, и внезапно пропадает.
– Мам, ты это видела?
– Оставь ее в покое, она злая!
– Она исчезла! Она умеет колдовать.
– Да она спряталась, глупый.
– Нет, мама, она колдунья, – твердит Николас.
Я знаю, все это было до генерала Франсиско Росаса и до события, которое печалит меня здесь и сейчас, у этого явственного камня. И поскольку память моя содержит все времена, а порядок их непредсказуем, я стою перед созданием геометрии света, что творит сей иллюзорный холм – предвестник моего рождения. Светлая точка – долина. Этот миг образует геометрическую связь с камнем и с наложением пространств, формирующих воображаемый мир, память возвращает мне неизменными те дни; и вот она, Изабель, снова танцует с братом Николасом в оранжевеющем от ламп коридоре, вращаясь на каблуках, кудри ее в беспорядке, на губах – ослепительная улыбка. Хор девушек, одетых в светлое, окружает брата и сестру. Мать смотрит на Изабель с укором. Слуги выпивают на кухне.
– Ничего хорошего из этого не выйдет, – поговаривают люди, сидящие у бразеро [1].
– Изабель! Для кого танцуешь? Выглядишь как безумная!
Когда генерал Франсиско Росас пришел наводить свои порядки, меня охватил страх, искусство устраивать праздники было забыто. Мои люди больше не танцевали перед этими солдатами, чужеземными и молчаливыми. Керосиновые лампы гасили в десять вечера, и ночь становилась мрачной и устрашающей. Генерал Франсиско Росас, начальник гарнизона, был печален. Он прогуливался по моим улицам, постукивая плеткой по сапогам, ни с кем не здоровался и смотрел на нас равнодушно, как на чужих. Он был высокий и жестокий. Глаза его тигрились желтизной. Росаса сопровождал его заместитель, полковник Хусто Корона, тоже мрачный, с красным платком на шее и техасской шляпой, заломленной набок. Говорили, они оба с Севера. Каждый носил по два пистолета. Пистолеты генерала звались «Всевидящее око» и «Любимица», их имена были выгравированы золотыми буквами в окружении орлов и голубей.
Присутствие военных нас тяготило. Они были частью правительственных войск, которые вошли силой и продолжали насильничать. Частью армии, бросившей меня в этом месте без дождей и надежд. Из-за них затаились сапатисты, которых с тех пор мы ждали. Ждали ржанья их лошадей, гула их барабанов и дыма их факелов. В те дни мы все еще верили в ночь, полную песен, и радостное пробуждение. Она существовала вне времени, эта светлая ночь, и, хотя военные отняли ее у нас, один лишь невинный жест или неожиданное слово могли ее вернуть. И потому мы тихо ждали. Я погрузился в печаль под пристальными взглядами мужчин, в молчании развешивавших висельников по деревьям. Всюду чувствовался страх, а шаги генерала Росаса наполняли нас ужасом. Пьяные тоже были печальны и время от времени заявляли о своей боли протяжными криками, провожая гаснущий вечер. В темноте же их пьянство заканчивалось смертью. Кольцо смыкалось вокруг меня. Возможно, мое угнетение было связано с постигшим меня забвением и со странным чувством, будто я потерял предназначение. Эти дни давались мне тяжело, в тревоге ждал я чуда.
Также и генерал, неспособный очертить свои дни, жил вне времени, без прошлого и будущего. Чтобы забыться в обманчивом настоящем, он устраивал серенады для Хулии, своей возлюбленной, и бродил по ночам со свитой из помощников и военного оркестра. Я молчал закрытыми балконами, а утро петушилось хвостом из песен и выстрелов. Спозаранку на деревьях у входа в Кокулу появлялись повешенные. Мы проходили мимо, делая вид, что их не замечаем, не видим их высунутых языков, болтающихся голов и длинных тощих ног. То были скотокрады или мятежники, как гласили военные сводки.
– Вот и новые грехи у Хулии, – приговаривала Доротея, шагая ранним утром мимо деревьев у входа в Кокулу, чтобы надоить себе у коровы стакан молока. – Да упокоит Господь их в Святой Славе! – добавляла она, глядя на босых и одетых в рубища повешенных, безразличных к ее милосердию. «Царство Небесное для смиренных», – вспоминала старая женщина, и перед ее взором представала Слава в золотых лучах и в окружении белоснежных облаков. Достаточно протянуть руку – и коснешься вечности. Но Доротея воздерживалась от этого жеста; она знала, что в самой маленькой доле времени помещалась бесконечность ее грехов, отделяя ее от вечного настоящего. Повешенные же индейцы подчинялись иному распорядку и уже пребывали в вечности, которой она была лишена.
«Они-то там из-за бедности». Узрев, как слова ее срываются с языка и достигают ног повешенных, не касаясь их, она вдруг осознала: подобной смерти она не заслужила. «Не все люди достигают совершенства в смерти; есть отошедшие в мир иной и есть трупы, и я буду трупом», – произнесла она с грустью; отошедшие в мир иной – это обнаженное Я, чистый акт, ведущий к Славе; а труп живет наследством, ростовщичеством и рентами. Доротее не с кем было поделиться своими мыслями, жила она одна-одинешенька в доме-развалюхе по соседству с доньей Матильдой. Были времена, когда родители Доротеи владели шахтами Ла Альяха и Ла Энконтрада в Тетеле. После смерти отца и матери Доротея продала свой большой дом и купила тот, что принадлежал семье Кортина, и жила в нем, пока те не умерли. Оставшись одна, занялась она вязанием кружев для алтаря, вышиванием покровов для Младенца Иисуса и покупкой украшений для Девы. Люди называли ее «божьей душой». Когда наступали праздники, Доротея и донья Матильда обряжали фигуры святых. Дон Роке, церковный староста, спускал фигуры со стен и уходил. Старушки, запертые в церкви, исполняли свои обязанности с благоговением.
– Мы хотим посмотреть на голую Деву! – кричали Изабель и ее братья, вбегая в церковь.
Женщины в спешке накрывали фигуры.
– Бога ради, детям нельзя на это смотреть!
– Уходите! – умоляла тетя Матильда.
– Тетя, пожалуйста, всего разочек!
Доротея с удовольствием посмеялась бы над любопытством и беготней детей. Жаль, что смеяться в церкви было бы кощунством!
– Приходите ко мне, я уж вам расскажу сказочку, почему любопытные долго не живут, – обещала она.
Дружба старушки с семьей Монкада насчитывала много лет. Дети чистили ее сад, вынимали из ульев пчелиные соты, срезали побеги бугенвиллей и цветы магнолий, потому что Доротея, когда деньги закончились, заменила позолоту цветами и занималась плетением гирлянд для украшения алтарей. В те дни, о которых я вспоминаю, Доротея была стара уже настолько, что забывала пищу на огне, и такос ее получались с горелым привкусом. Заходя к ней в гости, Изабель, Николас и Хуан кричали:
– Горелым воняет!
– А? С тех пор как сапатисты сожгли мой дом, у меня все время подгорают бобы… – сетовала старушка, не вставая с низкого стульчика.
– Но ты же сама сапатистка, – возражали ей со смехом дети.
– Сапатисты были бедны, и мы прятали для них еду и деньги. Поэтому Бог и послал нам Росаса, чтобы мы начали по ним скучать. Только бедный может понять бедного, – объясняла Доротея, не отрывая взгляда от своих цветов.
Дети подходили, чтобы расцеловать старушку, и она взирала на них так удивленно, будто они в один миг успели повзрослеть до неузнаваемости.
– Как вы быстро растете! Пора бы уж следовать приличиям! Не ведитесь на козни дьявола!
Дети хохотали, сверкая ровными белыми зубами.
– Доро, можно я зайду в твою комнату? – просила Изабель.
В комнате, где жила Доротея, стены были обклеены картинками святых и веерами, которые принадлежали еще ее матери. В воздухе пахло фитилем и жженым воском. Изабель восхищала эта комната, вечно погруженная в полумрак. Ей нравилось рассматривать веера с миниатюрными пейзажами, освещенными луной, с темными террасами, на которых целовались крошечные мужчины и женщины. То были видения любви, нереальной, но реалистично подробной и уменьшенной до таких размеров, чтобы помещаться на этих маленьких предметах, скрытых во тьме. Девочка имела давнюю привычку подолгу рассматривать сцены, неизменные, зато очень детальные. Другие комнаты состояли из темных стен с юркими кошачьими силуэтами и узорами из побегов плюща.
– Николас, в старости у меня будет такая же комната!
– Не болтай глупости, ты-то точно одна не останешься! Вот выйдешь замуж и возьмешь себе веера, которые больше всего нравятся.
Николас мрачнел:
– Ты хочешь замуж, Изабель?
Опираясь на стену в коридоре, он наблюдал, как сестра выходит из комнаты Доротеи с изменившимся лицом, пребывая в мире, ему неизвестном. Она предавала его, бросала одного, разрывала их детские узы. А ведь они должны быть вместе, Николас точно знал. Они вместе сбегут из Икстепека. Их ждут дороги в ореоле из сверкающей пыли. Поля, готовые к битве… Какой? Что это будет за битва, им еще предстояло выяснить, и в этой картине мира не должна была появиться ни одна трещина. А дальше они повстречаются с героями, призывающими их из мира славы и фанфар. Они, Монкада, не умрут в своих влажных от пота постелях, цепляясь за жизнь, точно пиявки. Их звал гул улиц. Далекий грохот Революции становился отчетливей – стоило лишь открыть дверь, чтобы оказаться в самой гуще тех тревожных дней.
– Уж лучше умереть на улице или в какой-нибудь пьяной драке! – заявил Николас с негодованием.
– Вечно ты твердишь о смерти, юноша, – отозвалась Доротея.
Николас не ответил ей, продолжая внимательно глядеть на сестру. Да, она изменилась; его слова уже не оказывали на нее никакого влияния. Изабель хотела сбежать, но не с ним. «И каким будет ее муж?» – подумал он со страхом.
Его сестра думала о том же:
– Нико, думаешь, он уже родился?
– Не будь дурой! – воскликнул он.
Сестра начинала его раздражать.
– Где он сейчас? – продолжала Изабель не моргнув и глазом. И опять унеслась мыслями в неизвестные дали, встретив там кого-то, кто прошел мимо, даже не взглянув. Помрачнев, она добавила: – Нет, наверное, замуж я выходить не стану…
– Нечего выдумывать то, чего нет, не к добру это, – проворчала старуха, когда юные Монкада уже собирались уходить.
– Доро, как раз несуществующее и нужно выдумывать, – возразила ей Изабель из коридора.
– Что за глупости! О чем ты?
– Об ангелах, – закричала девочка и поцеловала на прощанье старушку, которая замерла на пороге, глядя, как трое ее последних друзей уходят по мощеной улице.
– Не знаю, что с вами и делать…
Дон Мартин Монкада прервал чтение и с недоумением взглянул на детей. Слова слетели с его губ и, не оставив эха, затерялись в углах комнаты. Ребята, склонившиеся над доской для шашек, даже не пошевелились. Эту фразу их отец повторял уже давно. Круги света, разбросанные по комнате, замерли и не двигались. Время от времени от доски раздавался легкий шум, будто открывалась и закрывалась крошечная дверь, куда падала побежденная шашка. Донья Ана отложила книгу, медленно подняла фитилек лампы и в ответ на слова мужа воскликнула:
– Ох и трудно же иметь детей! Совсем другие люди…
На черно-белой доске Николас передвинул шашку, Изабель наклонилась, чтобы оценить расстановку, а Хуан несколько раз щелкнул языком, предотвращая возможную ссору между старшими. Из ящика красного дерева раздался глухой стук часов.
– Ну и шум ты устраиваешь по ночам, – погрозил им пальцем дон Мартин.
– Девять часов, – отозвался из угла Феликс.
По давней привычке он встал с табурета, подошел к часам, открыл стеклянную дверцу и снял бронзовый маятник. Часы смолкли. Феликс отнес маятник на письменный стол хозяина и вернулся на прежнее место.
– Сегодня ты нас больше не потревожишь, – проговорил Мартин, глядя на замершие стрелки на белоснежно-фарфоровом циферблате.
Без тиканья часов комната и ее обитатели погрузились в другое, печальное время, в котором их жесты и голоса двигались от настоящего в прошлое. Донья Ана, ее муж, их дети и Феликс отделились от реальности и застыли каждый в пятне света; превратились в воспоминания о самих себе, в персонажей без будущего, тех, кто живет только в памяти. Такими я вижу их и сейчас: каждый склонился над своим кругом света, в забвении, вне самих себя и вне той печали, которая нависала надо мной по ночам, когда дома закрывали свои ставни.
– Грядущее! Грядущее… Что такое грядущее? – воскликнул Мартин Монкада с нетерпением.
Феликс покачал головой, донья Ана и дети замолчали. Когда Мартин думал о будущем, на него обрушивалась лавина дней, слепленных друг с другом. Они угрожали ему, его дому и его детям. Дни для Мартина были вовсе не тем же, что и для остальных. Он никогда не говорил себе: «В понедельник я сделаю то-то», потому что между ним и этим самым понедельником толпились непрожитые воспоминания, и это лишало его необходимости сделать «что-то в понедельник». Он боролся между несколькими воспоминаниями, а единственным для него нереальным была память о том, что когда-то случилось. В детстве он проводил долгие часы, вспоминая то, чего никогда не видел и не слышал. Его больше удивляло присутствие бугенвиллей во дворе его дома, чем разговоры о странах, покрытых снегом. Он помнил снег как форму тишины. Сидя у подножия бугенвиллеи, он ощущал себя охваченным белой тайной, такой же реальной для его темных глаз, как и небо над его домом.
– О чем думаешь, Мартин? – как-то спросила у него мать, удивленная серьезным видом сына.
– Вспоминаю снег, – ответил мальчик.
Ему тогда было пять лет.
По мере того как он рос, его память отражала тени и цвета непрожитого прошлого, которые смешивались с образами и событиями будущего. Мартин Монкада всегда жил меж этих двух огней, которые в нем слились в единое целое. В то утро мать рассмеялась, не поверив сыну, пока тот с недоверием взирал на буйство бугенвиллей. В Икстепеке были запахи, которых никто, кроме него, не ощущал. Если служанки разжигали огонь на кухне, запах горящего соснового дерева будил в нем образы сосен, и по телу мальчика поднимался прохладный смолистый ветер, становясь осознанным в его памяти. Мартин удивленно озирался и обнаруживал себя сидящим возле пылающего очага, вдыхая воздух, наполненный болотными запахами из сада. И странное чувство накрывало его: будто он в неведомом, чужом месте и не узнает голосов и лиц своих нянек. Через открытую дверь кухни врывалась пламенем цветущая бугенвиллея, вызывая в нем ужас, и он принимался плакать, ощущая себя потерянным в незнакомом месте. «Не плачь, Мартин, не плачь!» – успокаивали служанки, нависая над его лицом темными косами. А он, еще более одинокий, чем когда-либо, среди этих неузнаваемых лиц, ревел только громче. «Поди пойми, что с ним», – говорили служанки и отворачивались от ребенка. И мальчик постепенно начинал узнавать себя в Мартине, который сидит дома, в кухне, на плетеном стуле и ждет, когда подадут завтрак.
После ужина, когда Феликс останавливал часы, Мартин Монкада погружался в свои непрожитые воспоминания. Календарь заставлял его жить в каком-то ином времени, лишая того, которое существовало внутри его. В этом времени понедельник был всеми понедельниками, слова становились магическими, люди превращались в бестелесных персонажей, а пейзажи размывались до цветных пятен. Мартину нравились праздничные дни. Люди бродили по площади, околдованные позабытым воспоминанием о празднике; из этого забвения проистекала печаль тех дней. «Когда-нибудь мы вспомним, вспомним», – твердил он себе, уверенный, что праздник, как и все движения человека, существовал нетронутым во времени и что достаточно лишь усилия, желания увидеть, чтобы прочесть во времени историю этого же времени.
– Сегодня был у доктора Арриеты и сказал ему о ребятишках, – донеслись до его ушей слова Феликса.
– У доктора? – переспросил Мартин Монкада.
Что бы он делал без Феликса? Феликс каждый день становился его памятью. «Чем нужно заняться сегодня?» «На какой странице я остановился вчера?» «Какого числа умер Хустино?» Феликс помнил все, что забывал Мартин, и отвечал на его вопросы безошибочно. Феликс был его вторым «я» и единственным человеком, с которым он не чувствовал себя чужим. Родители Мартина представлялись ему какими-то загадочными фигурами. То, что они умерли, казалось более невероятным, чем то, что они родились в ту же эпоху, что и он, которая тем не менее в памяти его отстояла дальше, чем рождение Клеопатры или Кира. Его удивляло, что родители не существовали всегда. Когда Мартин был маленьким и ему читали Священную историю, те главы, в которых говорилось о Моисее, Исааке и Красном море, он думал, что только его родители сравнимы с тайной Пророков. Эта причастность родителей к древности вызывала у мальчика уважение к ним. Будучи малышом и сидя на коленях у отца, он тревожился из-за биения его сердца, и память о бесконечной печали, о хрупкости человеческой жизни тяготила его и лишала речи еще до того, как он узнал, что такое смерть.
«Скажи что-нибудь, не будь глупеньким», – просили Мартина. А он не мог найти ни единого слова, чтобы выразить глубочайшую боль. Сострадание перечеркнуло годы, отделяющие его от родителей, оно заставляло его постоянно беспокоиться о других, мешало ему вести деятельную жизнь. Вот почему Мартин Монкада был сломлен. Он работал то тут, то там, и ему едва хватало на жизнь.
– Я объяснил ему, в каком состоянии наши счета, и он согласился нанять мальчиков на шахты, – сказал Феликс.
Лампады мерцали и испускали черный дым, напоминая, что пора сменить масло. Младшие Монкада убрали шашки и сложили доску.
– Не волнуйся, пап, мы уедем из Икстепека, – заявил Николас, улыбаясь.
– Вот и посмотрим, есть ли у этих тигрят зубы, овец-то на всех не хватит, – отозвался Феликс из своего угла.
– А мне бы хотелось, чтобы Изабель вышла замуж, – проговорила донья Ана.
– Не собираюсь я замуж, – ответила дочь.
Изабель не нравилось различие между ней и ее братьями. Мысль, что замужество – единственное будущее для женщины, унижала ее. Разговоры о браке делали ее товаром, который можно продать по любой цене.
– Если девочка уедет, а ребята останутся, дом уже не будет прежним. Уж лучше пусть уедут все вместе, как сказал Николас, – проговорил Феликс. Он и думать не хотел о том, что Изабель покинет их ради какого-то незнакомца.
До сих пор слышу, как слова Феликса витают в воздухе гостиной, преследуя уже несуществующие уши и повторяясь во времени только для меня.
– Не знаю, не знаю, что мне с вами делать, – все твердил Мартин Монкада.
– Мы все устали. – С этими словами Феликс встал и исчез. Через несколько минут он вернулся с кувшином тамариндовой воды. Ребята поспешно осушили свои бокалы. К тому времени жара чуть спала, ароматы ночи и жасмина наполнили дом теплом.
– Мальчикам это было бы полезно, – добавил Феликс, собирая пустые бокалы. Дон Мартин поблагодарил его взглядом.
Позже, лежа в постели, он мучился сомнениями: что, если, отправив детей на рудники, он нарушит их волю? «Бог меня рассудит! Бог рассудит!» – беспокойно повторял Мартин Монкада. Он никак не мог заснуть: дом окружало нечто странное, будто злые чары, наложенные когда-то давно на него и на его семью, этой ночью обрели форму. Дон Мартин попытался вспомнить, что за напасть преследовала его детей, однако в памяти всплыл лишь ужас, который охватывал его каждую Страстную пятницу. Он начал было молиться, но не смог отогнать угрожающую ему тьму.
Я помню, как Хуан и Николас отправились на рудники Тетелы. Подготовка длилась целый месяц. Однажды утром появилась швея Бландина в очках и с корзиной для шитья. Ее смуглое лицо и миниатюрное тело несколько мгновений размышляли, прежде чем войти в швейную комнату.
– Не люблю я стены; мне нужно видеть листья, чтобы запомнить крой, – мрачно заявила она и отказалась входить.
Феликс и Рутильо вынесли «Зингер» и рабочий стол в коридор.
– Так лучше, донья Бландина?
Швея медленно села за машинку, поправила очки, наклонилась и сделала вид, что работает, затем подняла голову и с тревогой проговорила:
– Нет, нет, нет, нет! Отнесите вон туда, к тюльпанам… Там очень интересные папоротники!
Слуги поставили швейную машинку и стол перед тюльпанами.
Бландина покачала головой:
– Слишком вычурно! Слишком! – произнесла она с отвращением.
Феликс и Рутильо нетерпеливо развернулись к женщине.
– Если вы не возражаете, я бы предпочла перед магнолиями, – мягко попросила она и бодрой рысью направилась к деревьям, однако, дойдя до них, обескураженно воскликнула: – Они слишком торжественны! Тоска!
Утро прошло, а Бландина так и не нашла подходящего места. Наступил полдень, а она все еще размышляла над своей проблемой, сидя за столом. Швея ела, не замечая того, что ей подают, безучастная и неподвижная, точно идол. Феликс менял ей тарелки.
– Не смотрите на меня так, дон Феликс! Поставьте себя на мое место: как можно орудовать ножницами, кроя дорогие ткани, в окружении неблагодарных стен и мебели… Я не могу найти себя!
После обеда Бландина наконец-то «нашла себя» в углу коридора.
– Отсюда я вижу только листву; все остальное теряется среди зелени, – прокомментировала она, улыбаясь, и взялась за работу.
Донья Ана пришла составить ей компанию, и руки Бландины принялись шить рубашки, москитные сетки, брюки, покрывала и простыни. В течение нескольких недель она шила до семи часов вечера. Сеньора Монкада помечала одежду инициалами детей. Время от времени швея поднимала голову:
– Это Хулия виновата в том, что дети уезжают одни и так далеко, в самую гущу опасностей и дьявольских искушений!
В те дни Хулия определяла судьбу всех нас, мы винили ее в самых незначительных несчастьях. Она же, защищенная собственной красотой, казалось, нас и не замечала.
Тетела находилась в горах, всего в четырех часах езды на лошади от Икстепека, во времени же эта дистанция была просто огромной. Тетела, полностью заброшенная, принадлежала прошлому. Все, что от нее осталось, – золотой престиж ее названия, гремящий в памяти, как погремушка, да несколько сгоревших дворцов. Во время революции те, кто владел содержимым рудников, исчезли, а вслед за ними эти места покинули и жившие там бедняки. Осталось лишь несколько семей, занимавшихся гончарным делом. По субботам на рассвете мы видели, как они приходили на рынок Икстепека, босые и оборванные, чтобы продать свои горшки. Дорога к рудникам пересекала сьерру и продолжалась сквозь «квадрильи» крестьян, измученных голодом и лихорадкой. Почти все они присоединились к восстанию сапатистов и после нескольких коротких лет борьбы вернулись в эти места, такие же бедные, как и прежде, чтобы занять свое место в прошлом.
Метисы боялись сельской местности. То было делом их рук, следствием их грабежа. Они пришли с насилием, а попали во враждебную страну, окруженную призраками. Террор, который они навели, привел их же самих к обнищанию. А меня – к деградации. «Ах, если бы мы только могли истребить всех индейцев, они – позор Мексики!» Индейцы молчали. Метисы, прежде чем покинуть Икстепек, набрали еды, лекарств, одежды и «пистолетов, хороших пистолетов, индейские ублюдки!» Собравшись вместе, они недоверчиво смотрели друг на друга, чувствуя, что нет у них ни страны, ни культуры. Они были как искусственный нарост, они жили за счет незаконно добытых денег. Из-за них мое время остановилось.
– С индейцами лучше не церемониться! – посоветовал Томас Сеговия на одной из встреч, устроенных семьей Монкада для проводов молодых людей. Сеговия привык к педантизму своей аптекарской лавки и раздавал советы таким же тоном, что и лекарства: «По бумажке каждые два часа».
– Они такие коварные! – вздыхала донья Эльвира, вдова дона Хустино Монтуфара.
– Они все на одно лицо, потому так опасны, – добавил Томас Сеговия, улыбаясь.
– Раньше с ними было легче. Что бы сказал мой бедный отец, да упокоится с миром его душа, если бы увидел этих восставших индейцев. А он ведь всегда был такой благородный! – сказала донья Эльвира.
– Веревка по ним плачет. Медленно не ходить. Оружие держать в порядке, – настаивал Сеговия.
Феликс, сидя на своей скамейке, невозмутимо слушал их. «Мы, индейцы, всегда храним молчание», – и оставил свои слова при себе. Николас смотрел на него и ерзал на стуле. Ему было стыдно за слова друзей его семьи:
– Не надо так говорить! Мы все наполовину индейцы!
– Во мне нет ничего индейского! – задыхаясь от негодования, воскликнула вдова.
Жестокость, холодным ветерком пронесшаяся над моими камнями и моими людьми, сгустила воздух в комнате и затаилась под стульями. Гости лицемерно улыбались. Кончита, дочь Эльвиры Монтýфар, взглянула на Николаса с восхищением. «Какое счастье быть мужчиной и иметь возможность высказывать свое мнение», – мрачно подумала она. Не принимая участия в разговоре, она скромно сидела и слушала, как падают слова, и переносила их стоически, как человек, который терпит ливень. Беседа утратила легкость.
– А знаете, что Хулия заказала себе диадему? – спросил Томас у вдовы и улыбнулся, чтобы загладить гнев, вызванный словами Николаса Монкада.
– Диадему? – изумилась вдова.
Имя Хулии разрядило мрачную обстановку, навеянную темой об индейцах, и разговор оживился. Феликс не остановил часы, их стрелки подхватывали слова, слетавшие с губ доньи Эльвиры и Томаса Сеговии, превращая их в армию пауков, сплетающих и расплетающих бесполезные фразы. Перебивая друг друга, гости с азартом мусолили имя Хулии, главной любовницы Икстепека.
Вдалеке раздался звон церковной башни. Часы в зале Монкада повторили этот звук более низким голосом, и посетители разбежались с паучьей быстротой.
Томас Сеговия сопровождал донью Эльвиру и Кончиту по темным улицам. Вдова воспользовалась темнотой, чтобы обсудить любимую тему аптекаря – поэзию.
– Скажите, Томас, о чем же нам говорит поэзия?
– Об этом все забыли, донья Эльвира; только я время от времени посвящаю стихам пару часов. Это страна неграмотных, – с горечью ответил тот.
«Что это он о себе возомнил», – сердито подумала женщина и замолчала.
Дойдя до дома вдовы, Сеговия галантно подождал, пока женщины задвинут засов и запрут ворота, а затем в одиночестве зашагал по улице. Он думал об Изабель, о ее мальчишеском профиле. «Она по натуре неуловимая», – сказал он себе в утешение за равнодушие девушки, невольно зарифмовав «неуловимая» с «неумолимая», и вдруг посреди ночного одиночества улицы его жизнь показалась ему огромным хранилищем прилагательных. Удивленный, Томас ускорил шаг; ноги его тоже отмеряли слоги. «Я слишком много сочиняю», – сказал он себе в каком-то недоумении и, придя домой, написал первые две строки первого четверостишия сонета.
– Лучше бы уделяла больше внимания Сеговии и не пялилась, как дурочка, на Николаса! – воскликнула Эльвира Монтуфар, сидя перед зеркалом.
Кончита не ответила: она знала, что мать говорит только для того, чтобы не молчать. Молчание пугало вдову, напоминало о неудобстве тех лет, что она провела с мужем. В то мрачное время она даже забыла о собственном облике. «Забавно, я не знаю, как я выглядела, когда была замужем», – признавалась она подругам.
«Девочка, хватит смотреться в зеркало!» – наказывали ей старшие, когда та была маленькой, но Эльвира не могла остановиться: собственный образ был для нее способом познавать мир. Через него она училась понимать траур и праздники, любовь и важные даты. Перед зеркалом она училась говорить и смеяться. Когда Эльвира вышла замуж, Хустино монополизировал и слова, и зеркала, так что женщина пережила несколько тихих, размытых лет, в течение которых двигалась как слепая, не понимая, что происходит вокруг. Единственное, что она помнила о тех годах, – это то, что их у нее не было. Не ей одной пришлось пережить то время страха и молчания. Теперь, хотя она и советовала дочери выйти замуж, ей нравилось, что Кончита не обращает на нее никакого внимания. «Не всем женщинам приличествует быть вдовами», – говорила она себе тайком.
– Смотри, если не поторопишься, останешься старой девой.
Кончита молча выслушала упрек матери и поставила поднос с водой под ее кровать, чтобы отпугнуть злых духов; затем положила «Ла Магнифика» и четки между наволочками. С самого детства Эльвира принимала меры предосторожности перед сном: она боялась своего спящего лица. «Я не знаю, как выгляжу с закрытыми глазами», – говорила она и накрывалась с головой одеялом, чтобы никто не видел ее лица, изменившегося до неузнаваемости. Она чувствовала себя беспомощной перед собственным спящим лицом.
– Как неприятно жить в стране индейцев! Они пользуются сном, чтобы навредить человеку, – заявила Эльвира, стыдясь того, что ее дочь в такое время занимается подобными делами вместо того, чтобы спать. Вдова энергично расчесала волосы и с удивлением осмотрела себя в зеркале. – Боже мой! Неужели это я? Эта старуха в зеркале? И такой меня видят люди? Никогда больше не выйду на улицу, не хочу вызывать жалость!
– Не говори так, мама.
– Слава богу, твой бедный отец умер. Представь его удивление, если бы он увидел меня сейчас… А ты, чего ты ждешь? Сеговия – лучшая партия в Икстепеке. Он, конечно, беден! И слушать его всю жизнь – сплошное наказание!.. Но разве это я? – повторила Эльвира, зачарованно разглядывая мимику собственного лица в отражении.
Кончита воспользовалась замешательством матери, чтобы уйти в свою комнату. Она хотела побыть одна, чтобы свободно помечтать о Николасе. В прохладе своей комнаты она представляла лицо молодого человека, слышала его смех. Жаль, что так и не осмелилась сказать ему ни слова! Вот мать ее говорила чересчур много, нарушая все очарование. Замуж за Томаса Сеговию! Как только ей в голову пришло ляпнуть такую глупость? Когда Сеговия говорил, его слова будто слипались у Кончиты в ушах. Она представила волосы Томаса и почувствовала, как его сальная голова к ней прикоснулась. «Если завтра мать о нем опять скажет, устрою истерику». Истерики дочери пугали донью Эльвиру.
Кончита злобно улыбнулась и с удовлетворением положила голову на подушку. Под подушкой она хранила смех Николаса.
– Не могу дождаться, когда вы уедете в свою Тетелу! – сердито крикнула Изабель, едва гости вышли за порог дома. Однако, как только братья уехали из Икстепека, она горько пожалела о своих словах: дом без них превратился в пустую скорлупку; Изабель перестала его узнавать, а также голоса родителей и слуг. Она отдалилась от них, превращаясь в потерянную точку в пространстве и наполняясь страхом. Существовали две Изабели: одна бродила по патио и комнатам, а другая жила в далекой сфере, застывшей в пространстве. Неприкаянная, она касалась предметов, чтобы хоть как-то связаться с видимым миром, брала в руки книгу или солонку, словно пытаясь удержаться за них и не упасть в пустоту. Так она создавала связь между реальной и нереальной Изабель и находила в этом утешение. «Молись, будь добродетельной!» – говорили ей, и девушка повторяла волшебные формулы молитв, пока те не распадались на бессмысленные слова. Между силой молитвы и словами, которые ее составляли, существовало такое же расстояние, как между двумя Изабелями: она не могла объединить ни молитвы, ни себя. И, зависшая в пространстве, Изабель могла в любой момент оторваться и упасть, как метеорит, в неизвестное время. Мать не знала, как к ней и подойти. «И это моя дочь Изабель», – повторяла она самой себе, с недоверием глядя на высокую и загадочную фигуру девушки.
– Иногда бумага как будто над нами смеется…
Дочь удивленно посмотрела на мать, и та покраснела. Ана хотела было сказать, что ночью сочинила письмо, которое разрушило бы пропасть, отделяющую ее от дочери, но утром, перед наглой белизной бумаги, ночные фразы развеялись, словно утренний туман в саду, оставив лишь набор бесполезных слов.
– А ночью я была такой умной! – вздохнула она.
– Ночью мы все умны, а наутро оказываемся глупцами, – прокомментировал Мартин Монкада, глядя на неподвижные стрелки часов.
Его жена вновь погрузилась в чтение. Мартин услышал, как она перевернула страницу, и посмотрел на нее так, как смотрел всегда: как на странное и очаровательное существо, которое делило с ним жизнь, ревностно храня священную тайну. Мартин чувствовал благодарность за ее присутствие. Ему не суждено узнать, с кем он живет, но ему это и не надо; достаточно знать, что он живет с кем-то. Мартин перевел взгляд на Изабель, утонувшую в глубоком кресле, ее взгляд был устремлен на пламя лампы; кто его дочь, он тоже не знал. Ана любила повторять: «Дети – совсем другие люди», удивляясь тому, что ее дети и она – не единое целое. Мартина поразила заметная тревога, охватившая Изабель. Феликс и его жена, трудолюбивые и спокойные, каждый возле своей лампады, казалось, не чувствовали никакой опасности: Изабель могла превратиться в падающую звезду, убежать, исчезнуть в пространстве, не оставив видимых следов присутствия в этом мире, где только грубые предметы обретают форму. «Метеорит – яростное желание побега», – сказал Мартин сам себе. Эти потухшие громадины казались ему странными: они сгорали в собственной ярости, осужденные на еще более мрачное заточение, чем то, от которого пытались сбежать. «Отделиться от целого по собственной воле – настоящий ад».
Изабель встала с кресла, оно казалось ей жестким; в отличие от матери, с ней говорила не только бумага, но и весь дом. Пожелав родителям спокойной ночи, девушка вышла из комнаты. «Семь месяцев прошло, как они уехали». Она забывала, что братья иногда приезжали в Икстепек, проводили с ней несколько дней и вновь уезжали на шахты. «Завтра попрошу отца их привезти», – с этими словами Изабель натянула на голову простыню, чтобы не видеть жаркую тьму и тени, которые с оглушительным шумом сливались и распадались на тысячи темных точек.
Николас тоже томился вдали от сестры. Во время поездок в Икстепек, пересекая сухую и безжизненную горную местность, он чувствовал, будто под копытами лошади вырастают валуны, а путь преграждают горы. Ехал он молча. Казалось, только воля помогает ему проложить путь в этом каменном лабиринте. Воля и воображение, без которых он ни за что не доберется до дома и останется в плену этих каменных стен, посылающих ему зловещие знаки. Хуан ехал рядом, радуясь возвращению к свету своей комнаты, теплу глаз отца и скупой на ласку руке Феликса:
– Как хорошо вернуться домой…
– Когда-нибудь я туда больше не вернусь, – сказал Николас с обидой.
Ему не хотелось признавать, что дома он боялся услышать новость о замужестве сестры, и этот страх мучил его. Николас был уверен: отец отправил их на шахты не из-за бедности, а чтобы заставить сестру выйти замуж.
– Изабель предательница, а отец – подлый…
– Помнишь, когда вы топили меня в пруду? Сейчас я чувствую себя точно так же, в этой темноте со всех сторон, – отозвался Хуан, напуганный словами брата.
Николас улыбнулся; в детстве они с Изабель толкали Хуана в воду и боролись друг с дружкой, кто первый его спасет. Затем с риском для жизни бросались в пруд и, вытащив брата из воды, шли в деревню с «утопленником» на руках, едва не лопаясь от гордости за собственный героизм. Тогда все трое пребывали в бесконечном удивлении от мира. В то время даже наперсток матери излучал волшебное сияние, когда та вышивала пчел и маргариток. Некоторые из тех особых дней остались в их памяти навсегда. Потом мир стал тусклым, потерял яркие краски и запахи, свет посерел, дни сделались одинаковыми, а люди начали казаться карликами. Хотя все еще оставались места, не тронутые временем, например, зияющая чернотой яма, откуда добывали уголь. Годы прошли с тех пор, когда они, сидя на кучах угля, с трепетом слушали перестрелку сапатистов во время набегов на деревню. За этими кучами их прятал Феликс. Куда уходили сапатисты после набегов на Икстепек? К зелени, к воде, где ели кукурузу и смеялись до упаду, часами резвясь с соседями. Теперь никто не приходил, чтобы скрасить их дни. Время стало тенью Франсиско Росаса. Повсюду в стране остались только «повешенные». Люди учились приспосабливать свои жизни к капризам генерала. Изабель тоже пыталась приспособиться, найти мужа и кресло, в котором она могла бы укачивать свою скуку.
Поздно ночью братья прибыли в Икстепек. Изабель помогла им спешиться. Родители ждали в столовой. Феликс подал ужин, который заставил Николаса и Хуана забыть о посиневших тортильях и лежалом сыре Тетелы. Наклонившись над столом, братья и сестра смотрели друг на друга, с трудом узнавая. Николас говорил только с Изабель. Дон Мартин со своего места прислушивался к их разговору.
– Если не хотите, не возвращайтесь в шахту, – тихо произнес он.
– Мартин, ты витаешь в облаках! Ты же знаешь, нам нужны эти деньги, – встревоженно ответила его жена.
Ее супруг молчал. «Мартин, ты витаешь в облаках» – эту фразу ему повторяли каждый раз, когда он совершал ошибку. Но разве принуждать детей – ошибка не более серьезная, чем потерять немного денег? Мартин не понимал непрозрачности мира, в небе которого единственным солнцем сияли деньги. «Мое призвание – быть бедным», – повторял он, оправдывая свое неизбежное разорение. Дни казались ему невыносимо короткими, чтобы тратить их на усилия ради добывания денег. Он чувствовал удушье среди «непрозрачных тел», как называл он жителей Икстепека: они растрачивали себя на мелочные интересы, забывали о своей смертности, их ошибка проистекала из страха. Мартин знал: будущее – это быстрое отступление к смерти, а смерть – совершенное состояние, драгоценный момент, когда человек полностью восстанавливает свою иную память. А потому он легко забывал об обещании самому себе «сделать это в понедельник» и смотрел на деловитую суету окружающих с изумлением. «Бессмертные» выглядели довольными в своем заблуждении, и Мартин думал, что лишь он один возвращается к драгоценному моменту смерти.
Ночь просачивалась в дом из сада через открытую дверь. В комнате поселились насекомые и сумеречные запахи. Сквозь дом будто текла таинственная река, связывая столовую семьи Монкада с сердцем далеких звезд. Феликс убрал тарелки и сложил скатерть. Бессмысленность и еды, и слов обрушилась на обитателей дома, и они замерли, неспособные выразить себя в настоящем.
– Не помещаюсь я в этом теле! – воскликнул Николас, обессиленный, и закрыл лицо руками, точно собираясь заплакать.
– Мы все устали, – отозвался Феликс со своего места.
В течение нескольких секунд весь дом словно взлетел в ночное небо, слился с Млечным Путем и беззвучно упал в то же самое место. Изабель, ощутив удар от падения, вскочила со своего места, посмотрела на братьев и вдруг почувствовала уверенность; она вспомнила, что находится в Икстепеке и что нечто неожиданное может вернуть их к утраченному порядку.
– Сегодня взорвали поезд. Возможно, они придут…
Остальные смотрели на нее, как сомнамбулы, и только ночные бабочки трепетали в пыльном танце вокруг ламп.
Каждый вечер в шесть прибывал поезд из Мехико. Он привозил газеты, и ждали мы их с таким нетерпением, будто они могли снять заклятье, в тихий плен которого мы попали. Напрасно: в газетах появлялись лишь фотографии казненных. То было время расстрелов. Тогда мы думали, что ничто нас уже не спасет. Расстрельные стены, контрольные выстрелы, виселицы появлялись по всей стране. Лавина ужаса стирала нас в пыль и песок ровно до шести вечера следующего дня. Иногда поезд не приходил по несколько дней, и повсюду разносился слух: «Теперь точно придут!» Однако на следующий день поезд с его обычными новостями прибывал как положено, и неумолимая ночь опускалась на меня.
Со своей кровати донья Ана слышала ночные шорохи, полузадушенная неподвижным временем, охранявшим двери и окна дома. До нее донесся голос сына: «Не помещаюсь я в этом теле». Она вспомнила свое бурное детство на севере страны. Вспомнила дом с дверями из красного дерева, как они открывались и закрывались, впуская ее братьев; их звучные и дикие имена отзывались эхом в комнатах с высокими потолками, где зимой витал запах горящего дерева. Она вспомнила снег на подоконниках и звуки польки в коридоре, где гулял холодный ветер.
С гор спускались дикие коты, и слуги шли на них охотиться, заливая хохочущие глотки сотолем [2]. На кухне жарили мясо и раздавали кедровые орехи, и тишину дома вспарывали резкие голоса гостей. Предчувствие радости ломало застывшие дни один за другим. Революция вспыхнула внезапно, открыв двери времени. В тот сияющий миг братья Аны отправились в Сьерра-де-Чиуауа и вернулись оттуда в солдатских ботинках и военных беретах. За ними шли офицеры, и на улицах зазвучала «Аделита».
- Если Аделита уйдет к другому,
- Пойду я за ней по земле и по морю;
- Если по морю – на корабле;
- А по земле – то на поезде…
Братья не дожили до своих двадцати пяти лет, погибли один за другим: в Чиуауа, в Торреоне, в Сакатекасе; и у Франсиски, матери Аны, остались только их портреты да она сама с сестрами, в траурных платьях. Затем завоевания Революции были сведены на нет предательскими руками Каррансы, и убийцы пришли делить добычу, играя в домино в борделях, которые сами же и открыли. Мрачная тишина распространилась с севера на юг, и время вновь затвердело. «Если б только мы снова могли петь “Аделиту”! – сказала сама себе Ана, и ей понравилось, что взорвали поезд из Мехико. – Такие события заставляют жить». Возможно, еще может случиться чудо, которое изменит нашу кровавую судьбу.
Поезд возвестил о своем прибытии длинным победным гудком. Прошло уже много лет, никого не осталось из семьи Монкада, только я – свидетель их упадка – все еще здесь, каждый день, в шесть вечера, слушаю, как прибывает поезд из Мехико.
– Хоть бы приличное землетрясение случилось! – воскликнула донья Ана, сердито вонзая иглу в вышивку. Она, как и все мы, страдала от тоски по катастрофам. Дочь услышала гудок поезда и промолчала. Донья Ана направилась к балкону, чтобы через занавески подглядеть за генералом Франсиско Росасом, который шел в кантину Пандо, чтобы там напиться. – Какой молодой! Наверное, ему не больше тридцати! И уже такой несчастный! – добавила она с состраданием, наблюдая за генералом, высоким, стройным и равнодушным.
Из кантины доносился запах свежей еды. Слышался стук катящихся по столу игральных костей, и монеты со звоном переходили из рук в руки. Генерал, знатный игрок и любимец удачи, выигрывал. И по мере того как выигрывал, он терял самообладание и пил с еще большим отчаянием. Опьянев же, становился опасным. Его подручные старались выиграть у него хотя бы партию и беспокойно озирались, когда тот в очередной раз побеждал.
– А ну-ка, вы, подполковник мой дорогой, сыграйте партейку с генералом!
Подполковник Крус, улыбаясь, с готовностью шел обыгрывать Франсиско Росаса. Он был единственным, кому это легко удавалось. Полковник Хусто Корона, стоя позади своего командира, пристально наблюдал за игрой. Пандо, хозяин кантины, чутко следил за каждым движением военных; по выражениям их лиц он угадывал, когда атмосфера слишком накалялась.
– Пора на выход, генерал выигрывает!
И клиенты кантины, один за другим, постепенно исчезали. «Если генерал выигрывает, значит, Хулия его не любит; вот он и злится», – говорили мы со смехом и, выйдя на улицу, выкрикивали в сторону кантины то, что бесило военных.
Поздно ночью стук копыт лошади Франсиско Росаса нарушал тишину. Мы слышали, как он галопом проезжал по улицам, потерянный в своих мыслях. «Что ему нужно в такое время?» – «Набирается смелости перед тем, как идти к ней?» Не спешиваясь, заскакивал он во двор гостиницы «Хардин», а затем шел в комнату Хулии, своей возлюбленной.
Однажды вечером с поезда сошел незнакомец в темном костюме, дорожной кепке и с маленьким чемоданом в руке. Он остановился на разбитом перроне и стал оглядываться по сторонам, как бы сомневаясь, туда ли приехал. Постоял так несколько секунд, затем начал смотреть, как разгружают тюки из вагонов. Он был единственным пассажиром, сошедшим с поезда, и грузчики с доном Хусто, начальником станции, взирали на него с удивлением. Молодой человек, похоже, осознал любопытство, которое вызвал к своей персоне, и лениво зашагал по перрону к грунтовой дороге. Пересек ее и двинулся к почти пересохшей реке. Перейдя ее вброд, он направился к Икстепеку кратчайшим путем и вошел в город под изумленным взглядом дона Хусто. Казалось, молодой человек улыбался самому себе. Он миновал дом семьи Каталан, и дон Педро, прозванный «копилкой» из-за дырки, оставленной пулей на щеке, заметил его, пока разгружал банки с жиром у дверей своего магазинчика. Там из дверного проема уже выглядывала его любопытная жена Тоньита.
– Это кто еще? – поинтересовалась она, не ожидая ответа.
– Похож на инспектора… – проговорил ее муж с подозрением.
– Нет, точно не инспектор! Это кто-то другой! – уверенно возразила Тоньита.
Незнакомец тем временем продолжил свой путь, его взгляд блуждал по крышам домов и кронам деревьев. Не замечая любопытства, вызванного своим появлением, молодой человек завернул за угол улицы Мельчор Окампо. Увидев приезжего из окна, девицы Мартинес принялись громко обсуждать его появление, совершенно забыв про своего отца, дона Рамона, который разглагольствовал по поводу замены конных экипажей, что стояли на площади под тамариндами уже пятьдесят лет, на автомобили, а также по поводу электрической станции и того, как хорошо было бы заасфальтировать улицы. Дон Рамон восседал на стуле из тростника, пока донья Мария, его жена, готовила кокосовые конфеты с кедровыми орешками, пирожные из яичного желтка и пабельонес [3] для продажи на рынке. Услышав восклицания дочерей, сеньор Мартинес подошел к балкону, правда, успел увидеть лишь спину пришельца.
– Современный человек, двигатель прогресса! – воскликнул он с энтузиазмом.
И тут же принялся размышлять о том, как использовать новоприбывшего для осуществления своих проектов. «Жаль, что военный командующий – так называл он генерала Росаса, – сущий ретроград!»
То, что приезжий был чужаком, не вызывало никаких сомнений. Ни я, ни самый старый житель Икстепека не помнили, чтобы видели его раньше. И тем не менее, казалось, молодой человек прекрасно знает планировку моих улиц, потому как, не колеблясь, добрался прямиком до дверей отеля «Хардин». Дон Пепе Окампо, хозяин, показал ему просторную комнату с глинобитным полом, растениями в кадках, железной двуспальной кроватью под белыми простынями и москитной сеткой. Приезжий выглядел довольным. Дон Пепе, будучи человеком разговорчивым и гостеприимным, чрезвычайно обрадовался новому постояльцу.
– Так давно уже никто сюда не приезжал! То есть никто издалека. Индейцы не в счет; они спят в дверях или во дворе. Раньше приезжали коммивояжеры с чемоданами, набитыми всякой всячиной. Вы, случайно, не из них?
Чужак покачал головой.
– Видите, сеньор, до чего дошел я из-за всей этой политики! Раньше в Икстепек кто только не приезжал, торговля била ключом, и отель был всегда полон. Видели бы вы! Столы ломились от еды. Посетители до поздней ночи! Вот было время! Сейчас почти никого. Ну, если не считать генерала Росаса, полковника Короны, кое-кого из низших чинов да их любовниц…
Последнее слово дон Пепе произнес полушепотом, подавшись к приезжему, который слушал с улыбкой. Молодой человек достал две сигареты и предложил одну хозяину гостиницы. Последний потом утверждал, что сигареты в руках пришельца появились буквально из воздуха. Якобы чужак вытянул руку, и между его пальцами сами собой возникли сигареты, причем уже зажженные. Однако в тот момент дон Пепе ничему не удивился, сей факт показался ему вполне естественным. Он зачарованно смотрел в глаза своего нового постояльца и тонул в их глубине, блея, будто послушная овечка. Оба закурили и вышли в коридор, уставленный влажными папоротниками. Оттуда доносился стрекот сверчков.
Неподалеку от них, в ярко-розовом халате, с распущенными волосами, сквозь которые поблескивали золотые серьги, дремала в своем гамаке красавица Хулия, любовница генерала Росаса. Как будто почувствовав чужое присутствие, она открыла глаза и сонно, но с любопытством взглянула на незнакомца. Будучи вполне способной скрыть испуг, она тем не менее совсем не встревожилась. С тех пор как я увидел ее выходящей из военного поезда, она казалась мне женщиной опасной. Никто раньше в Икстепеке не вел себя как она. Ее привычки, манера говорить, ходить и смотреть на мужчин – все в Хулии было иным. Я так и вижу, как идет она по перрону, принюхиваясь к воздуху, будто ей чего-то не хватает. Раз увидев такую женщину, уже не забудешь! Видел ли ее раньше новый постоялец, я не знаю, однако на него красота Хулии не произвела особого впечатления. Он приблизился к ней и долго разговаривал, склонившись над ее гамаком. Хулия, растрепанная и полуобнаженная, внимательно слушала. Дон Пепе так и не смог припомнить потом, что тот ей говорил.
Ни Хулия, ни дон Пепе, по всей видимости, не осознавали опасности, которой подвергались. В любой момент мог возникнуть генерал Росас, звереющий от ревности при одной лишь мысли, что кто-то осмелился разговаривать с его возлюбленной, смотреть на ее зубы и розовый кончик языка, когда она улыбается. Именно по этой причине дон Пепе тут же бросался навстречу генералу, едва тот приходил, дабы сообщить, что сеньорита Хулия ни с кем не общалась. По вечерам Хулия облачалась в розовое шелковое платье, усыпанное белым бисером, и украшала себя золотыми ожерельями и браслетами. Генерал, скрипя зубами, выводил ее прогуляться на площадь. Она шла, высокая и цветущая, и как будто освещала собой ночь. Невозможно было не смотреть на нее. Мужчины, что сидели на скамейках или гуляли по площади, глядели на красавицу с тоской. Не раз генерал стегал их плетью, не раз давал пощечину Хулии, когда та отвечала на их взгляды. Но женщина, казалось, не боялась его и оставалась равнодушной к его ярости. Говорили, генерал ее выкрал откуда-то издалека; никто не знал, откуда именно, судачили также, что разбила она немало мужских сердец.
Жизнь в отеле «Хардин» была полна тайн и страстей. Жители соседних домов подглядывали со своих балконов за постояльцами в надежде увидеть красивых и экстравагантных женщин – любовниц военных.
Часто из отеля слышался смех Розы и Рафаэлы, сестер-близняшек, возлюбленных подполковника Круса. Обе северянки, переменчивые и темпераментные, и когда злились, то швыряли свои туфли на улицу. Если же дамы были довольны, то украшали волосы красными тюльпанами, одевались в зеленое и прогуливались, привлекая взгляды. Обе высокие и крепкие. По вечерам, сидя на балконе, сестры лакомились фруктами и дарили улыбки прохожим. Шторы в их комнате никогда не задвигались, и дамы щедро выставляли свою интимную жизнь на всеобщее обозрение. Вдвоем они возлежали на одной кровати с белым кружевным покрывалом, демонстрируя стройные ноги. Подполковник Крус, томно улыбаясь, ласкал их бедра. Крус был человеком добродушным и одинаково баловал обеих.
– Жизнь – это женщины и удовольствия! Как можно лишать женщин того, что они просят, если меня они ничего не лишают… – И он смеялся, широко открывая рот и показывая белые, как у молодого канибала, зубы. Долгое время весь Икстепек дивился паре серых лошадей с белыми звездами на лбу, которых подполковник подарил сестрам. Чтобы найти двух одинаковых, он объехал всю Сонору. – Женские капризы нужно удовлетворять! Неудовлетворенные капризы убивают. Мои девочки хотели лошадок, я дал им лошадок!
Любовница полковника Хусто Короны, Антония, была светловолосой и меланхоличной уроженкой побережья; она часто плакала. Полковник дарил ей подарки, заказывал серенады, однако ничто ее не утешало. Говорили, по ночам ее мучили страхи. Самая юная из всех, Антония никогда не выходила на улицу одна. «Она же совсем ребенок!» – восклицали дамы Икстепека с возмущением, когда по четвергам и воскресеньям, бледная и напуганная, Антония появлялась на людях под руку с полковником Короной.
Луиса принадлежала капитану Флоресу. Тот, как и прочие постояльцы отеля, ее побаивался – характер у дамы был весьма скверным. Старше капитана, маленького роста, с голубыми глазами и темными волосами, она ходила в платьях с глубоким декольте и без лифчика. По ночам Хулия слышала, как она ругалась на Флореса, а потом выходила в коридор и стучала туда-сюда каблуками.
– Не понимаю, что Флорес нашел в этой кошке, вечно она воет! – комментировал генерал с раздражением.
Он чувствовал неприязнь, которую Луиса испытывала к Хулии, а потому любовница его помощника была ему неприятна.
– Ты разрушил мою жизнь, негодяй! – Крики Луисы эхом отражались от стен отеля.
– Боже мой, жизнь так коротка, зачем ее тратить на ссоры! – замечал Крус.
– Вечно она ревнует, – отвечали близняшки, потягиваясь в постели.
Антония дрожала. Хусто Корона потягивал коньяк.
– А ты что скажешь? Я тоже разрушил твою жизнь?
Антония молчала, забившись в самый дальний угол кровати.
Франсиско Росас курил, ожидая, когда смолкнут крики. Лежа на спине, он наблюдал за Хулией – та лежала рядом, абсолютно невозмутимая. А что, если бы она хоть раз упрекнула его в чем-либо? Росас решил, что почувствовал бы облегчение. Ему было тяжко видеть ее такой пассивной и равнодушной, неизменно безразличной, приходил ли он или пропадал на несколько дней. Лицо Хулии, ее голос никогда не менялись. Росас напивался перед тем, как идти к ней. В полночь, по мере приближения к отелю, его охватывала тревога. С мутными глазами, прямо верхом на лошади, он приближался к дверям ее комнаты.
– Хулия, выйдешь ко мне?
В ее присутствии голос ему изменял, становился тихим, подавленным. Росас заглядывал Хулии в глаза, желая узнать, что его возлюбленная в них прячет. Она же уходила от его взгляда, склоняла голову, улыбалась, смотрела на свои обнаженные плечи и погружалась в далекий безмолвный мир, точно призрак.
– Пойдем, Хулия! – умолял генерал, и она, полураздетая, с улыбкой садилась к нему на коня. Они скакали галопом по моим улицам, отправляясь на ночную прогулку до Лас-Каньяс, к месту, где была вода. Поодаль за ними следовали подручные генерала. В полночь Икстепек слышал смех Хулии, но не имел права видеть ее при свете луны, верхом на лошади со своим молчаливым любовником.
В гостинице остальные женщины ждали возвращения своих мужчин. Луиса, в ночной сорочке, с лампой в одной руке, с сигаретой в другой, выходила в коридор и стучала в двери соседних комнат.
– Открой, Рафаэла!
– Хватит уже, иди спать! – отвечали ей близняшки.
– За Хулией приехали, не вернутся теперь до рассвета, – умоляла Луиса, прижав губы к дверной щели.
– Тебе какое дело? Иди спать…
– Не знаю, что со мной, живот тянет.
– Ну, иди к Антонии, она такая же полуночница, как и ты, – сонно отвечали ей сестры.
В соседней комнате Антония слышала их голоса и притворялась спящей. До ее слуха доносились звуки того, как Рафаэла в конце концов зажигала лампу. Антония с широко открытыми глазами натягивала одеяло и ощущала себя потерянной в этой странной темноте. «Что сейчас делает папа? Наверняка все еще меня ищет…» Прошло пять месяцев с тех пор, как полковник Корона похитил ее там, на побережье.
Луиса постучала в ее дверь. Антония зажала себе рот, чтобы подавить крик.
– Пойдем к девочкам! Нечего одной куковать.
Антония не ответила. Той ночью в дверь их дома точно так же постучали. «Антония, иди, посмотри, кто явился в такой час», – велел отец.
Девушка открыла дверь и успела заметить лишь сверкающие в темноте глаза. Ей на голову накинули плотную ткань, подняли на руки и вырвали из родного дома. Похитителей было много. Она слышала их голоса: «Сюда ее, быстро!» Другие руки подхватили ее и усадили на лошадь. Сквозь ткань Антония чувствовала тепло их тел: и лошади, и человека, который ее увозил. Лошадь скакала галопом, Антония задыхалась под покровом, как и сейчас, когда Луиса ее звала, а она пряталась под одеялом, не понимая почему. Парализованная страхом, девушка не осмеливалась ни пошевелиться, ни вздохнуть.
Мужчина остановил лошадь:
– Нельзя везти ее всю ночь под покрывалом, задохнется.
Антония увидела перед собой молодые глаза, которые смотрели на нее с любопытством.
– Она гуэрита [4]! – удивленно воскликнул мужчина, и любопытство в его глазах сменилось грустью.
– Ну, да! Конечно! Ее папаша – гачупин [5] Паредес, – ответили ему.
Капитан Дамиан Альварес приобнял девушку:
– Не бойся, ничего с тобой не случится. Передадим тебя полковнику Хусто Короне.
Антония вновь задрожала. Мужчина прижал ее крепче.
Начинало светать, и они подъезжали к Тексмелукану, где их ждал полковник.
– Не отдавайте ему меня… Лучше возьмите с собой, – умоляла Антония.
Капитан не ответил. Он опустил взгляд, избегая ее глаз.
– Не отдавайте ему меня…
Альварес крепко прижал ее и поцеловал.
– Пожалуйста, оставьте меня с вами! – рыдала Антония.
Капитан, не отвечая, накрыл ее вновь и молча передал Короне. Сквозь ткань пленница чуяла запах застарелого перегара.
– Все вон! – приказал полковник.
Шаги капитана Альвареса стихли вдали. Запах перегара становился все крепче. Никогда прежде Антония не испытывала такого ужаса, даже той давней ночью, когда услышала пугающий вопрос:
– Антония, к тебе приходил уже Бледнолицый Монико?
В темном коридоре ее дома, полном ветвящихся теней, странные девочки тянули к ней любопытные лица и с нетерпением ждали ответа.
– Нет.
– Тогда не открывай, если постучит.
– Он спустится с луны и укусит тебя между ног. Кровищи будет!
Антония застыла в ужасе, не в силах двинуться, посреди клубящихся черных теней на белых стенах.
– Бледнолицый Монико приходит каждое полнолуние!
И девочки убежали.
Никогда прежде Антония не испытывала такого ужаса, ровно до тех пор, пока не осталась в полной беспомощности, обернутая покрывалом, перед полковником Хусто Короной. Он сдернул ткань, и незнакомые глаза, темные и маленькие, приблизились к ее губам. Антония вмиг покрылась ледяным потом и заерзала на кровати…
«Где же морской бриз? Задохнешься в этой долине…» В соседней комнате разговаривали.
– Иди, приведи гуэриту. Наверняка плачет.
– Не пойду я. Ты же знаешь, она кричит, как чокнутая, когда стучат в ее дверь.
Луиса нервно курила и смотрела на близняшек, лежащих в одной постели, полураздетых, с нежными грудями и красивой кожей цвета кедрового ореха. Их сонные глаза и по-детски приоткрытые рты будто намекали на то, чтобы Луиса вернулась в свою комнату.
– Почему она такая? – поинтересовалась Роза.
– Не знаю. Я говорила ей, чтобы она не волновалась и, когда он будет брать ее, чтоб вела себя так, будто привыкает. Тогда он успокоится и даст ей больше свободы, – задумчиво произнесла Рафаэла.
– В конечном итоге сначала тебе плохо, но это длится недолго, а потом даже начинает нравиться, – добавила Роза.
– Совершенно верно! – воскликнула Рафаэла и, оживившись, вскочила с кровати и потянулась к корзине с фруктами.
– Перекусим, пока эти не вернулись…
– А что бы они сказали, если бы мы сбежали куда-нибудь повеселиться? – произнесла Луиса, надкусывая апельсин.
– Нельзя. Нельзя оставлять генерала одного. Не видишь, как он себя ведет? Коварство этой Хулии ни к чему хорошему не приведет.
Луиса в ярости выпрямилась:
– Прибил бы он ее уже! Тогда бы все успокоились.
– Заткнись! Не будь такой грубой!
Луиса внезапно почувствовала себя одинокой, с горечью осознавая, как сильно она отличается от этих двух девушек.
– Я детей бросила, чтобы пойти за ним. Всем ради него пожертвовала. Я не такая, как вы, я здесь не только для удовольствия. У меня был дом, семья. А Хулия – потаскушка. Если не верите, спросите у отца Бельтрана.
– Полностью согласна, да только мы все в этом участвуем, – признала Рафаэла.
– Я не участвую! – отрезала Луиса, выпрямляясь.
– Ага! Ты его законная жена, что ли? – пошутила Роза.
– Я сделала ошибку из-за любви. Я была слепа. И он меня не заслуживает!
– Ну, хоть чего-то да заслуживает. Глаза вот у него красивые, а когда мы купались в бассейне, я заметила, что у него красивые плечи.
Луиса с негодованием взглянула на Рафаэлу. Та была права: они все шлюхи. Луиса представила, как плечи ее любимого накрывают плечи Рафаэлы. В бассейне она чувствовала себя неуверенно. И рядом с этими жаждущими фруктов женщинами – тоже. Они выглядели глупо, сидя полуголыми на смятой постели. Луисе захотелось уйти, сквозь щели в дверях пробивался свет: скоро утро. Пройдет еще немного времени, и Хулия вернется в отель вместе со своим любимым и его дружками.
Днем женщины были лишены общества военных. В эти часы они расчесывали волосы, качались в гамаках, вяло ели и ждали наступления ночи, полной обещаний. Иногда по вечерам они выезжали на лошадях: Роза и Рафаэла восседали на серых седлах, Хулия – на зеленом, все трое смеялись, в золотых украшениях, с серебряными шпорами, у каждой в руке хлыст, которым они сбивали шляпы с мужчин, зазевавшихся на дороге. За дамами следовали их любовники. Икстепек завороженно наблюдал, как они проезжали мимо, а они посматривали на нас сверху вниз и удалялись, покачиваясь в такт пыльной рыси своих лошадей.
Луисе эти конные выезды доставляли страдания. Верхом она ездить не умела, к тому же вид Флореса в свите отъезжавших любовников вызывал у нее горькие слезы. Оставшись одна, она сидела на балконе и пыталась привлечь внимание проходящих по улице мужчин: обнажала плечи, курила и бросала на них кокетливые взгляды. Какой-то пьяненький солдат остановился:
– Сколько, красавица?
– Иди сюда!
Мужчина вошел в гостиницу, а Луиса позвала солдат, которые чистили ботинки возле фонтана.
– Привяжите его к столбу и отстегайте ремнями! – приказала она.
Солдаты в недоумении переглянулись. Луиса разозлилась, и на ее крики прибежал дон Пепе Окампо.
– Ради Бога, Луиса, успокойся!
– Отстегайте его ремнями, иначе прикажу генералу расстрелять вас!
Поняв бесполезность своих уговоров, дон Пепе закрыл лицо руками. Кровь вызывала у него головокружение. В ужасе он наблюдал, как мужчину привязывали к столбу, затем слушал удары ремней по телу жертвы и видел, как солдаты выбросили окровавленного человека на улицу. Хозяину гостиницы стало плохо, и он ушел к себе в комнату. Вечером он рассказал капитану Флоресу о случившемся. Молодой офицер прикусил губы и попросил комнату подальше от своей возлюбленной. Когда его адъютанты пришли забрать вещи, Луиса, плача, выбежала в коридор. «Но капитан заперся в комнате, и она всю ночь прорыдала у его двери…» – позже рассказывал дон Пепе жителям Икстепека.
Незнакомец, который и ведать не ведал о тайной и полной страстей жизни обитателей отеля «Хардин», все еще разговаривал с Хулией, когда прибыл генерал. Увидев молодого мужчину, склонившегося над его возлюбленной, генерал, как потом сплетничали, ударил его по лицу плетью, а дона Пепе обозвал сводником. Хулия в страхе выбежала на улицу. Генерал догнал ее и вернул в отель.
– Почему ты так испугалась, Хулия?
Он подошел к женщине и приподнял ее лицо, заглядывая в глаза. Тогда Хулию впервые ужаснула вспышка его гнева. Однако она лишь улыбнулась и подставила губы для поцелуя. Никогда она не скажет Росасу, почему так испугалась, увидев багровый след на лице незнакомца.
– Что тебя напугало? – снова с мольбой спросил генерал, но Хулия, изогнувшись, как кошка, поцеловала его в шею. – Кто он, Хулия, скажи мне…
Женщина высвободилась из объятий любовника и, не проронив ни слова, легла на кровать, закрыв глаза. Генерал долго на нее смотрел. Оранжевые всполохи заката просочились сквозь жалюзи. С последними отблесками солнца ступни Хулии приобрели эфемерную и полупрозрачную жизнь, не зависящую от тела, закутанного в розовый халат. Жар дня, накопленный в углах комнаты, дрожал в зеркале комода. Гиацинты в вазе утопали в своем аромате; из сада доносились тяжелые запахи, с улицы – сухие и пыльные. Франсиско Росас на цыпочках вышел, чувствуя себя побежденным молчанием Хулии.
Он осторожно закрыл дверь и с гневом позвал дона Пепе Окампо. В тот день моя судьба была решена.
Незнакомец же, получив удары по лицу, молча взял свой чемодан и вышел из отеля. Я видел, как он невозмутимо стоял на пороге. Затем спустился по улице, дошел до угла, свернул вниз, направляясь в сторону улицы Герреро, и зашагал по узкому тротуару. Казалось, он просто размышлял на ходу, пока не столкнулся с Хуаном Кариньо, который как раз выходил из борделя на ежедневную прогулку. Незнакомец не удивился ни фраку, ни президентской ленте, перекинутой через грудь Хуана Кариньо.
Тот остановился:
– Вы к нам издалека?
– Из Мехико, сеньор, – вежливо ответил незнакомец.
– Сеньор президент, – серьезно поправил его Хуан.
– Простите, сеньор президент, – быстро повторил приезжий.
– Приходите завтра в мой дворец. Девушки проводят вас ко мне в кабинет.
Хуан Кариньо определенно был самым лучшим из всех моих сумасшедших. Не припомню, чтобы он когда-нибудь плохо поступил или проявил грубость. В любой ситуации он неизменно оставался добрым и внимательным. Если мальчишки бросали камни, пытаясь сбить с головы его цилиндр, и тот катился по земле, Хуан Кариньо молча поднимал его и с достоинством продолжал вечернюю прогулку. Он подавал милостыню и навещал больных. Произносил речи и расклеивал манифесты на стенах. Какое отличие от Упы… Тот был сущим бесстыдником! Валялся целыми днями где попало, гонял вшей и пугал прохожих. А то внезапно появлялся из-за угла, хватал кого-нибудь за руку и, вонзая в нее длинные черные ногти, рычал: «Упа! Упа!» И ту ужасную смерть, которая его постигла, несомненно заслужил: местные мальчишки обнаружили его, лежащего в канаве, с разбитой головой и грудью, исполосованной ножом. Да, этот был настоящим чокнутым.
Хуан Кариньо всегда жил в борделе. На стенах его комнаты висели портреты героев: Идальго, Морелоса, Хуареса. Когда обитательницы борделя предлагали повесить к ним и его портрет, Хуан Кариньо сердился:
– Ни один великий человек не воздвигал себе памятник при жизни! Для этого нужно быть как минимум Калигулой!
Это имя впечатляло девушек, и они замолкали. Если между куртизанками и солдатами, которые их посещали, вспыхивали ссоры, Хуан Кариньо вмешивался всегда очень вежливо:
– Девочки, немного порядка! Что подумают о нас гости!
В тот день, когда зарезали куртизанку по имени Пипила, Хуан Кариньо организовал ее похороны с большой помпой и возглавил процессию, которая сопровождалась музыкой и фейерверками. За голубым гробом шли девушки с накрашенными лицами, в коротких фиолетовых юбках, черных чулках и туфлях на изогнутых шпильках. «Все профессии благородны», – заявил господин президент, стоя у края могилы. Процессия вернулась в публичный дом, и он закрылся на девять дней, пока читались молитвы. Хуан Кариньо носил траур целый год.
В тот вечер он решил помочь приезжему. Тот вежливо поблагодарил и продолжил свой путь. Хуан Кариньо на миг задумался и догнал его:
– Молодой человек, приходите завтра. Сейчас трудные времена, нас оккупировал враг, и наши возможности ограничены. Но что-то мы все-таки можем!
– Спасибо! Большое спасибо, сеньор президент!
Оба поклонились друг другу и разошлись. Незнакомец несколько раз прошел по моим улицам и вернулся на Площадь де Армас. В нерешительности присел на скамейку. Смеркалось. Сидя там, молодой человек выглядел сиротой. По крайней мере, так объяснил дон Хоакин донье Матильде, когда явился домой с незнакомцем.
Дон Хоакин был хозяином самого большого дома в Икстепеке; его патио и сады занимали почти два квартала. Первый сад, засаженный раскидистыми деревьями, защищался от солнца мрачными густыми кронами. Ни один звук не проникал в это место, окруженное стенами, перекрытиями и галереями. По саду змеились каменистые дорожки, обрамленные гигантскими папоротниками, вольготно росшими в тени. «Сад папоротников», как он назывался, справа заканчивался павильоном с четырьмя комнатами. Если двери павильона вели в «Сад папоротников», то его окна выходили в другой сад, который носил имя «Сад зверушек». Тот сад, в свою очередь, являлся продолжением задней комнаты павильона, ее также называли салоном, стены которого были расписаны маслом: череда лесочков в полумраке, охотники в красных куртках с охотничьими рогами на поясах преследуют оленей и кроликов, убегающих в густые заросли. В детстве Изабель, Хуан и Николас проводили долгие часы, разгадывая эту миниатюрную охоту.
– Тетя, что это за страна?
– Англия…
– Ты была в Англии?
– Я-то?.. – И донья Матильда загадочно смеялась.
Когда дети выросли, павильон был закрыт и в доме забыли об Англии.
Темнота и тишина окутывали все строения. В комнатах с каменными стенами царил немилосердно деревенский порядок: жалюзи всегда опущены, а накрахмаленные занавески – задернуты. Дом жил размеренной и расписанной по минутам жизнью. Дон Хоакин приобретал только самое необходимое, пытаясь достичь совершенства в функционировании дома. Что-то в хозяине нуждалось в этом регулярном одиночестве и тишине. В крошечной комнате дона Хоакина едва помещалась кровать, балкон отсутствовал вовсе, только небольшое окно под самым потолком. Белый деревянный туалетный столик, на котором сверкал фарфором умывальник с одиноким кувшином, дополнял аскетичность жилища, а тонкий запах мыла, лосьонов и крема для бритья с этикетками на французском странным образом с ней контрастировал. Комната сообщалась с комнатой доньи Матильды, супруги дона Хоакина. В молодости донья Матильда была веселой и шумной; она совсем не походила на своего брата Мартина. Годы замужества, тишина и уединение сделали ее тихой улыбчивой старушкой. Она утратила легкость общения с людьми, и какая-то подростковая застенчивость заставляла ее краснеть и смеяться всякий раз при встрече с незнакомцами. «Теперь я помню только, как ходить по моему дому», – говорила донья Матильда своим племянникам, когда те упорно пытались вывести ее на улицу. Когда же кто-то из соседей умирал, старушка не появлялась на похоронах. Почему-то мертвые лица знакомых вызывали у нее смех:
– Сделали одолжение! Нарядили бедного покойника как на праздник!
Неожиданное появление мужа с незнакомцем смутило донью Матильду и вызвало моментальный приступ головокружения: как будто все ее одиночество и порядок, накопленные за годы, были нарушены.
– Молодой человек будет нашим гостем столько, сколько пожелает, – объявил дон Хоакин, игнорируя недовольство в глазах жены.
Она же, обменявшись парой слов с незнакомцем, благополучно забыла про свой гнев. Донья Матильда привыкла к тому, что муж вечно тащит в дом всякую живность, однако человека он привел впервые. Она заглянула в кухню объявить слугам, что у них гость, хотя, честно говоря, ее так и подмывало сказать: «Еще одно животное». Затем донья Матильда сопроводила мужа с незнакомцем в павильон: ей не терпелось убрать гостя подальше от своей интимной зоны.
– Здесь, в Англии, вы почувствуете себя вольготней…
И она робко взглянула на молодого человека.
Тефа, служанка, отперла павильон с нарисованными охотниками, открыла двери спальни и зажгла лампы. Гость пришел в восторг от своего нового жилища. Дона Матильда выбрала для него самую большую комнату, с помощью Тефы застелила кровать, открыла окно, выходящее в «Сад зверушек», и дала гостю несколько рекомендаций о том, как следует натягивать москитную сетку, дабы избежать вторжения летучих мышей, которые, впрочем, были безобидны.
Молодой человек, представившись как Фелипе Уртaдо, пристроил свой чемодан на прикроватный столик. Служанка обновила воду в кувшине, принесла кусочек французского мыла и положила на полки в ванной чистые полотенца.
За ужином хозяйка была очарована гостем и его улыбкой. Затем молодой человек удалился, а хозяева остались вдвоем. Дон Хоакин рассказал жене о жуткой сцене, произошедшей в отеле «Хардин»: ему об этом поведал дон Пепе Окампо.
– Вот и нажили мы себе врага в лице генерала! – заметила донья Матильда.
– Не может же этот человек делать все, что ему вздумается.
– Но он делает! – возразила донья Матильда с улыбкой.
Рано утром приезжий проснулся, напуганный вторжением кошек, которые обрушились на его постель: хозяева забыли предупредить, что в «Саду зверушек» живут сотни этих животных. Спозаранку, голодные, они спускаются с крыш, направляясь к месту, где слуги оставляют миски с молоком и куски мяса. Не зная этого, Уртaдо ничегошеньки не понимал. В открытое окно непрерывным потоком текли кошки. Лавируя меж садовых валунов, вышагивала стая крякающих уток. Были там и олени, и козлята, и собаки, и кролики. Гость не мог прийти в себя от изумления. Когда же он осознал, что животные были подобраны так же, как и он, на него накатила смесь нежности и иронии.
Позже, решив выйти из комнаты, Уртaдо обнаружил, что солнце уже высоко и его лучи едва пробиваются сквозь густую листву. Он, робко прогуливаясь среди папоротников, поднял какой-то камень и с отвращением отпрянул: под камнем обнаружилось мерзкое существо.
– Скорпион! – пояснила Тефа, наблюдавшая за гостем неподалеку.
– Ах! Доброе утро, – ответил приезжий вежливо.
– Убейте его! Они опасны. У вас на родине разве их нет? – недоброжелательно поинтересовалась служанка.
– Нет, я из холодных мест…
Над садом парило. Растения с мясистыми листьями источали влажные резкие запахи. Водянистые стебли яростно тянулись вверх, побеждая жару. Банановые плети издавали странные шорохи. Земля была черной и влажной. В чаше фонтана стояла зеленоватая вода, на поверхности которой плавали разлагающиеся листья и огромные бабочки-утопленницы. От фонтана тянуло болотной затхлостью. Сад, что ночью загадочно светился в темноте и манил листьями и цветами, угадать которые можно было лишь по интенсивности их аромата, днем наполнялся угрожающими запахами. Приезжий почувствовал тошноту.
– Во сколько возвращается сеньор? – спросил он у служанки.
– Если вообще выходит, – ответила та насмешливо.
– Я думал, он уходит на работу.
– Ага, уходит, да только вон туда.
И женщина кивнула головой, указывая на открытую дверь в ограде сада.
– Лучше тогда его не беспокоить.
Тефа не ответила. Гость почувствовал враждебность женщины.
Вдруг он словно вспомнил что-то:
– А где живет сеньор президент?
– Хуан Кариньо? В Аларконе, почти на окраине, рядом с выездом на Лас-Крусес, – ответила удивленная служанка, проглотив рвущийся с кончика языка вопрос: равнодушие молодого человека заставило ее замолчать.
– Пойду к нему. Вернусь к обеду, – сказал чужак так естественно, будто навещал сумасшедшего каждый день.
И Фелипе Уртадо направился к воротам. Тефа смотрела ему вслед, и ей казалось, будто он шел по траве, не оставляя следов.
– Кто знает, откуда взялся этот тип! Я бы на месте хозяина не подбирала бродяг, – поторопилась она сообщить слугам, которые обедали на кухне.
– А вы знаете, что он натворил в гостинице? – спросила Тача, горничная. – Он хотел спутаться с Хулией, а генерал их всех чуть не убил: его, Хулию и дона Пепе.
– Не думаю, что он порядочный человек. Когда я зашла заправить его постель, она уже была заправлена, а сам он читал какую-то красную книгу.
– Видите? Кто знает, чем он там занимался ночью!
– Угадайте, куда он сейчас пошел, – сказала Тефа и, когда остальные вопросительно посмотрели на нее, объявила с триумфом: – К шлюхам!
– Вот это да! А он из ранних! – проговорил, ухмыляясь, Ка`стуло.
– Думаю, что-то нехорошее привело его в Икстепек, – добавила Тефа убежденно.
– Явно замешана женщина, – с достоинством заметил Кастуло.
Фелипе Уртадо тем временем, далекий от сплетен прислуги, уже прошел через весь город, миновав гостиницу «Хардин». Дон Пепе, заметив его издалека, поспешно юркнул за дверь и выглянул, когда приезжий прошел. «Тот еще наглец! Натворил неприятностей и опять здесь болтается!» – пробормотал старик с обидой, глядя в спину молодому человеку.
Накануне Росас появился, чтобы допросить дона Пепе. Никогда еще генерал не выглядел таким мрачным:
– Кто этот человек?
Дон Пепе, смущенный холодным взглядом Росаса, не знал, что и ответить, так как понятия не имел, кем был приезжий.
– Не знаю, мой генерал, какой-то чужак. Комнату искал. У меня не было времени его расспросить, потому что вы сразу же пришли…
– И какое право ты имеешь сдавать комнаты без моего разрешения? – спросил Росас так, будто он сам, а не дон Пепе Окампо был владельцем отеля «Хардин».
– Нет, мой генерал, я не собирался сдавать ему комнату. Я как раз говорил ему, что свободных номеров нет, когда вы пришли…
Луиса, лежа в своем гамаке, внимательно слушала их диалог.
– Генерал, он говорил с Хулией больше часа, – вмешалась она, мстя таким образом и Хулии, и дону Пепе.
Франсиско Росас не удостоил ее взгляда.
– Слышала, они говорили о Колиме, – злобно добавила Луиса.
– О Колиме! – повторил Росас мрачно.
Это было явно не то, что он хотел услышать. Не отвечая, генерал вернулся в свою комнату. Дон Пепе взглянул на Луису с ненавистью. Та немного покачалась еще в своем гамаке, затем тоже ушла к себе. Тогда хозяин отеля тихонько подошел к приоткрытой двери любовников и попытался подслушать их разговор:
– Скажи, Хулия, почему ты испугалась?
– Не знаю, – ответила та спокойно.
– Говори правду, Хулия, кто он?
– Не знаю…
Дон Пепе видел женщину: она свернулась на постели, как кошка, откинув голову на плечо и глядя миндалевидными глазами на умоляющего генерала. «Какая она ужасная! Я бы выбил из нее правду!» – подумал старик. Появление подполковника Круса заставило его поспешно отойти от двери и прекратить свои размышления.
– Попался! Подслушивал! – засмеялся офицер.
– Не смейтесь… – Напуганный старик все ему рассказал.
Подполковник Крус, казалось, забеспокоился.
– Ох уж эта Хулия! – проговорил он, на сей раз серьезно.
Франсиско Росас вышел из комнаты. Он был бледен и ушел, не позвав никого из своих приятелей. Вернулся в отель около полуночи мертвецки пьяным.
– Хулия, поедем в Лас-Каньяс…
– Не хочу.
Впервые женщина ему отказала. Генерал швырнул вазу с гиацинтами в зеркало на комоде, и она разбилась вдребезги. Хулия закрыла глаза руками.
– Что ты наделал? Это к несчастью!
Постояльцы отеля услышали шум.
– Боже мой, невозможно спокойно жить! – вздохнула Рафаэлита.
– Я хочу домой! – закричала Антония, и полковник Хусто Корона зажал ей рот рукой.
Тем временем Фелипе Уртадо нашел дом, который искал. Он понял, что это тот самый дом, потому что тот выделялся среди остальных, словно отражение в разбитом зеркале. Дом практически лежал в руинах, претендуя на незначительность, при этом казался огромным на фоне редких булыжников, которыми заканчивалась улица.
– Вот он! – крикнули несколько мальчишек, глядевших на чужака с любопытством. Тот осмотрел облупленную дверь и нишу, в которой стояла фигура Святого Антония, затем дернул за шнурок звонка.
– Входи, открыто! – послышался скучающий голос.
Уртадо толкнул дверь и оказался в коридоре с каменным полом. Коридор вел в комнату, выполнявшую роль гостиной. Несколько кресел с бархатной обивкой, грязные бумажные цветы, столики и закопченное зеркало составляли всю мебель. На выкрашенном в красный цвет полу валялись окурки и бутылки. Его встретила Таконситос в исподнем, с растрепанными волосами и в шлепках на перекошенных каблуках.
– Рановато ты пришел милостыню просить, – сказала женщина с улыбкой, в которой сверкал золотой зуб.
– Извините, я искал сеньора президента.
– Ты нездешний, верно? Сейчас сообщу, что у него посетитель.
И женщина ушла, не переставая улыбаться.
Сеньор президент не заставил себя ждать. Любезно предложил приезжему кресло, и тот занял соседнее. Появилась Лучи со свинцовым подносом, на котором стояли две чашечки.
– Вы приятель Хулии, так? Будьте осторожны, – предупредила Лучи и нагло рассмеялась.
– Приятель? – пробормотал Уртадо.
Хуан Кариньо, увидев замешательство гостя, выпрямился, откашлялся и заговорил:
– Мы страдаем от оккупации и не можем ожидать от захватчиков ничего хорошего. Торговая палата, мэрия и полиция находятся под их контролем. Я и мое правительство не имеем никакой защиты. Поэтому вы должны быть осторожны в своих действиях.
– Влюбился, а мы тут страдаем, – прервала его Лучи.
– Девочка! Что за речи! – возмутился господин президент и добавил после неловкой паузы: – Иногда капризы доводят человека до безумия. Без преувеличения можно сказать, что молодая Хулия свела генерала Росаса с ума.
– Вы сюда надолго? – поинтересовалась Лучи.
– Не знаю…
– Не подходите к Росасу слишком близко.
– Лучше вам прислушаться к совету Лучи. Всякий раз, когда генерал ссорится с сеньоритой Хулией, кого-нибудь сажают в тюрьму или вешают… Хорошо хоть, что его преследования пока не добрались до словарей…
– Господин президент – большой друг словарей, – быстро добавила Лучи.
– А как же иначе? Ведь в них заключена вся мудрость человечества. Что бы мы делали без словарей? Невозможно даже представить. Язык, на котором мы говорим, был бы непонятен без них. «Они». Что значит «они»? Ничего. Шум. Но если мы обратимся к словарю, мы увидим: «Они, третье лицо, множественное число».
Гость рассмеялся. Сеньору президенту понравился его смех, и, развалившись в своем потертом кресле, он положил несколько ложек сахара в кофе и неспешно его помешал. Он был доволен: ему удалось сбить приезжего с толку – он не соврал и при этом, что гораздо важнее, умолчал о главном: слова опасны, потому что существуют сами по себе, а словари предотвращают немыслимые катастрофы. Слова должны оставаться тайными. Если бы люди знали об их существовании, ведомые своей злобой, они бы взорвали ими весь мир. Слишком уж много слов знают невежды и пользуются ими, чтобы причинять страдания. Секретная миссия Хуана Кариньо заключалась в том, чтобы ходить по моим улицам и собирать злые слова, произнесенные в течение дня. Одно за другим, он незаметно поднимал их и прятал под шляпой-цилиндром. Попадались слова весьма коварные: они удирали, и сеньору президенту приходилось пробегать несколько улиц, прежде чем их поймать. Сеть для ловли бабочек пришлась бы весьма кстати, но она была слишком заметной и вызвала бы подозрения. В некоторые дни улов оказывался настолько велик, что слова не помещались под шляпу, и сеньору президенту приходилось несколько раз выходить на улицу. Вернувшись домой, он запирался в своей комнате, чтобы превратить слова обратно в буквы и спрятать их в словарь, чтобы они оттуда больше не выходили. Весь ужас заключался в том, что, как только злое слово находило путь к злобным языкам, оно непременно сбегало, и поэтому работа Хуана Кариньо не заканчивалась никогда. Каждый день он искал слова «повесить» и «пытать», и когда они ускользали от него, то возвращался проигравшим, не ужинал и проводил ночь без сна. Он знал, что утром в Транкас-де-Кокула будут повешенные, и чувствовал себя за это ответственным.
Хуан Кариньо внимательно посмотрел на гостя. Со дня встречи тот внушал ему доверие. Сеньор президент не просто так пригласил приезжего в свой дворец: он решил посвятить его в тайну своей власти. «Когда я умру, кто-то должен продолжить мою миссию по очищению мира от злых слов. Иначе что станет с нашим народом?» Однако прежде следовало выяснить, чистое ли у преемника сердце.
– Метаморфозы! Что значило бы слово «метаморфозы» без словаря? Просто горстка черных букв.
Хуан Кариньо заметил, какой эффект произвели эти слова на приезжего: его лицо превратилось в лицо десятилетнего ребенка.
– А что значило бы «конфетти»?
Это слово вызвало целый праздник в глазах Фелипе Уртадо, и Хуан Кариньо обрадовался.
Лучи могла часами его слушать. «Какая жалость! Не будь он сумасшедшим, имел бы настоящую власть, и мир был бы таким же ярким, как праздник». – И Лучи становилось грустно от мысли, что такой человек живет в борделе. Девушка хотела понять, когда именно Хуан Кариньо превратился в сеньора президента, и никак не могла найти трещину, которая разделяла эти два образа: через эту трещину ускользало счастье мира; из этой ошибки родился человечек, запертый в публичном доме, без надежды вернуть свое блестящее предназначение. «Может быть, ему приснилось, что он сеньор президент, и он так и не проснулся, и ходит теперь во сне, но с открытыми глазами», – думала Лучи, вспоминая свои собственные сны и свое странное поведение в них. Поэтому она подавала Хуану Кариньо много кофе и обращалась с ним бережно, точно с лунатиком. «На случай, если он проснется…» – И она вглядывалась в глаза сеньора президента, пытаясь обнаружить в них удивительный мир снов: как они спиралями крутятся к небу; как слова угрозами падают в одиночестве; как деревья растут в ветре; как синие моря разливаются над крышами домов. Разве сама она не летала во сне? Летала. Над улицами, которые тоже летали, преследуя ее, а внизу ждали фразы. Если бы Лучи проснулась посреди такого сна, она бы точно поверила в существование своих крыльев, и люди говорили бы со смехом: «Посмотрите на Лучи. Сумасшедшая. Считает себя птицей». Поэтому девушка постоянно следила за Хуаном Кариньо, пытаясь понять, удастся ли ей его разбудить.
– Если пожелаете погрузиться в мир слов, приходите сюда, мои словари к вашим услугам, – услышала Лучи слова сеньора президента.
– Спешу заверить, ваше приглашение не пропадет даром, – ответил гость с улыбкой.
– У меня есть три тома словаря английского языка. Мне удалось добыть не все… Вот несчастье!
И Хуан Кариньо погрузился в глубокую печаль. У кого сейчас эти книги? Бедствие, царившее в мире, совсем его не удивляло.
Лучи вышла из комнаты и вернулась через несколько минут, держа в руках оранжевый словарь с золотыми буквами. Хуан Кариньо с почтением взял книгу и начал показывать новому другу свои любимые слова. Он произносил их по слогам, таким образом, чтобы их сила рассеивала мрак Икстепека и избавляла город от власти слов, сказанных на улице или в кабинете Франсиско Росаса. Внезапно сеньор президент остановился и серьезно взглянул на собеседника.
– Полагаю, вы ходите на мессу.
– Да. По воскресеньям.
– Не лишайте нас вашего голоса. Литании так прекрасны!
И Хуан Кариньо принялся нараспев читать молитву.
– Уже больше половины второго, а огонь даже не разожгли, – объявила Таконситос, чья растрепанная голова показалась в дверном проеме.
– Половина второго? – переспросил Хуан Кариньо, прерывая молитву.
Ему хотелось забыть грубый голос женщины, вернувший его к жалкому существованию в доме с грязными стенами и кроватями.
– Половина второго! – повторила женщина, и ее голова исчезла в дверном проеме так же, как и появилась.
– Вольнодумка… Такие люди превратили наш мир в кошмар, – сказал Хуан Кариньо сердито.
Он встал и медленно подошел к Фелипе Уртадо.
– Сохраните мой секрет. Алчность генерала не знает границ. Он вольнодумец, который уничтожает все прекрасное и тайное. Он может начать гонения на словари, что вызовет катастрофу. Человечество потеряется в хаосе языка, и мир рухнет, превратившись в пепел.
– Мы будем как собаки, – пояснила Лучи.
– Хуже, потому что собаки умеют лаять организованно, хоть нам это и непонятно. Знаете ли вы, что такое вольнодумец? Это человек, отказавшийся от мысли.
И господин президент проводил гостя до дверей:
– Наилучшие пожелания сеньоре Матильде и сеньору Хоакину, весьма сожалею, что они никогда не заходят ко мне в гости.
Хуан Кариньо в задумчивости замер на пороге, махая на прощанье приезжему, который удалялся в лучах послеполуденного солнца. Затем с грустью закрыл дверь, вернулся в неряшливую гостиную и сел в то же самое кресло, стараясь не замечать разбросанные по полу окурки и грязь вокруг.
– Сеньор президент, нам птица славы пропела! Сейчас принесу вам такос, – сказала Лучи, пытаясь его развеселить. Остальные женщины в этот час только начинали вставать.
Я был так несчастен тогда, что часы для меня сливались в однообразную массу, а память превращалась в ощущения. Несчастье, как и физическая боль, уравнивает минуты. Все дни становятся одним и тем же днем, действия – одним и тем же действием, а люди – одним человеком. Мир теряет разнообразие, свет исчезает, чудеса отменяются. Инерция тех повторявшихся дней сдерживала меня, заставляя наблюдать за бесполезным бегом времени и ожидать чуда, которое все никак не происходило. Будущее было повторением прошлого. Неподвижный, позволял я жажде точить каждый мой уголок. Чтобы разбить окаменевшие дни, у меня оставался лишь тщетный мираж насилия, и жестокость свирепствовала над женщинами, уличными псами и индейцами. Мы будто жили в трагедии, в застывшем времени, где все герои гибнут, пойманные в ловушку момента. Напрасно совершали они все более и более кровавые деяния. Мы отменили время.
Новость о прибытии незнакомца разнеслась с быстротой молнии. Время, впервые за много лет, пронеслось по моим улицам, озаряя их и отражаясь светом на камнях и листве; в миндальных деревьях защебетали птицы, солнце с наслаждением поднялось над горами; прислуга в кухнях шумно обсуждала прибытие чужака. Запах настоя из апельсиновых листьев проник в спальни, пробуждая дам от их бесполезных снов. Неожиданное присутствие другого нарушило застой. Пришелец был вестником, не зараженным несчастьем.
– Кончита! Кончита! У Матильды гость. Одевайся! – закричала донья Эльвира, когда служанка сообщила ей новость.
Сеньора шустро встала с кровати, намереваясь успеть на семичасовую мессу, дабы первой разузнать все новости о незнакомце. Кто он? Каков он? Чего хочет? Зачем приехал? Она быстро оделась и бесстрастно посмотрела на себя в зеркало.
– Смотри, какой у меня хороший цвет лица! Жаль, твой бедный отец не видит! Как бы он мне сейчас позавидовал! Он был таким желтолицым!
Кончита терпеливо ждала у туалетного столика, когда мать закончит любоваться собой.
– Вот и он! Вот и он! Следит за мной из зеркала, злится, что я хоть и вдова, но все еще молодая! Я ухожу, Хустино Монтуфар!
И сеньора показала язык отражению мужа.
«Так он там и застрял, слишком часто на себя смотрел, – думала она по дороге в церковь. – В жизни не видала более самовлюбленного человека!» Она с раздражением вспомнила, как аккуратно ее муж гладил манжеты своих рубашек, какими идеальными были его галстуки и стрелки на брюках. Когда он умер, Эльвира не захотела его наряжать: «Просто саван!» – плача, попросила она подруг, довольная тем, что лишила покойника прихотей, которыми так долго он ее тиранил при жизни. «Поделом ему!» – говорила она самой себе, пока подруги пеленали тело в дешевую простыню: в тот момент донья Эльвира вновь стала хозяйкой собственной воли и мстительно наблюдала за тем, как покойник, бледный и твердый, вертелся в простыне, будто бы в ярости от ее мыслей.
– Как же она долго! Старухи все делают так медленно, – с досадой воскликнула она, заметив, что Матильда все еще не появилась у церкви. В раздражении донья Эльвира топнула ногой. Кончита опустила взгляд. Ей казалось, мать привлекает всеобщее внимание. Остальные тоже ждали с нетерпением, однако сдерживали себя.
– Она может и не прийти. Ей нравится корчить из себя загадочную! Бедный парень, не знает, в какой дурдом попал.
Кончита сделала матери знак замолчать.
– Что ты мне машешь? Все знают, что Хоакин сумасшедший. Воображает себя царем зверей… – И Эльвира засмеялась своей же шутке.
Впрочем, закончить речь ей не удалось: к ней подходила донья Лола Горибар в сопровождении своего сына Родольфо.
– Ну вот! Сюда идет эта толстуха! – произнесла со злостью донья Эльвира.
Донья Лола почти не выходила из дома. Возможно, именно этим объяснялась ее чудовищная полнота. Донья Лола боялась. Однако страх ее был иной природы, чем наш. «Если у тебя не будет денег, никто тебе и руки не протянет», – твердила она с ужасом и старалась не отходить надолго от высоких шкафов, где хранились плотные, ровные столбики золотых монет. По субботам и воскресеньям слуги слышали, как донья Лола, запершись в своей комнате, пересчитывала деньги. В прочие дни она яростно патрулировала дом. «Никогда не знаешь, что нам уготовано свыше» – эта мысль приводила ее в ужас. Донья Лола не исключала, что создатель может сделать ее бедной, и, дабы предупредить божественную кару, копила все, что только можно. Будучи истовой католичкой, она превратила часть дома в часовню, где слушала мессу. Она любила повторять о «священном страхе Божьем», и все мы прекрасно знали, что ее «священный страх» касался лишь денег. «Не доверяй никому, не доверяй», – шептала донья Лола на ухо сыну.
Сейчас она медленно шла, опираясь на руку Родольфо. «На нас смотрят», – тихо сказала донья Лола, заметив наши любопытные взгляды. Да, мы любовались костюмом из габардина, ловко сидящем на молодом человеке, и бриллиантовой брошью, сверкавшей на груди его матери. Родольфо одевался в Мехико, и слуги поговаривали, будто у него тысяча галстуков. Его мать, в свою очередь, носила одно и то же черное платье, которое уже начинало зеленеть на швах.
Сеньора Монтуфар вышла ей навстречу, и донья Лола посмотрела на Кончиту с недоверием: девушка казалась ей опасной. Родольфо же старался и вовсе не смотреть на нее. «Лучше не давать ей никакой надежды; от женщин никогда не знаешь, чего ждать; они пользуются малейшим поводом, чтобы захомутать мужчину».
Донья Лола Горибар опасалась, что чужак, остановившийся у Матильды, имеет дурные намерения, которые поставили бы под угрозу спокойствие ее сына.
– Я говорю, это несправедливо, несправедливо! Фито и так уже столько пережил!
– Не беспокойся за меня, мамочка.
Донья Эльвира сдержанно прислушивалась к их диалогу. Сеньора Горибар безмерно восхищалась собственным сыном: благодаря его стараниям, ей вернули земли, и правительство выплатило компенсацию за ущерб, нанесенный сапатистами. Неудивительно, что она так хвалила сына на людях: это было самое меньшее, что она могла для него сделать.
– Он у меня такой хороший, Эльвира! – Донья Лола приложила руку к бриллиантовой броши.
Сеньора Монтуфар наклонилась, чтобы полюбоваться украшением. «Хустино тоже был очень хорошим сыном», – подумала она с иронией.
Родольфо постоянно ездил в Мексику, а вернувшись в Икстепек, частенько заходил в штаб военного командования, чтобы побеседовать с генералом Франсиско Росасом.
– Опять передвинул межевые знаки! – говорили мы, видя, как он с улыбкой выходит из кабинета генерала.
Действительно, после каждого такого путешествия Родольфо с кучкой вооруженных людей, которых он привез из Табаско, двигал межевые знаки, чтобы увеличить собственные владения, после чего совершенно бесплатно получал новых рабочих, новые хижины и новые земли.
Под одним из миндальных деревьев у входа в церковь, ожидая мессу, стоял Игнасио, брат пекарши Агустины. Он долго наблюдал за сыном доньи Лолы, а затем подошел к нему и вежливо попросил побеседовать наедине. Говорили, что Игнасио был аграрием. Правда же заключалась в том, что раньше он служил в рядах Сапаты, а теперь вел босоногую жизнь простого крестьянина. Его хлопчатобумажные брюки и пальмовую шляпу съели солнце и нужда.
– Послушайте, дон Родольфо, лучше оставить межевые знаки в покое. Аграрии могут вас убить.
Родольфо улыбнулся и повернулся к Игнасио спиной. Тот, обиженный, отошел и начал издали наблюдать за маленькой фигурой Горибара, который не удостоил его даже взглядом. Сколько раз ему угрожали? Родольфо чувствовал себя в полной безопасности. Даже крохотная царапина на его теле стоила бы жизни десяткам аграриев. Правительство защищало его и разрешало брать столько земли, сколько пожелает. Его поддерживал и генерал Франсиско Росас. Всякий раз, расширяя свои владения, Родольфо Горибар давал генералу крупную взятку, которая затем превращалась в очередную цацку для Хулии.
– Видишь, как женщина может управлять мужчиной? Бессовестная, она нас разоряет!
Родольфо целовал мать, компенсируя вред от оскорблений, которые Хулия наносила ей своим бесстыдством. И тоже дарил ей украшения, чтобы загладить обиду.
– Он платит, а индейцы не работают, – услышал Родольфо слова матери.
Он подошел к ней. Ее голос звучал для него как исцеление после жестких слов Игнасио. Родольфо чувствовал, что их с матерью связывает особенная, исключительно нежная любовь. Лучшие моменты своей жизни он проводил по ночам, когда они с матерью вели задушевные беседы через открытую дверь, лежа каждый в своей постели. Родольфо был единственным утешением для доньи Лолы после неудачного брака. Маленькому Родольфо смерть отца подарила сладость исключительной материнской любви. Донья Лола считала сына слабеньким и робким и не скупилась на ласку и похвалы.
– Секрет завоевания мужчины – лесть и хорошая еда… – лукаво повторяла она и одинаково внимательно следила и за прихотями сына, и за его тарелкой. Когда ребенком он натыкался на стул или стол, она велела по ним бить, чтобы показать мальчику: это мебель виновата, а не он. «Фито всегда прав», – утверждала донья Лола весьма серьезно и оправдывала каждую его вспышку гнева.
– Ты даже не представляешь, Эльвира, какое счастье иметь такого сына, как Фито… Не думаю, что он когда-нибудь женится. Ни одна женщина не поймет его лучше матери…
Донья Эльвира не успела ответить. Ее отвлекло прибытие доньи Матильды.
– Ты заметила? Заметила, какая нахалка? – спросила донья Лола у сына, едва девушка и ее мать отошли.
– Да, мама. Не волнуйся.
– Она пожирала тебя глазами!
Донья Матильда пересекла двор перед церковью бодрой рысью. Она задержалась, беседуя с Хоакином об их госте, и теперь переживала, что не успеет к концу мессы. Увидев подруг, ожидающих ее, старушка с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. «Вот любопытные! Придется позвать их в гости!»
Тем же вечером в доме дона Хоакина зажгли лампы, вынесли на террасу стулья и приготовили подносы с напитками и сладостями. Давненько в Икстепеке не устраивали званых вечеров, и дом поначалу наполнился радостью. Однако веселье улетучилось, едва гости прибыли: они почувствовали себя неловко перед незнакомцем. Коротко с ним поздоровались, затем заняли свои места и принялись в молчании смотреть на ночной сад. Там стоял душный воздух; густые папоротники и плотные тени заполонили каждый уголок, а покатые склоны гор, окружающих меня, нависли над крышей. Дамы онемели: их жизни, любовные истории, бесполезные кровати растворились, искаженные тьмой и плотным зноем. Приезжий затаился в мрачном ритме машущих вееров, пытаясь избавиться от странного ощущения, вызванного встречей с чужими лицами. Изабель и Кончита, обреченные медленно увядать в стенах собственного дома, без аппетита жевали сладости, сочащиеся горячим медом. Томас Сеговия тщился выдать блестящие фразы, нанизывая слова, как бусины, однако перед молчанием гостей совершенно потерял нить рассуждения и лишь с грустью наблюдал, как бусины слов катятся по полу и теряются меж ножками стульев. Мартин Монкада сидел в одиночестве в отдалении ото всех. До него долетали некоторые слова Сеговии.
– Он очень странный человек! – прошептала донья Эльвира на ухо приезжему.
Ей казалось, парочка откровений компенсирует неудавшийся вечер. Уртадо взглянул на донью Эльвиру с удивлением, и вдова указала на Мартина Монкада, добровольно изолировшего себя от остальных. Ей хотелось поделиться своим мнением о Мартине, но она боялась, что ее услышит Ана.
– Он был сторонником Мадеро! – прокомментировала она шепотом, завершая обзор странностей своего друга.
Чужак лишь улыбнулся, не зная, что ответить.
– С Мадеро начались наши несчастья… – притворно вздохнула вдова, зная, что эта тема оживит умирающую беседу.
– Франсиско Мадеро стоит за приходом Франсиско Росаса, – подхватил Томас Сеговия.
Тут же в самом центре сада будто бы возникла темная фигура генерала Росаса и продвинулась к группе людей на террасе доньи Матильды. «Он ведет себя так, точно он один имеет право на жизнь», – твердили гости, чувствуя себя загнанными в невидимую ловушку, лишившую их денег, любви и будущего.
– Тиран!
– Кому ты рассказываешь? Сеньор видел это собственными глазами!
– С тех пор, как Росас приехал в Икстепек, он только и делает, что совершает преступления, одно за другим.
В голосе Сеговии прозвучала двусмысленность: казалось, он почти завидовал Росасу, вешавшему аграриев вместо того, чтобы сидеть на какой-то террасе какого-то дома и говорить бессмысленные слова. «Должно быть, он переживает ужасные моменты», – подумал он, испытывая странные эмоции. – У римлян тоже не было этого нелепого представления о милосердии, особенно перед побежденными. А в нашем случае побежденные – это индейцы». Мысленно Сеговия опустил большой палец в жесте смерти, как люди на гравюрах в его «Римской истории». «Мы – народ рабов с несколькими патрициями». – И он мысленно поместил себя в ложе патрициев, справа от Франсиско Росаса.
– С тех пор как мы убили Мадеро, все, что у нас есть, – лишь долгая ночь, которую придется искупить, – воскликнул Мартин Монкада, по-прежнему не глядя на остальных.
Все посмотрели на него с ненавистью. Разве Мадеро не был предателем своего класса? Выходец из богатой креольской семьи, он тем не менее возглавил восстание индейцев. Смерть Мадеро была не только справедливой, но и необходимой. Из-за него на страну обрушилась анархия. Годы гражданской войны, последовавшие за его смертью, стали ужасными для метисов, страдавших от индейцев, которые, в свою очередь, сражались за права и земли, им не принадлежавшие. Когда же Венустиано Карранса предал победоносную революцию и захватил власть, состоятельные классы вздохнули с облегчением. После убийств Эмилиано Сапаты, Франсиско Вильи и Фелипе Анхелеса они почувствовали себя в безопасности. Однако генералы, предавшие революцию, установили кровожадное и жестокое правительство, которое делилось богатствами и привилегиями только со своими бывшими врагами и сообщниками по предательству: крупными землевладельцами эпохи Порфирио Диаса.
– Мартин, как ты можешь так говорить? Ты правда считаешь, что мы заслужили Росаса?
Слова друга смутили донью Эльвиру Монтуфар.
– Не только Росаса, но и Родольфито Горибара и его табаскских головорезов. Вы обвиняете Росаса и забываете о его сообщнике, еще более кровожадном… Впрочем, другой порфирист уже дал Викториано Уэрте деньги, чтобы убить Мадеро.
Остальные молчали. Кровавый союз между католиками-порфиристами и атеистами-революционерами их ошеломил. И тех и других объединяли жадность и позорное происхождение метиса. Вместе они открыли варварскую эпоху, не имевшую прецедента в истории.
– Я не верю, что они заплатили за убийство Мадеро, – проговорила вдова, хотя без уверенности.
– Лухан заплатил шесть миллионов песо Уэрте, дорогая Эльвира, – яростно парировал Монкада.
– Мартин прав, и нас ждет еще кое-что похуже. Как думаете, зачем Родольфито привез головорезов из Табаско? Чтобы охотиться на бездомных собак?
Говоря это, дон Хоакин содрогнулся, представив орды голодных и грязных псов, бегущих по моим мощеным улицам, гонимых жаждой и так похожих в своем убожестве и дворняжьем происхождении на миллионы индейцев, лишенных всего и подвергнутых жестокости со стороны правительства.
«Пистолерос!» Это слово, еще новое и непривычное, нас ошеломило. Пистолерос были людьми нового сорта, родившимися в результате союза предательской революции с порфиризмом. В дорогих габардиновых костюмах, темных очках и в мягких фетровых шляпах, они выполняли грязную работу – похищали людей, а вместо них возвращали изувеченные трупы. Сей трюк генералы называли «Рождение Отечества», а порфиристы – «Божья справедливость». Оба выражения означали грязные и жестокие дела.
– Уж лучше бы остался Сапата. По крайней мере, он был с Юга, – вздохнула донья Матильда.
– Сапата? – воскликнула донья Эльвира.
Ее гости, должно быть, сошли с ума или, возможно, решили выставить ее на посмешище перед приезжим. Она вспомнила, какое облегчение испытал народ, узнав об убийстве Эмилиано Сапаты. Еще долго потом им казалось по ночам, что они слышат, как со стуком падает его тело во дворе Асиенды Чинамека, и только поэтому могли спокойно заснуть.
– Матильда говорит так же, как и генералы в нашем правительстве, – весело изрек Сеговия, одновременно подумав об официальном новоязе, в котором слова «справедливость», «Сапата», «индеец» и «аграризм» использовались для оправдания захвата земель и убийства крестьян.
– Точно! А знаете, что правительство хочет поставить ему памятник? – радостно подхватила донья Эльвира.
– Ага! Чтобы никто не говорил, что оно не революционное! Ничего не поделаешь, лучший индеец – это мертвый индеец! – воскликнул аптекарь, вспомнив фразу, которой руководствовалась диктатура Порфирио Диаса. Он произнес ее с насмешкой, используя имя Эмилиано Сапаты. Остальные отреагировали на иронию аптекаря громким смехом.
– Как по мне, глупая шутка, – парировал Мартин Монкада.
– Не сердитесь, дон Мартин, – ответил Сеговия.
– Все это очень грустно…
– Так и есть. А в выигрыше всегда остается только Хулия, – горько произнес аптекарь.
– Да, да! – воскликнула сеньора Монтуфар. – Во всем виновата эта женщина.
– Разве в Мехико не в курсе, что здесь творится? – осторожно поинтересовалась донья Матильда в надежде прогнать призрак Хулии.
– А нет ли в Икстепеке театра? – вмешался в разговор пришелец.
– Театра? Вам не хватает спектаклей, которые устраивает эта женщина? – спросила мать Кончиты, испуганно глядя на гостя сеньора Хоакина.
– Нет? Весьма досадно! – спокойно сказал приезжий.
Остальные в недоумении переглянулись.
– Люди могли бы быть счастливей. Театр – иллюзия, а чего не хватает Икстепеку, так именно этого: иллюзии!
– Иллюзия! – с тоской повторил хозяин дома.
И темная одинокая ночь опустилась на собравшихся, наполняя каждого из них печалью. Они с грустью искали нечто неопределенное, чему они никак не могли придать форму; что-то, чтобы преодолеть бесконечные дни, представшие перед ними как гигантский пейзаж из старых газет, на страницах которых перемешались преступления, свадьбы, объявления; хаотично, без структуры, как события, лишенные смысла; вне времени, без памяти.
На женщин навалилась усталость, мужчины беспомощно смотрели друг на друга. Насекомые в саду уничтожали друг друга в невидимой, но яростной и шумной борьбе. «Крысы грызут мою кухню», – подумала донья Эльвира Монтуфар и встала. Остальные последовали ее примеру, и все вместе вышли в ночь. Фелипе Уртадо вызвался проводить гостей. Люди медленно шли по моим тихим улицам, опустив головы. Стараясь избежать ям и неровностей на пути, они почти не отвлекались на разговоры. Ближе к опустевшей площади стало видно, что сквозь жалюзи на балконе Хулии пробивается свет.
– Вон они! – произнесла донья Эльвира с ненавистью.
Что же там происходило? Видение чужого счастья заставило всех замолчать. Возможно, прав был Франсиско Росас. Возможно, лишь улыбка Хулии могла развеять газетную серость дней и заменить ее солнечным светом и слезами. Гости, неуверенно потоптавшись, отошли от балкона, пытаясь затеряться в темноте улицы и поскорее вернуться к своим жилищам и их дверям, которые изо дня в день, неизменно, видели их входящими и выходящими.
На обратном пути Фелипе Уртадо остановился напротив балкона главной любовницы Икстепека. Затем перешел улицу и сел на одну из скамеек на площади, чтобы наблюдать за окном Хулии. Опустив голову на руки, он погрузился в печальные мысли и просидел так до рассвета.
Утром дон Хоакин и его жена посмотрели на своего гостя с удивлением. Они хотели было попенять ему, что всю ночь его прождали, опасаясь, не случилось ли что-то, однако так и не решились. Квартирант появился кротким и покорным, точно кот, что вполне удовлетворило хозяев.
Каков был язык, на котором впервые произнесли те слова, что должны были определить мою судьбу? Прошло много лет, а я до сих пор не знаю. Я все еще вижу Фелипе Уртадо, преследуемого той самой фразой, которая, словно маленькое и опасное животное, день за днем гналась за ним. «Он приехал из-за нее». В Икстепеке не было другой «нее», кроме Хулии. «Он приехал из-за нее», – сказали дочери дона Рамона, когда со своих балконов заметили высокую фигуру чужака. Их отец, сеньор Мартинес, вышел ему навстречу, проявив дружелюбие, и попытался вывести приезжего на откровенность.
– Думаете остаться у нас надолго? – поинтересовался он, внимательно всматриваясь в глаза незнакомца.
– Пока не знаю… Зависит от обстоятельств.
– Но, в конце концов, молодой человек должен знать, чего хочет… Может, вас раздражает моя нескромность, – поспешил добавить сеньор Мартинес, почувствовав холодность, с которой были встречены его слова.
– Почему вы думаете, что меня это раздражает? Скорее, я благодарен за ваш интерес, – ответил незнакомец.
– Когда я увидел вас впервые, то принял за одного из тех энергичных молодых людей, которые ищут возможности для процветающего бизнеса… Что-нибудь продуктивное…
– Бизнеса? – переспросил Фелипе Уртадо, будто эта идея впервые пришла ему в голову. – Нет, я никогда о таком не думал! – добавил он, рассмеявшись.
– Ну, представьте себе, мой друг, что Каталан подумал, будто вы инспектор. Я заверил его, что он весьма далек от реальности.
Фелипе Уртадо от души рассмеялся.
– Инспектор! – прокомментировал он так, будто идея дона Педро Каталана на самом деле была забавной.
– Он тот еще болтун! – сказал дон Рамон, оправдываясь за свое любопытство и пытаясь продолжить разговор, однако Фелипе Уртадо сделал нетерпеливый жест, и его собеседнику не оставалось ничего другого, как уступить ему дорогу.
– Совершенно точно! Теперь у меня уж точно нет ни малейшего сомнения! – торжествующе воскликнул дон Рамон, входя в дом. Его дочери бросились к нему навстречу. – Приезжий, который называет себя Фелипе Уртадо, точно «приехал из-за нее» – с уверенностью заявил сеньор Мартинес.
Женщины сочувствовали приезжему и вторили словам, следовавшим за ним по моим улицам. Молодой человек же, казалось, не замечал фразу, кочующую из уст в уста, и спокойно уходил на открытое поле, где ярилось солнце, где земля ощетинилась колючками, а меж камнями дремали змеи. Погонщики встречали чужака возле Наранхо бредущим куда-то или сидящим на камне с книгой, лицо его при этом было омрачено неведомой нам печалью.
Возвращаясь, молодой человек всегда проходил по тротуару мимо отеля «Хардин». У окна появлялась Хулия, но никто никогда не видел, чтобы они здоровались. Только смотрели друг на друга. Она невозмутимо наблюдала, как он исчезает в арках. Прохожие обменивались многозначительными взглядами и повторяли жестами: «Приехал из-за нее».
Творилось что-то неладное. С приездом чужака поведение Росаса ухудшилось. Казалось, кто-то прошептал ему на ухо эту расхожую фразу, предназначавшуюся для всех ушей, кроме его собственных, и он жил, терзаемый сомнением.
Со злобой и удовольствием следили мы за страстными, опасными отношениями Росаса и Хулии и неизменно приходили к выводу: «Он ее убьет». Эта мысль приносила нам тайное удовольствие, и, когда в церкви появлялась Хулия с черной шалью, накинутой на плечи так, чтобы показать изящное декольте, мы тут же обменивались взглядами, начиная безмолвный хор упреков.
Генерал беспокойно ждал перед церковью. Он никогда не ходил на мессу: не смешивался с богомолками и святошами. Нервно курил, прислонившись к миндальному дереву. Его приспешники ошивались там же, ждали окончания службы. Их любовницы были набожными и регулярно посещали мессу. После богослужения мы избегали приближаться к Росасу с его холодным взглядом. Наблюдали за ним издалека.
– Эта женщина не боится даже бога!
Дамы покидали церковь траурными группами, с жадностью глядя на Хулию, удалявшуюся под руку со своим любовником.
– Надо сказать отцу Бельтрану, чтобы не пускал ее в церковь, – предложила Чарито, дочь Марии. Она руководила маленькой школой в Икстепеке.
– У каждого есть право ходить на мессу! – возразила Ана Монкада.
– Разве ты не понимаешь, Ана, какой дурной пример она подает молодым? К тому же это оскорбление для порядочных женщин.
Хулия не слышала враждебных голосов. Под руку с Франсиско Росасом она выходила из церкви. Одинокая и потерянная в Икстепеке, она игнорировала мои голоса, мои улицы, мои деревья, моих людей. В ее темных глазах отражались другие города, далекие нам и чуждые. Росас торопился, желая уберечь Хулию от завистливых взглядов, бегущих за ее стройной фигурой.
– Я хочу пройтись, – возражала молодая женщина с легкой улыбкой, как бы извиняясь за свой каприз.
– Пройтись? – Франсиско Росас через плечо смотрел на ее невозмутимый профиль. О чем она думала? Почему решила пройтись, ведь обычно она такая ленивая? В памяти генерала всплыло имя, и он направился к отелю. – Скажи мне, Хулия, с чего это ты хочешь пройтись?
Родольфо Горибар в сопровождении двух своих табаскских стрелков ждал генерала у отеля. Росаса и Хулию он приметил еще издалека и двинулся им навстречу, предполагая, что его появление окажется неуместным.
– Генерал… – робко позвал он.
Росас посмотрел на Горибара, не узнавая.
– Одно словечко, генерал…
– Позже, – не глядя, ответил Росас и удалился вместе с Хулией.
Родольфо Горибар вернулся к приятелям.
– Подождем его, – предложил он и начал прогуливаться перед дверью отеля. Опыт подсказывал Родольфо, что внутри генерал не задержится. Когда он злился на Хулию, то был способен абсолютно на все, включая убийство. Родольфито блаженно улыбнулся.
– Чертовы индейцы!
Его прихвостни посмотрели на него, сплюнули сквозь зубы и нахлобучили шляпы. Ждать они могли часами. Время летело быстро, когда добыча была гарантирована, и спокойное выражение лица главаря только подтверждало их уверенность.
– Пара часов, не больше, – сказали они, проглатывая окончания.
Хулия бросилась на кровать лицом вниз. Франсиско Росас, не зная, что делать и что сказать, подошел к окну. Его глаза, потускневшие от страха, вызванного скукой любовницы, встретились с потоками солнца, проникающими через жалюзи. Ему хотелось заплакать. Росас не понимал Хулию. Почему она так упорно хотела жить в мире, отличном от его? Никакие слова, никакие действия не могли вытащить ее из улиц и дней, предшествующих их встрече. Генерал чувствовал себя жертвой проклятия. Как ему стереть прошлое? Ослепительное прошлое, в котором сияла Хулия, в смутных комнатах, на смятых кроватях в безымянных городах. Эта память была не его, и он страдал от нее, как от непрекращающегося, смутного ада. В этих чужих и расплывчатых воспоминаниях он видел глаза и руки, что смотрели на Хулию, касались ее и затем уводили туда, где он терялся, пытаясь ее найти.
«Ее память – это ее удовольствие», – с горечью сказал он сам себе и услышал, как Хулия встала с кровати, позвала служанку и приказала наполнить горячей водой ванную. Он слышал, как она двигалась за его спиной, искала флаконы с духами, выбирала мыло, полотенца.
– Пойду мыться, – прошептала женщина и вышла из комнаты. Росас почувствовал себя одиноким. Без Хулии комната казалась ему безжизненной, лишенной воздуха и будущего. Генерал обернулся, увидел отпечаток ее тела на кровати и почувствовал, будто вращается в пустоте. Он не имел собственной памяти. До Хулии его жизнь была глубокой ночью, в которой он ехал верхом на лошади, пересекая Сьерру Чиуауа. То было время Революции, однако Росас не искал в ней того, что искали его товарищи-вильисты. Он испытывал ностальгию по чему-то горячему и совершенному, в чем можно было бы потеряться. Он хотел сбежать из той ночи в Сьерре, где единственным утешением было смотреть на звезды. Он предал Вилью, перешел на сторону Каррансы, однако ночи его не изменились. Нет, власти он не жаждал. В день, когда генерал встретил Хулию, у него возникло ощущение, словно он прикоснулся к одной из звезд на небе Сьерры, преодолел ее световые мили и достиг нетронутого тела Хулии. И забыл все, кроме ее сияния. Но Хулия не забыла, и в ее памяти жили голоса, улицы и мужчины, которые были до него. Росас стоял перед ней, как одинокий воин перед осажденным городом, невидимые жители которого ели, занимались любовью, думали, вспоминали. А за стенами, хранящими мир Хулии, оставался он один. Гнев Росаса, его атаки и мольбы были напрасны, город не пускал его. «Память – это проклятие», – говорил он и бил кулаками в стену своей комнаты, пока боль не останавливала его. Разве то движение, которое он совершает сейчас, не останется навсегда во времени? Сколько раз, пока он разговаривал с друзьями, нагая Хулия прогуливалась в его воображении? Он следил за ее шагами, видел ее глаза и шею и слышал, как его подчиненные болтали о деньгах и картах.
«Память невидима», – повторил генерал с горечью. Память Хулии настигала его даже тогда, когда он нес ее, спящую, по улицам Икстепека. Это была его неизлечимая рана: не видеть того, что жило внутри Хулии. Прямо сейчас, пока он страдал, глядя на лучи солнца, она забавлялась под струями воды и думать забыв про Франсиско Росаса, мучимого тем, что помнила она и не знал он. Она купалась в воспоминаниях о других ваннах и других мужчинах, которые с трепетом ее ждали. Генерал видел себя в тех мужчинах, вопрошающих ее без надежды на ответ: «О чем ты думаешь, любовь моя?»
До него донесся аромат Хулии, и он услышал, как она возвращается, шлепая босиком по красным плиткам. Он слышал, как она идет во множество одинаковых комнат, оставляя за собой влажные следы, что исчезали в легком испарении. Хулия входила во множество комнат, и множество мужчин слышали ее шаги и вдыхали ее ванильный аромат, поднимающийся вверх, в невидимый мир.
– Хулия! – позвал Росас, не оборачиваясь.
Женщина подошла ближе. Генерал почувствовал приближение этого огромного мира, скрытого за ее прекрасным лбом, который отделял его от нее, будто высоченная стена. «За этой стеной она меня и обманывает», – подумал он и увидел ее бегущей по незнакомым пейзажам, танцующей в темных деревенских комнатах, ложащейся в огромные кровати с мужчинами без лиц.
– Хулия, есть ли хоть кусочек твоего тела, который никто не целовал? – спросил Росас, не оборачиваясь, испугавшись своих слов.
Женщина молча к нему приблизилась.
– Хулия, я целовал только тебя, – смиренно сказал он с мольбой в голосе.
– Я тоже. – И ее ложь коснулась его затылка.
Франсиско Росас мысленно нарисовал в лучах солнца, проникающих сквозь жалюзи, спокойное лицо Фелипе Уртадо. Не сказав ни слова, он вышел из комнаты и громко позвал дона Пепе Окампо.
– Не открывайте окна сеньориты Хулии!
Генерал вышел на улицу, желтыми глазами ища приезжего. Родольфито Горибар подошел и встал у него на пути, но генерал прошел мимо. Горибар дал знак своим людям, и все трое последовали за генералом, соблюдая дистанцию. Прохожие, видя генерала, злорадно ухмылялись. «Куда это направляется Росас?»
В отель он вернулся поздно ночью. Глаза генерала были покрасневшими, лицо обожжено солнцем, а губы пересохли от пыли. Хулия ждала его с улыбкой. Мужчина рухнул на кровать и уставился на темные балки потолка. Его вновь преследовали воспоминания, мучили своей неполнотой. «Если бы только я мог вспомнить все, – повторял Росас с пересохшей волей, которая наполняла его голову пылью, – но я не помню лиц».
Хулия наклонилась над его обожженным лицом.
– Ты слишком долго был на солнце, – произнесла она, проводя рукой по его лбу.
Генерал не ответил. Когда-то в прошлом Хулия делала тот же самый жест, проводила рукой по лбу, только не по его лбу, и он, Росас, отчетливо видел в собственной памяти, как Хулия ласкает незнакомца.
– Ты мой лоб гладишь сейчас?
Словно обжегшись, Хулия отдернула руку и испуганно прижала ее к груди. За ее веками промелькнули воспоминания, которые Росас успел уловить. Спокойная в этой душистой комнате, в такой же ночи, как и все другие, Хулия казалась той же самой Хулией, но он, Росас, был другим мужчиной, с другим телом и лицом. Он поднялся и подошел к Хулии. Он станет другим, будет целовать ее так, как ее целовали в прошлом.