История схоластического метода. Второй том: По печатным и непечатным источникам
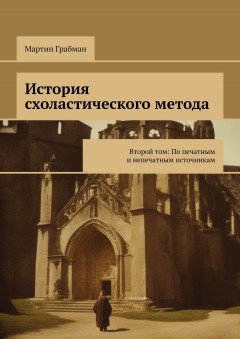
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Мартин Грабман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-2824-5 (2-1)
ISBN 978-5-0062-2820-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
После двух лет кропотливой работы за первым томом моей «Истории схоластического метода» теперь может последовать второй. Этот том, представляющий дальнейшее развитие схоластического метода в XII и начале XIII века, не только значительно полнее своего предшественника, но и, вероятно, превосходит его по богатству новых результатов. Непечатные материалы, к которым я обращался в максимально возможной степени, побудили и позволили мне внести ряд исправлений и новых записей в картину истории теологии, философии и догматики XII века. Выдающиеся богословы, до сих пор почти не известные по именам, выходят на первый план при освещении манускриптов. Здесь я имею в виду только Роберта из Мелена и парижских сумистов, группировавшихся вокруг Петра из Пуатье на пороге XIII века. Изучение всех печатных источников также выявило много новых точек зрения. Часто противоречивая оценка схоластических личностей и направлений со стороны историографии подтолкнула меня к формированию суждения, максимально соответствующего действительности, путем глубокого изучения источников и добросовестного взвешивания всех факторов, которые принимались во внимание. Предстояло также провести ряд историко-критических исследований, в частности, рассмотреть и решить вопросы подлинности.
Вы можете и, возможно, будете не согласны со мной по некоторым пунктам, но вам придется признать, что я подходил к спорным вопросам объективно и непредвзято и потратил много труда, чтобы разрешить их.
Кропотливые изыскания часто скрашивались для меня погружением в духовную жизнь тех привлекательных мыслителей XII века, в которых соединились и взаимопрониклись правдивый научный энтузиазм и мистическая внутренность. Богослов наших дней также может освежиться и воспрянуть духом благодаря богатому и славному внутреннему миру, например, Гуго Сен-Викторского.
Исключительно благосклонный прием, который первый том получил от критиков во всем мире, позволяет мне с уверенностью передать публике это продолжение. Если Господь сохранит мое здоровье и творческие силы, то третий том, подготовка к которому в основном завершена, не заставит себя ждать.
В работе над этим томом мне очень помогли библиотеки и коллеги-ученые. Я хотел бы поблагодарить директоров всех библиотек, которые предоставили мне рукописи или снабдили меня сведениями, прежде всего Королевскую придворную и государственную библиотеку в Мюнхене, Ватиканскую библиотеку в Риме, Амброзианскую библиотеку в Милане, Национальную библиотеку и Мазаринскую библиотеку в Париже, затем Королевские библиотеки в Бамберге и Берлине, Императорскую и Королевскую придворную библиотеку в Вене, университетские библиотеки в Базеле, Эрлангене и Инсбруке, библиотеки аббатств в Адмонте, Санкт-Галлене, Хайлигенкройце, Монтекассино и Святого Петра в Зальцбурге, Публичная библиотека в Брюгге и, наконец, королевская библиотека и библиотека семинарии в Айхштатте.
Особую благодарность я выражаю достойному директору Ватиканской библиотеки отцу Францу Эрле, который несколько раз фотографировал для меня рукописи. Доктор Акилле Ратти, префект Амброзианской библиотеки в Милане, также любезно предоставил мне фотографии рукописей.
Г-н П. Бонифац Стакемайер 0. S. B. в Монтекассино сделал для моей работы обширные выписки из рукописи (см. с. 305 и далее), а г-н П. Ландолин де Вильде O.F.M. в Кваракки скопировал значительную часть пролога к «Сентенциям Роберта Мелунского» из Кодекса 191 в Брюгге (см. с. 341 и далее). Я смог сделать несколько дополнений к нему во время моего пребывания в Брюгге в прошлом году. Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность этим двум ученым за их жертвенную поддержку моего исследования. Я также получил ценные сведения от профессора П. Я. де Геллинка в Левене, доктора Пельца в Риме и доктора Броммера в Бузенбахе близ Карлсруэ.
Мой дорогой друг, профессор королевской гимназии доктор Фридрих Дегенхарт, вновь разделил со мной бремя корректуры. Указателем лиц я обязан готовности городского капеллана господина Бенгеля в Монхайме.
Айхштетт, 8 августа 1911 г.
Автор.
Введение
Свидетельства XII века.
Развитие научной жизни эпохи можно понять на самом глубоком уровне, только если представить себе культурные движущие силы всего периода.
Как правило, успех в науке является признаком и доказательством того, что другие области культуры того или иного времени и той или иной нации также переживают подъем. Благоприятные внешние обстоятельства или события обычно служат достойным объяснением расцвета богатой интеллектуальной жизни в определенное время. Поэтому целесообразно вкратце обрисовать исторический фон, на котором выделяется развитие схоластического метода со смерти Ансельма Кентерберийского до первой трети XVIII века, – историческую сцену, по которой в основном двигалась схоластика XII века. В сущности, Ансельм Кентерберийский, чей могучий мыслитель в последнем разделе первого тома вел нас от времен предсхоластики к собственно схоластике, уже вел дело своей ученой жизни в обстоятельствах и условиях, которые также повлияли на развитие схоластики, о которой пойдет речь в этом томе. В последние десятилетия XI века борьба Григория VII за церковную свободу, за моральное и интеллектуальное возвышение духовенства имела благоприятные последствия, начав эпоху идеального подъема и пламенного религиозного энтузиазма.1 Мощная тоска по вечному и божественному охватила дух. Этот религиозный пыл нашел свое всемирно-историческое выражение в Первом крестовом походе.
Этот идейный импульс, властно охвативший в то время христианские народы, вызвавший к жизни крестовые походы и христианское рыцарство, привел также к обнадеживающему ренессансу научной жизни. Под девизом «Fides quaerens intellectum» Ансельм Кентерберийский основал собственно схоластику, рыцарство разума, которое должно было завоевать святую землю божественных тайн щитом веры и мечом спекулятивной мысли. Крестовые походы повлияли на ход развития, поскольку привели европейские народы в соприкосновение с греческой и арабской культурой и литературой. В результате в интеллектуальной жизни Запада появилось множество новых научных материалов и вдохновения2.
Пробудившееся к концу XI века интеллектуальное движение и обновление охватило, в частности, Францию, родину крестоносной идеи, и именно в этой стране оно получило наибольшее развитие в XII веке. Поэтому вполне понятно, что именно через французский климат в XII веке устремился вперед поток схоластических спекуляций. Как отмечает А. Эрхард,3 Франция стала «главным театром научной теологии, начиная с XII века». Это интеллектуальное превосходство Франции объясняется разными причинами4. Во-первых, церковная реформа и подъем религиозной жизни были впервые поддержаны во Франции движением клюнийцев5.
Кроме того, внутренняя церковная жизнь Франции не была затруднена церковно-политической борьбой, которая не угасла в немецких землях даже после окончания Спора об инвеституре и вновь разгорелась при Фридрихе Барбароссе. В конце концов, во Франции еще не были забыты научные традиции эпохи Каролингов. Соборные и монастырские школы увековечили память о более ранних культурных эпохах.
Интеллектуальный ренессанс» Франции в XII веке проявился в самых разных областях культуры и церковной жизни6.
Ренессанс XIV и XV веков, возрождение классической античности в эпоху гуманизма, напоминает нам о подъеме латинской поэзии и гуманистических начинаний в целом. Гильдеберт Лавардинский (около 1133 г.), как правило, считается одним из самых совершенных латинских поэтов Средневековья7. Церковное красноречие также процветало во Франции в XII веке. Бурген, с которым согласен и Лекой де ла Марш, считает, что XII век стал высшей точкой французского кафедрального красноречия8. В это время Франция также открыла новые горизонты в развитии христианского искусства. Интересно совпадение, что готический стиль, который так часто сравнивают со схоластикой и называют каменной схоластикой, возник именно в регионе Иль-де-Фра́нс. Одновременно с написанием богословских афоризмов и сумм, главным образом в Париже, и детальной проработкой схоластического метода преподавания и изложения, во Франции также в значительной степени строились готические соборы9.
Таким образом, во Франции в XII веке развернулась насыщенная интеллектуальная жизнь, обеспечившая стране гегемонию в схоластике. Расцвет схоластики во Франции, в частности, является выражением и следствием общего культурного подъема.
Описав среду, в которой развивалась схоластика в XII – начале XIII века, мы должны также несколькими штрихами обрисовать физиономию этого схоластического периода и кратко оценить его значение для схоластики в целом. Это в высшей степени значительный, весьма интересный, но и очень сложный период.
Схоластика XII и начала XIII веков имеет огромное значение для развития схоластики в целом, поскольку в ней заложена основа и подготовка высокой схоластики. В эпоху св. Фомы Аквинского схоластика предстает перед нами как нечто ставшее, развившееся, методологически завершенное. XII век и первые десятилетия XIII века – это время основания доктрины и метода высокой схоластики, время становления и развития, поиска и испытания. В эту эпоху в значительной степени был подготовлен систематический труд высокой схоластики. Афоризмы и суммы XII века заложили контуры богословской доктринальной структуры и представили ее высокой схоластике. «Корни системы теологии, которая великолепно развилась в XIII веке, лежат в XII веке, и все суммы теологии, которых было немало не только до Александра Аленсиса, но и до и во времена Петра Ломбарда, и большинство из которых до сих пор можно найти в рукописном виде в библиотеках, прямо или косвенно указывают на Париж».10 В XII веке также развивается внешний схоластический метод преподавания и изложения в сочетании с техникой диспутов. В этом же веке утверждается научный идеал «Fides quaerens intellectum», с установлением и гениальным воплощением которого Ансельм в часто трудных обстоятельствах открыл собственно схоластику и передал ее будущим временам. В частности, достижением этой эпохи является то, что расширенные знания аристотелевской логики были поставлены на службу этой схоластической программе. XII век стал основополагающим и для аристотелизма высокой схоластики. Публикация всего «Органона» мощно стимулировала энтузиазм к Аристотелю, хотя преимущественно платоновско-августиновский характер рассуждений оставался нетронутым. Восприятие аристотелевской логики как формального канона для преподавания и письма стало предпосылкой для восприятия аристотелевской метафизики, физики, психологии, этики и т. д. для разработки и построения содержания схоластической доктрины.
Хотя к концу XII века эти труды стагиритов постепенно привлекли внимание схоластики и мощно захватили ищущие истину умы, еще предстояло преодолеть множество препятствий, развеять множество предрассудков и проделать большую интеллектуальную работу, прежде чем реальное использование содержания и радикальное влияние этой литературы на схоластику стало реальностью.
Как бы то ни было, «Действия Аристотеля» 11уже в XII веке сделали значительные и зарождающиеся заявления. Наконец, чтобы затронуть последний момент, имеющий принципиальное значение для последующего периода, следует отметить, что этот век был временем серьезной борьбы за логически и теологически правильную терминологию, и именно в этом вопросе высокая схоластика была сильно продвинута вперед.
Систематическое изучение большинства ненапечатанных афоризмов и сумм этой эпохи может дать значительные результаты с точки зрения истории догматики для развития богословского языка.
Таким образом, XII век во многих отношениях предстает как подготовка и основание высокой схоластики. Научный труд и метод работы Аквинского понимается и оценивается во всей его значимости и уникальности, когда он представляется в свете сравнительно-аналитического исторического подхода как кульминация богатой, более ранней интеллектуальной работы, зачастую выполненной независимой рукой.
Во многих отношениях XII век также является интересным периодом, приковывающим к себе исторический взгляд. Наука и интеллектуальная культура этого периода демонстрирует, прежде всего, большее разнообразие, чем развитая схоластика. Гуманистические тенденции более раннего времени, духовная и светская латинская поэзия, грамматические и диалектические сочинения, проявления научных наклонностей, обилие библейских комментариев, богословских афоризмов и сумм, памфлетов и квестов, Дошедшая до нас переписка многих ученых, обширная литература проповедей, канонических сборников и изложений, наконец, проникновенный и содержательный латинский мистицизм – все эти и другие формы интеллектуальной жизни и деятельности составляют общую литературную картину XII века в новом и разнообразном виде. Общая литературная картина XII века отличается свежестью и разнообразием красок12.
В сочинениях этого периода также, несомненно, больше индивидуальности и субъективного настроения. Даже разнообразные надписи на книгах, часто заимствованные из греческого языка, предисловия и посвящения, которые мы часто встречаем, придают ранней схоластике более личный акцент, чем мы видим в более теоретически и строго фактологически ориентированной высокой схоластике. Кроме того, переходные и подготовительные периоды, брожение и борьба дают много психологических стимулов для генетического взгляда на историю, чего не дает проясненная и закрытая эпоха. Наконец, исследователь, работающий с рукописным материалом, испытает в рукописях XII века много радостных сюрпризов с точки зрения палеографии, а также художественной эстетики, радостей, которые реже даются при чтении тесно написанных рукописей францисканских и доминиканских богословов последующих веков, изобилующих аббревиатурами.
Наконец, XII и начало XIII веков также были сложным периодом. Периоды развития и постепенного созревания, когда зачастую незавершенные направления еще противоречат друг другу, когда еще не установилось единство и определенность научных методов и доктрин, – такие периоды ставят множество загадок перед исследователем, следящим за ходом и факторами развития, и вызывают большие трудности, особенно для изложения, стремящегося к ясности и понятности. «Живая интеллектуальная деятельность XII века, – замечает Дж. А. Эндрес,13 – «не связаны никакими объединяющими узами, не поддерживаются никакой общей великой проблемой.»..
XII веку, как бы ярко он ни упражнял и ни закалял свои силы в многообразных задачах, не хватало великой проблемы, которая привела бы к более общему использованию и глубокому возбуждению умов, которая объединила бы их своей значимостью и в то же время разделила бы их в зависимости от выбора позиции». С философской точки зрения это, несомненно, верно. Проблема универсалий не могла стать большим основанием для единства и точки согласия между философствующими умами, тем более что она была задумана с преимущественно диалектической точки зрения.
I. Общая часть Общие факторы и точки зрения в развитии схоластического метода в XII и начале XIII века
Первая глава. Развитие высшего образования
§1. Постепенная централизация высшего образования в Париже
Вероятно, самой решающей причиной подъема схоластики во Франции в XII веке и расцвета развитой схоластики в XIII веке, мощным фактором дальнейшего развития и окончательного закрепления схоластического метода, было развитие школ во Франции, развитие, которое привело к постепенной централизации академического преподавания в столице Франции и, наконец, к созданию и организации Парижского университета, этого центра схоластических исследований. 14Развитие академической жизни шло рука об руку с развитием школ. В те времена школа была единственным путем к высшему образованию. Чтобы заниматься наукой, нужно было сидеть у ног учителя.
Схоластическая литература – это отчасти письменная фиксация устного преподавания искусств или теологии, но она также тесно связана со школьной жизнью. Сколько схоластических сочинений было написано по просьбе учеников!
Например, предисловия к «Introductio ad theologiam» Абеляра, к «De sacramentis christianae fidei» Гуго Сен-Виктора, к «Сентенциям» Петра Ломбардского, предисловие Жильбера де ла Порри к его объяснению теологических трудов Боэция, сохранившееся в нескольких рукописях, и т. д. указывают на подобные предложения из студенческих кругов. Тесная связь между школой и развитием схоластики выражается, особенно в XII веке, в том, что родство школ почти без исключения является также родством методов и доктрин.
Подробный рассказ о развитии схоластических школ в XII веке вплоть до возникновения Парижского университета выходит за рамки нашего исследования. Мы должны рассмотреть систему преподавания лишь постольку, поскольку это необходимо и полезно для исторического понимания схоластического метода.15
Во второй половине X века французские школы уже пользовались большой репутацией. Так, около 1087 года знаменитый странствующий проповедник Роберт Арбриссельский покинул родную Бретань и отправился во Францию, поскольку, как он сам сообщал, тамошние ученые школы процветали16. В начале и в первой половине XII века Франция была усеяна соборными и монастырскими школами, в которых часто преподавали известные люди. На ум приходят соборные школы Анжера, Реймса, Камбрэ, Буржа, Тура и особенно Шартра. Орлеан был местом, где изучали античную классику, auctores, а медицину преподавали в Монпелье. Вероятно, самой популярной соборной школой в начале XII века была школа в Лаоне, где братья Ансельм и Радульф преподавали теологию в консервативном духе. Монастырские школы не играли той же роли, что епископальные, в развитии схоластики в XII веке.
Неприятие диалектики и светской учености, которое уже было широко распространено в монашеских кругах в XI веке, сохранялось во многих из этих школ. К числу важных монастырских школ относятся школы Бека, где традиции Ланфранка и святого Ансельма не угасли так быстро, святого Винсента в Меце, Клюни и, прежде всего, святого Виктора в Париже.
В течение XII века среди ученых школ Франции парижские заметно выросли по престижу и значимости учителей, по количеству учеников и по прогрессу доктрины и метода17. Уважаемые учителя появлялись в Париже уже с X века. В последней четверти XI века эльзасец Манегольд фон Лаутенбах, должно быть, работал здесь в качестве странствующего учителя. Однако постоянные школы появились в столице Франции только в начале XII века. На пороге этого светского периода мы встречаем Вильгельма из Шампо, который собирал вокруг себя учеников на острове Сена. Вступив в аббатство Сен-Виктор, он основал школу Сен-Виктор. Вероятно, после возведения Вильгельма из Шампо в сан епископа Шелонского она перестала быть государственной школой. Как монастырская школа она некоторое время пользовалась высокой репутацией благодаря своим выдающимся учителям, чьи труды увековечили имя святого Виктора. После смерти этих знаменитых магистров в Сен-Викторском монастыре больше не работали важные учителя. Парижская система образования XII века нашла свое пристанище и на Геновефе, который в то время находился за чертой города. Абеляр основал школу на Геновефе против Вильгельма из Шампо, а также преподавал в аббатстве Святой Геновефы. На Генувефаберге он заложил основы школы, которая была широко известна в течение нескольких десятилетий благодаря диалектическим диспутам художников. Примерно до 1147 или 1148 года, согласно свидетельствам
Иоанн Солсберийский18 scholae artistarum. Эрнальдус Брешианский основал еще одну школу в Геновефе.
В 1147—1148 годах папа Евгений III реформировал аббатство Геновефа и передал его регулярным каноникам Святого Виктора. В Геновефе продолжала действовать монастырская богословская школа, в которой также обучались англичане и датчане, а также внешняя школа.
Во второй половине XII века художники в основном преподавали в Парвусе Понс, откуда и пошло название Парвипонтани. В целом высшее образование постепенно концентрировалось на острове. К концу XII века большинство магистров и схолариев жили на острове под юрисдикцией канцлера Нотр-Дама, который выдавал «лицензию доцента». Парижский университет был основан около 1200 года на основе объединения магистров всех дисциплин, читавших лекции на острове.19 Сен-Виктор и Женовефа не рассматриваются для создания университета. Привилегия неприкосновенности, предоставленная магистратам и ученым королем Филиппом Августом в 1200 году, способствовала укреплению репутации вновь созданного университета. Так родился Парижский университет, «центр интеллектуальной жизни Средневековья.20 В конце этого тома многочисленные богословы, которые преподавали или учились на рубеже веков, расскажут нам о расцвете новообразованной метрополии знаний как творческие авторы в основном неопубликованных афоризмов, сумм или вопросов.
Централизация академического преподавания в Париже, которая в конечном итоге привела к объединению парижских школ в Парижский университет, вероятно, привела к упадку других французских школ, но также имела уникальный успех, привлекая в парижские школы в XII веке ученых, жаждущих учиться, из всех культурных стран того времени. Это международное значение «Studium Parisiense» приобрело еще большие масштабы в XIII веке с прогрессивным развитием Парижского университета.
Пройти обучение в Париже считалось высокой честью в Германии, Италии, Англии и даже в Скандинавии.21
§2 Виды высшего образования. Lectio и disputatio. Сентенции и суммы
До начала XIII века термин scholae использовался почти исключительно для обозначения учебного заведения, а также школьных помещений. В XIII веке для обозначения университетов стали использовать название Studium, Studium generale23. Почетный титул преподавателя в школах – тот, кто преподает в школах и покинул их, – магистр, титул, который сохраняется даже после отказа от профессорского звания. Святой Бернар из Клерво также использовал этот титул для кардиналов и епископов, которые ранее занимали преподавательскую кафедру24. Термин «ученики» – scholares. Слово scholasticus все еще используется в XII веке в двойном значении – учитель и ученик25.
Двумя основными функциями преподавания схоластики в XII веке были lectio и disputatio. Гуго из Сен-Виктор еще не упоминает disputatio и добавляет к lectio meditatio, которую следует понимать как самостоятельное проникновение ученика в суть предмета с этико-религиозным оттенком26. Иоанн Солсберийский сопоставляет lectio, doctrina и meditatio как три формы и способа получения знания. Lectio, которую Иоанн Солсберийский также называет praelectio, ссылаясь на Квинтилиана, относится к объяснению магистром письменного текста. В учебной дисциплине этот учебно-методический материал становится интеллектуальной собственностью ученика и органично связан с его предыдущими знаниями. Meditatio подразумевает более глубокое самостоятельное проникновение в глубины истины. Четвертый аспект, упомянутый Иоанном Солсберийским в дополнение к lectio, doctrina и meditatio: assiduitas operis, призван подчеркнуть важность практической христианской нравственной жизни для приобретения науки27. Функция магистра в lectio характеризуется термином «legere alicui seil, auetorem» (donatum etc.), функция ученика – термином «legere ab aliquo seil, auetorem». Частное чтение книги, отдельное от уроков, выражается словами «legere auetorem» (Aristotelem и др.).28 То, как магистр проводил свои лекции, можно достаточно хорошо восстановить по глоссам XII века на Священное Писание, «Исагоге» Порфирия и другим философским текстам. Магистр, преподававший artes liberales, разбирал и объяснял соответствующий учебник грамматики, диалектики и т. д., сначала обсуждая во введении название книги, причину ее составления, содержание, намерения автора, ее преимущества для читателя, ее место в организме науки, а затем объясняя сам текст предложение за предложением, слово за словом29. Аналогичным образом действовал и преподаватель теологии, объяснявший Священное Писание, divina scriptura, divina pagina или divinitas. Части комментариев XII века к Святому Павлу, отредактированные Денифлем30, служат ценным доказательством этого. Книга Священного Писания, о которой идет речь, указывается во введении, а затем объясняется текст, который обсуждается слово в слово.
Гуго фон Сент-Виктор выделяет три уровня, по которым должно восходить объяснение Писания: littera, sensus, sententia.
littera – это грамматический смысл, sensus – ближайший смысл, sententia – более глубокий смысл слов Писания31. В прологе к «Сентенциям» Роберта Мелунского мы находим искреннюю защиту sententia над внешней теологией глосс. В предисловии к своему комментарию к Боэцию, сохранившемуся в некоторых рукописях, Жильбер де ла Порри сначала противопоставляет auctores, которые излагают собственное чувство, и lectores, которые развивают чужое чувство. Он снова делит лекторов на речитаторов, которые механически пересказывают слова автора без более глубокого проникновения, и толкователей, которые занимаются освещением и исследованием сложных текстов.32
В «Лекциях о Священном Писании» первой и отчасти второй половины XII века – еще одним представителем этого направления является Петрус Кантор (†1197) – почти на всем протяжении предлагается равномерное непрерывное изложение священных текстов. В подстрочных глоссах речь идет в основном о littera и sensus, в то время как маргинальные глоссы больше посвящены sententia33. Однако уже к середине XII века влияние диалектики на богословское учение стало очевидным. Комментарий Роберта Мелунского к Паулинам озаглавлен так: «Questiones de epistolis Pauli a magistro Roberto de Miludino enodate». Отдельные, более трудные тексты выделяются и обсуждаются с диалектической точки зрения quaestio (quaeritur и т. д.). Зачатки этой процедуры можно найти уже у Абеляра, Петра Ломбардского и других.34 К концу XII века объяснение Священного Писания полностью перемежается со схоластическими вопросами.
Имя Роберта Мелунского подводит нас ко второй форме и функции ученого преподавания в XII веке – диспуту (disputatio). В конце концов, именно он положил начало «Диспутам» и «Кводлибетам», достаточно законченный тип которых мы встретим у Симона Турнейского в конце этого тома. У Петра Абеляра нам предстоит обсудить disputatio в ее связи с методом sic-et-non. Сейчас мы должны рассматривать диспут как школьное упражнение XII века, оставив его дальнейшее развитие в XIII веке для третьего тома.
Мы уже сталкивались с ars disputandi в патристике и досхоластике. Метод выдвижения и разрешения возражений был уже знаком греческой философии, особенно Аристотелю, и мы также встречаем его в эллинистической филологии и патристической литературе апорий35. В частности, аристотелевский способ стремления к достоверным научным результатам с помощью вопросов и трудностей был развит в неоплатонизме и греческими философами-аристотеликами. В первом томе мы упоминали о подражании этой научной технике греческими патристиками VI и VII веков36.
Формальными богословскими диспутами, в которых аристотелевская логика была, безусловно, полезным средством ориентации, были религиозные дискуссии, организованные Юстинианом Великим между католиками и северианцами, в которых принимал участие и Леонтий Византийский, а позднее – христианско-мусульманская полемика, в той мере, в какой она происходила в устной форме. В сочинениях Теодора Абу Курры, которого Г. Граф37 справедливо называет «схоластиком в лучшем смысле этого слова», мы сталкиваемся с большим знакомством со всеми приемами техники ведения диспута, предусмотренными аристотелевской логикой, прежде всего с темами. В школах Запада ars disputandi, безусловно, играли определенную роль, особенно в преподавании грамматики и диалектики.
В «Диалектике» XI века из Мюнхенской рукописи (Clm 14 401, fol. 154—169) о ней говорится, что она «per disputandi regulam intellectum mentis acuit»38 и что она, кроме того, действует в disputandi efficacia quattuor hec: Proponit, ädsumit, confirmat testimoniis atque concludit.39 Таким образом, здесь уже дана формальная схема процедуры диспута.40 Конечно, все эти функции ars disputandi могли быть реализованы только в устном выступлении и в литературной деятельности преподавателя диалектики, поскольку в этой схеме не возникает противопоставления защитника и оппонента.
Но именно версия этой «Мюнхенской диалектики» и других параллельных сочинений в форме диалога между учителем и учеником заставляет нас предположить, что речь и контрречь между учителем и учеником происходили и в классе. Отсюда почти очевиден шаг к спорным упражнениям. Кстати, у нас есть и внешние свидетельства того, что диспуты проводились и в досхоластические времена. В соборной школе Хильдесхайма есть свидетельства проведения таких диспутов уже в X – XI веках.41
Ансельм Кентерберийский 42говорит о диспутном упражнении в конце своего диалога «De grammatico». Абеляр 43в своей «Historia calamitatum» сообщает о том, как в годы обучения он оказался «выше в диспуте» Вильгельма из Шампо. Из всего этого можно сделать вывод, что в школах диалектики еще до XII века и в начале нынешнего столетия проводились занятия, представляющие собой по крайней мере элементарные формы и зачатки более позднего схоластического метода ведения диспута.
В богословских школах диалектический подход приобретает все большее значение. Мы можем даже обнаружить эти влияния в немалой степени в литературе сентенций и квесторий, возникших в позитивно и консервативно ориентированных школах Вильгельма из Шампо и Ансельма Лаонского.
Однако в первой половине XII века нельзя говорить о диспуте как о форме и функции богословского преподавания, отличной от lectio.
Гуго Сен-Виктор также не упоминает disputatio как отдельное школьное упражнение44. Позже, когда речь пойдет о методе sicet-non Абеляра, мы покажем, что перенос disputatio в область теологии не может быть объяснен влиянием этого метода.
Начало расцвета, фактическое утверждение метода диспута на философской почве, а затем и его использование в целях богословского обучения связано с появлением в западной схоластике аристотелевской аналитики, топики и софистики. Главным свидетелем этого факта является Иоанн Солсберийский45. В одном из мест своего «Металогикуса» он дает следующее определение диспута: «Est autem disputare aliquod eorum, quae dubia sunt, aut in contradictione posita, aut quae sie vel sie proponuntur, ratione supposita, probare vel improbare; quod quidem quisquis ex arte probabiliter facit, ad dialectici pertingit metam»46. Последняя часть этого определения, в частности, содержит ссылку на аристотелевские темы. В другом месте той же работы Иоанн Солсберийский подробно объясняет значение восьмой книги «Топики» Аристотеля для техники ведения диспута и подчеркивает, что в этой книге обсуждаются ex professo законы и правила ведения диспута и что изложенные в ней инструкции, если их тщательно усвоить и применять на практике, знакомят читателя с искусством ведения диспута гораздо эффективнее, чем труды более поздних диалектиков. Действительно, святой Иоанн Солсберийский47 может сказать: «Nam sine eo (sc. 1. 8 Topieofum) non disputatur arte, sed casu». В западной схоластике XII века метод ведения диспутов в регулярных формах и по стереотипной схеме был лишь плодом известности «Новой логики», особенно восьмой книги «Топики» Аристотеля.
В этой подробной главе «De utilitate oetavi» (sc. Topicorum)48 наш докладчик подробно останавливается на природе диспута, роли оппонента и защитника, перемежает несколько цитат из Аристотеля и подчеркивает полезность диспута для отдельных научных дисциплин. Ближе к концу главы он также обсуждает применение disputatio в теологии, хотя и очень сдержанно, если не сказать пренебрежительно.
После середины XII века метод disputatio, доведенный до определенной дидактической формы под влиянием вновь открытых частей «Органона» Аристотеля, повсеместно проникает в теологические аудитории. Как мы можем заключить из его «Вопросов к божественной странице», Роберт Мелунский уже инициировал и способствовал внедрению диспута в теологию. В своем «Восхвалении* Александру III» Иоанн Корнуольский1 может отметить в отношении своих учителей Роберта Мелунского и Мориса де Сюлли: «Multis eorum lectionibus et disputationibus interfui». 49Мы видим здесь сочетание lectio и disputatio как двух форм теологического обучения. В своем «Verbum abbreviatum» Петрус Кантор 50(†1197) признает disputatio наряду с lectio в качестве деятельности богословского преподавания. В последние десятилетия XII века метод диспутов стал общепринятым в теологических лекториях Парижа. «Quaestiones de quolibet», характерный тип которых мы встречаем у Симона Турнейского на рубеже веков, также стали литературным выражением упражнений в богословских диспутах.
Библейские флоры» неизвестного магистра Радульфуса, сохранившиеся в мюнхенской рукописи: Clm 686 (p. XII – XIII), лл. 100—114, дают нам представление о технике богословских диспутов в конце XII века.
Библейские темы здесь рассматриваются диалектически. Даются формальные указания, как парировать любые возражения, что говорить, если оппонент говорит «да», какой ход делать, если он говорит «нет».
Ближе к концу этих «Flores bibliei» автор дает определения доктрине, scientia, Studium, diffinitio, а также обращается к disputatio следующим образом: «Disputatio est rationis inductio ad aliquid probandum vel contradicendum. In omni autem disputatione legitima convenit esse interrogationem, responsionem, propositionem, affirmationem, negationem, argumenta, argumentationem et conclusiones. Que omnia deo annuente loco suo secundum doctrinam aristotelis explicabimus.»51 Выражение «disputatio legitima» следует отметить особо; это регулярный спор, который следует определенному образцу, «disputatio in forma», как обычно называют спор, протекающий в строго силлогистической манере, в отличие от «disputatio extra formam», аргументированной речи, которая движется в более свободных формах. Такое «disputatio in forma» стало возможным и реальным в западной схоластике с тех пор, как стали известны аристотелевские «Аналекты»52, «Топики» и «Софистика», поскольку только в этих трудах стал доступен весь аппарат аристотелевской силлогистики. Кроме того, следует отметить, что схема «disputatio legitimau», приведенная Радульфусом, гораздо богаче той, которую мы привели выше из «Dialectiea» Clm 14401 (p. XI). Наконец, Радульфус ссылается на «Учение» Аристотеля как на основной источник по технике ведения диспутов. При обсуждении афоризмов и сумм, зависящих от Петра из Пуатье около 1200 года, у нас также будет много возможностей распознать рефлексию диспутного метода в богословской литературе.
То, что метод диспутов, облеченный в искусную форму, уже в XII веке захватил умы учителей и учеников и приобрел такое большое значение в преподавании, несомненно, объясняется также внутренней ценностью и природой этих экзерсисов. Эти диспуты давали большие преимущества; они вызывали остроту ума, быстроту ума и красноречие, приводили к быстрому и острому пониманию и изучению чужих мыслей, к разбору истины и ошибки даже в последних разветвлениях, к использованию точной, логически правильной формы выражения. Диспуты также были очень привлекательны для преподавателей и студентов. Они обеспечивали постоянное сближение между мастером и учениками, разжигали честолюбие молодых людей и до предела напрягали их интеллектуальную энергию. Именно в диспуте личные способности ученика наиболее ярко проявлялись и обнародовались53. Диспуты также имели определенный драматический интерес. Они были своего рода турниром, состязанием и дуэлью с оружием разума. Повороты этой борьбы, постепенное развитие и запутывание проблемы, сменяющие друг друга возражения и решения, вопросы и ответы, различия и отрицания, софизмы и ловушки, в которые хотелось заманить противника, – все эти и другие моменты позволяли держать в напряжении ожидание и интерес участников и зрителей таких диспутов54.
Метод disputatio приобрел еще большее значение в XIII веке, в эпоху высокой схоластики. Использование и оценка disputatio в эту эпоху относится к третьему тому нашей истории схоластического метода.
В связи с объяснением терминов «lectio» и «disputatio» следует пояснить два термина, которые относятся скорее к богословской литературе, чем к богословской школе, а именно два термина – sententiae и sums.
Термин «sententia», «sententiae» уже был известен ранней схоластике по патристическим образцам, по афоризмам Проспера Аквитанского, Исидора Севильского и Самуила Таюса Сарагосского55. Дюканж56 признает только два значения слова «sententia» в средневековой латыни, а именно «compendiaria rei alieuius expositio» и «sententia iudiciorum». В ранней схоластике sententia часто означало также глубокий смысл Священного Писания. Так, Гуго из Сен-Викторского проводит параллель между littera, sensus, sententia57.
В прологе к своим «Сентенциям» Роберт Мелунский говорит: «Quid enim aliud in lectura queritur quam textus intelligentia, que sententia nominatur? 58Гизелер 59ошибочно понимал названия теологических книг как Sententiae в смысле церковных догм. В отличие от него Денифле 60доказал, что sententiae в данном контексте «ни в коем случае не означают церковные догмы», но прежде всего «изречения», «тезисы», «вопросы», «трактаты, взятые у святых отцов, церковных учителей и сборников канонов». Еще до Денифле А. Франклин 61аналогичным образом описывал произведения sententiae как сборники изречений и мыслей, извлеченных из Священного Писания и Отцов и классифицированных по методологическим аспектам. Для своего определения Sententiae Денифл справедливо ссылается на названия таких сочинений в рукописях, например, «Sententie a magistro untolfo coliecte» или «Sententie Augustini a magistro anshelmo coniuncte», а также на обозначение Петра Ломбарда как Collector Sententiarum и т. д. Особенно убедительным доказательством, на которое впервые указал Ж. де Геллинк,62 является следующее замечание из сборника сентенций, написанного между 1121 и 1141 годами: «Ut ex diversis praeceptis et doctrinis Patrum excerperem et in unum colligerem eos flores quos solemus, quasi singulari nomine, sententias appellare» 63Здесь мы имеем формальное определение сентенций коллекционером сентенций первой половины XII века.
Кроме того, это замечание указывает на связь между sententiae и более ранними и отчасти еще современными патристическими flores, deflorationes, florilegia.64 Здесь также следует отметить, что термин γνωμαι также широко использовался в византийском богословии как название сборников предложений.65
Упомянутая выше трактовка sententia как глубинного смысла письма неоднократно встречается и в названиях сборников положений. В частности, речь идет о надписях «Sententie divinitatis» и «Sententie divine pagine», с которыми мы столкнемся в ходе работы над этим томом. Термины divinitas и divina pagina относятся к Священному Писанию. Такие названия в первую очередь выражают цель подобных произведений афоризмов, тогда как sententiae в обычном смысле, установленном Денифлем, должны обозначать в первую очередь материал таких произведений.
Цель этих сборников sententiae, как позже ясно скажет нам пролог к «Сентенциям Роберта Мелунского», – методическое введение в «intelligentia sacre seripture».
Первоначальный смысл термина Sententiae уже не был столь очевиден в высокой схоластике. В своем Expositio к Прологу Ломбарда Альберт Великий ссылается на определение Авиценны: «Sententia est conceptio definita et certissima» и на определение в «Liber diffinitionum*» Исаака Израильского: «Sententia est conceptio alterius partis contradictionis».
С термином sententiae связан термин summa, который обозначает краткий, систематический, более независимый пересмотр и обобщение совокупности знаний. Роберт фон Мелун дает следующее определение: «Quid enim summa est? Nonnisi singulorum brevis comprehensio».66 Уже Гонорий Августодунский дал своей всемирной хронике название «Summa totius». 67Абэлард пишет в предисловии к своему Introductio: «Aliquam sacrae eruditionis Summam, quasi divinae scripturae introductionem conscripsimus». 68Тот же автор также говорит о «Summa nostrae dialecticae textus». Гуго из Сен-Виктор также описывает свой главный труд «De sacramentis christianae fidei» как «краткое изложение всего, что есть.69
Если «Сентенции» оставались почти исключительно названием богословско-догматических книг, то в XII веке и даже позже «Сумма» стала техническим термином для кратких изложений, справочников и т. д. самых разных дисциплин: для алфавитных библейских энциклопедий (напр. Summa Abel Петра Кантора, Summa Britonis Adams святого Виктора), для морально-аскетических сочинений (Summae de vitiis et virtutibus), для популярных катехизических изложений истин веры (Summa de articulis fidei), для сборников проповедей (Summa sermonum) и для теории кафедрального красноречия (напр. B. Summa de arte praedicatoria Алануса де Инсулиса), для сборников конфессиональной казуистики (Summae casuum conscientiae, Summae de poenitentia, Summae confessorum), для апологетико-полемических сочинений (Summa contra Catharos et Waldenses Монета), для грамматической и диалектической литературы (Summa grammaticalis, Summae и Summulae logicales), для литургических сочинений (Summa de divinis officiis) и т. д. Учебники по Ars dictandi и Ars notariae (эпистолярный стиль и нотариальное искусство) также обозначались термином «Сумма» (например, Summa dictaminis Фомы Капуанского, Summa artis notariae Роландина де Пассегьери). Слово «Сумма» особенно часто использовалось для канонических произведений, особенно для независимых адаптаций декрета Грациана70. Для систематических догматических сочинений «Sententiae» оставалось более распространенным названием до конца XII века. Около 1200 года термин «Сумма» стал использоваться для обозначения систематического изложения спекулятивного богословия, особенно в кругу ученых, следовавших за Петром из Пуатье. В сочинениях Петра Капуанского, Препозитина и других в начале рукописей стоит термин «Сумма». Термины «Summa», «Summa theologica», «Summa in theologia», «Summa super libris Sententiarum», «Summa de questionibus theologicis», «Summa theologice discipline» теперь появляются в инципитах и экспликациях рукописей. В XIII веке название «Сумма» стало общим для монументальных систематических сводок спекулятивного богословия.
Стоит отметить, что название «Сумма» (kullun) было распространено и в арабской философии для краткого изложения философских трактатов. Например, «Метафизика» Авиценны озаглавлена так: «Четвертая сумма книги о восстановлении души.71
§3 «Quaestiones» Odo von Ourscamp – картина теологического учения XII века
Опубликованные кардиналом Питра «Вопросы» Odo von Ourscamp 72дают нам представление о богословской школе после середины XII века. Это, несомненно, литературное воспроизведение серии теологических уроков, которое прежде всего проливает свет на влияние диалектики на богословское мышление и преподавание, значительно обогатившееся после публикации всего «Органона». Одо из Урскампа, уроженец епархии Суассона (поэтому его также называют Одо Суассонский), был учеником Ансельма Лаонского, Петра Абеляра и других выдающихся магистров, затем работал преподавателем теологии в Париже, где был также каноником. После того как он был аббатом цистерцианского монастыря Урскамп в 1.167—1170 годах, в 1170 году папа Александр III назначил его кардиналом-епископом Фраскати, в качестве которого он умер в 1171 году. Он также сыграл определенную роль в теологических связях Абеляра и Жильбера де ла Порри, пользовался большим уважением Евгения III и состоял в переписке со святой Хильдегардой и святым Томасом Бекетом, архиепископом Кентерберийским. В «Пролегоменах» к своему изданию Питра отмечает, что он долгое время тщетно искал исходный текст, который бы четко отражал схоластический метод преподавания богословия, и он рад, что нашел в этих «Вопросах» разновидность метода преподавания богословия второй половины XII века. В этих «Quaestiones» Одо Суассиенсиса перед нами открывается своего рода теологический лекторий. Магистр восседает на кафедре и побуждает студентов к возражениям, помогает сформулировать возражения, уверенно руководит ходом дискуссии и, наконец, выносит окончательное решение.
Мастеру не терпится услышать от учеников о трудностях73. Порой дискуссия принимает довольно изощренную форму. В один момент магистр отказывается решать сложный вопрос о симонии, в другой – ссылается на декретистов и даже отменяет собрание и переносит его на другой день. Очевидно, что мы имеем дело со стенограммой ученика, которая дает нам яркое, правдивое представление о теологических занятиях и дискуссиях, проводимых магистром Одо из Оурскампа. В этих «Quaestiones» постоянно ссылаются на авторитет мастера. Питра утверждает, что, в зависимости от фактов и контекста, здесь следует различать двух магистров: магистра Петра Ломбардского и нашего магистра Одо Суцессионского74.
Содержание этих «Quaestiones» очень разнообразно. Без систематического расположения, как и в более поздних «Quaestiones quodlibetales», обсуждаются вопросы о Троице, христологии, предопределении, свободе воли, первородном грехе, литургических вопросах, Евхаристии и покаянии и т. д. Первая часть этих «Quaestiones», которую Питра напечатал лишь частично, все еще имеет мало диалектического характера; auctoritates резюмируются по конкретному богословскому вопросу. В определенной степени эта первая часть все еще представляет собой старый метод Ансельма Лаонского и других, сосредоточенный в основном на auctoritas. Вторая часть, текст которой Питр опубликовал полностью, в своих 334 главах представляет диалектическое рассмотрение богословских вопросов, как это постепенно стало принято во второй половине XII века под влиянием диалектического метода Абеляра sie-et-non и, в частности, под влиянием аристотелевской аналитики, топики и софистики. Нетрудно распознать влияние «новой логии», а именно топики и софистики, в этих «Quaestiones» и сильный подход к регулярному теологическому диспуту.
Вторая глава. Непечатные научные классификации и научные доктрины
§1. Значение философско-богословской классификации и вводной литературы
Система высшего образования XII и начала XIII в. прекрасно иллюстрируется дошедшими до нас научными классификациями и научными доктринами этого периода. Объем и расположение преподаваемых предметов, особенно в области профанного знания, представлены здесь в виде энциклопедического обзора.
Эта философско-теологическая классификация и вводная литература также дает ряд указаний и ориентиров для распознавания и оценки научных методов работы и достижений этой эпохи. Научные родословные, сложившиеся в ходе истории человеческого знания и мысли, отражают содержание и формы знания отдельных периодов. «Различия в классификациях разных периодов, – отмечает С. Штумпф,75 – у Аристотеля, стоиков, энциклопедистов средневековья, Бэкона, Бентама, Ампера, Конта, Спенсера, – могут быть поняты отчасти из фактически различного состояния человеческого знания, вызванного появлением новых дисциплин, изменением представлений о старых, сдвигами в разделении труда и трудовом коллективе. Частично, однако, различия обусловлены также индивидуальными теориями создателей этих классификаций и, в частности, их представлениями об идеальном состоянии, к которому отдельные области приближаются с точки зрения метода и результатов». Эта форма научной литературы означает размышление о цели и средствах научной деятельности, размышление о масштабах, предмете, ценности, последовательности и контексте отдельных дисциплин.
Поэтому будет нелишним более подробно рассмотреть общую характеристику схоластического метода в XII веке, изучив научные классификации и научные доктрины этого периода, тем более что мы можем предположить, что такие трактаты содержат методологические утверждения. Как для описания и оценки научных методов и достижений нашего времени историку схоластического метода придется обратиться к научным классификациям В. Вундта, К. Штумпфа, Мюнстерберга и т. д., а также к общим и специальным научным исследованиям по методологии В. Вундта, Зигварта, Дильтея, Риккерта, Гуссерля, Гейманса, Пуанкаре, Бернгейма и т. д., так и историк схоластики не может и не должен проходить мимо схоластических научных доктрин и классификаций без интереса.
О философском делении и вводной литературе схоластики нас всесторонне информирует публикация Л. Баура 76и исследование Доминика Гундиссалина «De divisione philosophiae». Сам Доминик Гундиссалин, как переводчик и посредник материалов, которые были широко использованы только в XIII веке, уже не входит в сферу интересов этого второго тома схоластического метода. Однако анализ источников и историческое прослеживание точек зрения, представленных в работе Гундиссалина, проливает много света на классификацию науки и учение о науке в ранней схоластике, пресхоластике, патристике и античной философии.
Далее будут рассмотрены только те научные классификации и научные доктрины, которые образуют более самодостаточное целое и, таким образом, представляют собой самостоятельный литературный жанр. Поскольку «Дидаскаликон» Гуго Сен-Виктора необходимо анализировать с учетом контекста и фактов, чтобы оценить метод этого выдающегося богослова, мы выделим только ненапечатанный и до сих пор мало или вовсе не рассматривавшийся материал и, таким образом, привлечем ряд новых, ненапечатанных источников, некоторые из которых выходят за рамки философской вводной и классификационной литературы. В этих источниковедческих исследованиях особое внимание будет уделено не только аспектам схоластической философии, но и раннесхоластического богословия.
Даже если перечислены многие незначительные и порой наивные фрагменты учения о науке, это сделано как в интересах полноты, так и для достижения максимально верной исторической картины, которая также должна отражать недостатки схоластического образа мышления и работы.
Для разделения наук, для «divisio philosophiae», в период схоластики, о котором идет речь в этом томе, были доступны так называемые платоновский и аристотелевский типы деления. Поэтому в отношении систематической организации всей науки нам приходится иметь дело отчасти с воспроизведением этих двух типов классификации, отчасти с их комбинациями, а отчасти и с расширением, в основном аристотелевского типа, за счет новых записей.
Деление философии на физику, этику и логику77, приписываемое Цицероном Платону, но, вероятно, впервые установленное Ксенократом, использовавшееся в Стое и положенное в основу стоических книжных каталогов, стало использоваться отцами Церкви вплоть до Боэция. Мы узнаем ее, например, у Оригена и Августина.78 В Средние века оно встречается также у Кассиодора, Исидора, Алкуина, Скота Эриугены, в ненапечатанной «Диалектике» Glm 14 40179, у Иоанна Солсберийского и т. д. и продолжает оказывать влияние в эпоху высокой схоластики у Альберта Магнуса и Бонавентуры80. Аристотелевский тип деления, согласно которому философия делится на теоретическую и практическую, первая – на физику, математику, теологию (метафизику), вторая – на этику, экономику и политику, заложен в трудах Аристотеля и развит в комментаторской литературе. Прежде всего, этот тип был расширен за счет включения логики в систему наук и включения не-qrixai (artes meehanicae) в противовес πραχτιχη. Главными представителями аристотелевского типа в греческой комментаторской литературе были Александр Афродисийский и Аммоний Гермийский. Через сирийские передачи комментария к Исагоге Иоганна Филогона этот аристотелевский тип категоризации стал известен среди сирийцев и был передан арабам.
Боэций стал посредником этой аристотелевской категоризации науки для западной латинской литературы.
§2 Учение о науке в Бамбергской рукописи Q. VI 30
До сих пор незамеченной доктриной и классификацией наук, которая в некоторых отношениях напоминает «Дидаскаликон» Гуго Сен-Виктора и содержание которой относится к первой половине XII в., является анонимное введение в философию и теологию в Cod. Q. VI 30 (p. XII) в королевской библиотеке Бамберга81. Этот трактат занимает первые три листа рукописи. За ним следует обсуждение теологических добродетелей и таинств.82 Предположительно, эти специальные теологические исследования и предшествующее им учение о науке принадлежат одному и тому же автору, который нам неизвестен.
Wissenschaftslehre особенно примечательна тем, что она не только охватывает философские дисциплины, но и широко затрагивает сверхъестественное богословие и подробно рассматривает центральную проблему соотношения веры и знания.
В области естественных, философских наук он прежде всего различает две основные группы: мудрость или философию в собственном смысле слова, которая состоит в правильном, истинном познании вещей, и красноречие в более широком смысле слова, которое приводит к изложению того, что было познано и осмыслено, в красивой речи. То, что это два разных вида науки, ясно из того, что sapientia всегда полезна и никогда не вредит, в то время как eloquentia не всегда полезна, но иногда приносит вред.
Мудрость или философия в истинном и правильном смысле слова снова делится на теорию, практику и механику. Теория, или спекулятивная наука, делится на теологию, физику и математику, последняя из которых, в свою очередь, подразделяется на астрономию, геометрию, музыку и арифметику. Специализированные науки о практике – это этика, экономика и политика. Механика подразделяется на столько частей, сколько существует форм творческой активности человека в искусстве и ремесле. Eloquentia, или логика, имеет в качестве подразделов диалектику, риторику и грамматику. Диалектика делится на реальное доказательство разума и софистику. В этих подразделениях мы сталкиваемся с аристотелевским типом деления в более простой форме, чем у Гуго Сен-Викторского, поскольку логика не включена в организм собственно философских дисциплин и еще не имеет более богатого деления. С классификацией seientiae eloquentiae и scientiae sapientiae мы столкнемся позже, в «Доминике Гундиссалинусе». Здесь, в этом анонимном трактате, sapientia и eloquentia располагаются рядом, не подчеркивая пропедевтический характер дисциплин, включенных в последнюю.
Затем в трактате более подробно описывается сфера деятельности отдельных дисциплин, устанавливается последовательность этапов, на которых они должны методично изучаться. При этом sapientia и eloquentia, собственно философия и логика рассматриваются независимо друг от друга. Курс собственно философии, как объясняется далее со ссылкой на Боэция, должен начинаться с практической философии, с этики, экономики и политики, и только на основе искусной подготовки по этим предметам переходить к более трудным теоретическим частям житейской мудрости. Первым предметом, подлежащим изучению, является математика, doctrinalis scientia, в четырех ее разновидностях – арифметике, геометрии, музыке и астрономии. Затем ученик должен изучить физику, чтобы в конце концов достичь вершины философского мышления и познания в теологии, в метафизике, в постижении сверхъестественного. В красноречии, или логике в широком смысле, обучение начинается с грамматики, продолжается диалектикой, которая является истинной солью красноречия, и завершается риторикой. В такой манере и последовательности этапов sapientia и eloquentia представляют собой полный свод знаний.
Не подведя эти организованные таким образом отрасли знания под аспект тривиума и квадривиума, наш Аноним сразу же переходит к обсуждению механических искусств, которые он причисляет к собственно философии. Детальная классификация механических искусств, подобная той, которую предлагают Радульфус Арденс и Гуго фон Санкт-Виктор, здесь опущена. Вместо этого только работа человеческих рук, производство человеческих искусств и ремесел, фиксируется в общих чертах как главная общая основа для классификации и освещается различие между работой Бога, работой природы и работой человека. Божий труд – это создание чего-то из ничего, акт творения, согласно Писанию: «В начале сотворил Бог небо и землю». Работа и деятельность природы заключается в разворачивании и формировании скрытых жизненных сил и жизненных зародышей, что выражается в словах: «Земля прорастает травой, которая зеленеет».
Как земля не может создать небо, так и человек не может произвести на свет зеленую траву. Работа творческого человека – это подражание природе, отчасти разделение соединенного и объединенного, отчасти – соединение отдельных элементов. Труд человека называется opus mechanicum, то есть прелюбодейным, неподлинным, подражательным трудом, поскольку он проистекает из созерцания и подражания природным явлениям. Здесь мы снова сталкиваемся с ошибочной этимологией слова «mechanicum».
Далее показано, как тот, кто построил первый дом, узнал об этом из наблюдения за горой, как точно так же первое изготовление и использование одежды должно быть прослежено до восприятия человека, до наблюдения, что птица имеет защиту и прикрытие в своих перьях, рыба – в своей чешуе, дерево – в своей коре.
Настоящий акцент в этом анонимном учении о науке сделан на второй части, которая обращена к фундаментальным вопросам метода спекулятивной теологии и тем более примечательна, что изложения учения о науке в схоластике, особенно в ранней схоластике, обычно не включают в круг исследований сверхъестественную теологию. Вторая богословская часть «Дидаскаликона» Гуго Сен-Викторского содержит обобщенные сведения, кратко излагает метод и цель изучения Библии, не вдаваясь в методы работы спекулятивного богословия или проблему использования разума для более глубокого исследования и расчленения содержания откровения. Однако в объяснениях нашего безымянного и неизвестного схоласта, особенно во второй богословской части, мы встречаем точки зрения, классификации и т. п., которые напоминают нам, местами почти дословно, параллельные ходы мысли в главном труде Гюго «De sacramentis christianae fidei».
Для нашего Анонима философия – это путь к высшей форме науки, к разуму. Благодаря этому образ Творца обновляется в глубине нашей души. Sapientia ведет к intelligentia. Эта intelligentia, через которую душа приводится к истинному источнику своего бытия, в союзе с верой в Бога дает знание немыслимого и непостижимого характера. Даже если такие истины сами по себе являются неизвестными и непроницаемыми тайнами для человеческого духа, эта intelligentia, основанная на знании веры и жизни веры, тем не менее, вводит в душу такие сверхъестественные содержания мысли. Взаимное отношение между fides и intelligentia гарантирует душе достижение совершенной науки. Но это взаимное отношение выражается в том, что intelligentia иногда выходит за пределы веры, иногда не достигает ее. Она выходит за пределы веры, когда в божественных вещах делает душу известной «necessaria ratione», что нечто есть так, а не иначе, например, что есть Бог и т. д. The. Вера же выходит за пределы интеллекта, поскольку представляет истины о Боге, непостижимые для разума, как несомненные для души и побуждает ее с убедительной силой принять эти истины. Даже если душе дано много знаний о Боге через intelligentia, широкая область знаний о божественных вещах остается таинственной и скрытой, так что она может быть побуждена к постижению и исследованию истин об этих скрытых божественных вещах и, через верное следование этим сверхразумным объектам, заслужить полное и истинное знание о божественном в потустороннем представлении о Боге. Эти объяснения основаны на рабочей программе Ансельма «Credo, ut intelligam». Эта intelligentia есть не что иное, как спекулятивное богословие, которое представляет собой земное возможное рациональное постижение открытой Богом истины спасения и имеющая точку отправления, опору и ориентацию в своей деятельности в вере.
Эти линии мысли, которые еще не были четко и ясно разработаны, дополняются и уточняются последующим обсуждением различных способов, с помощью которых Бог и божественное становятся известны человеку. Это происходит тремя способами: через разум, через божественное откровение, через разум и божественное откровение одновременно. Проявление Бога и божественного через человеческий разум двояко: душа познает Бога внутри себя без внешних воздействий, в своем собственном внутреннем существе, и она приходит к познанию Бога через познание внешних предметов. Первый способ познания, который проникает к Богу без знания внешнего мира и позволяет душе найти Бога внутри себя, через погружение в свое собственное подобие Богу, указывает на Августина и Ансельма83 и является общим достоянием всей схоластики, если она не движется исключительно на почве строгого аристотелизма, для которого не существует человеческого познания без видов, без образов, взятых из органов чувств84. Знание о Боге также приходит в человеческую душу через откровение двумя путями: во-первых, изнутри, через внутреннее вдохновение, и, во-вторых, извне, через посредничество внешних факторов. Последнее происходит тремя путями: через действия, как, например, Авраам возвестил страдания Христа через жертву своего сына, через слова в виде провозглашения учения и, наконец, через сны, как истина была открыта Даниилу во сне Навуходоносора. Третья основная форма возвещения божественного человеческой душе через разум и откровение одновременно специально не рассматривается.
В заключении дается более подробная характеристика соотношения ratio и fides, вслед за Гуго Сен-Викторским85.
Даже если объектом веры является многое, чего нельзя достичь с помощью разума, следует отметить, что вера не придерживается ничего, что противоречило бы разуму; напротив, она поддерживается разумом и находит в нем, так сказать, первые следы своего содержания. Разумеется, не все возможности, в которых нечто может соотноситься с разумом, учитываются верой. Нечто может быть чисто рациональным (ex ratione). Это все то, что естественный разум понимает как обязательно существующее. Здесь мы имеем дело исключительно с рабочей областью разума; здесь нет места вере. Здесь применимы слова Григория Великого (автор ошибочно пишет Августина): «Fides non habet meritum, cui humana ratio praebet experimentum».
Более того, нечто может противоречить разуму (contra rationem). Здесь не могут действовать ни разум, ни вера. Третья возможность – это то, что разумно, вероятно, удобно (secundum rationem). Разум дает свое согласие на основе аналогий, сходств. Примером этого может служить тот факт, что разум находит Троицу в таком простом тварном существе, как человеческая душа, и использует это восприятие для иллюстрации тайны Троицы. Разум и вера здесь работают вместе. Наконец, обсуждается сверхразумное (extra rationem), то, о чем разум, именно потому, что он его не понимает, не может вывести из себя ни истину, ни ложь. Здесь мы движемся исключительно по пути веры, которая одна ответственна за такие истины, как вечное порождение Логоса, и, оставив позади своего спутника, разум, входит в брачный чертог вечного Царя.
Таким образом, во второй части этой Wissenschaftslehre из Бамбергской рукописи раскрывается взаимодействие разума и веры в исследовании тайн веры, и тем самым в центре внимания оказывается суть схоластического метода. Поэтому, возможно, стоит привести здесь полный текст этой доктрины науки.
Scientie species due sunt sapientia et eloquentia. Sapientia est vera cognitio rerum. Eloquentia est scientia proferendi cognita cum ornatu verborum. Sed quod iste species sint diverse, sie breviter colligitur. Sapientia numquam obest, sed semper prodest, eloquentia autem non semper prodest, quandoque obest. Ergo nee ipsa est species philosophie, que numquam obest. Philosophia igitur sive sapientia dividitur in theoricam, practicam, mechanicam. Item theorica i. speculativa dividitur in theologiam, phisicam, mathematicam. Mathematica, que est doctrinalis, dividitur in astronomiam, geometriam, musicam, arithmeticam. Practica делится на ethicam, echonomicam, politicam. Mechanica i. adulterina dividitur in omne opus hominis. Item de alia specie philosophie prosequamur. Eloquentia ipsa eadem est, que dicitur loyca. Hec dividitur in dyaleeticam, rhetoricam, grammaticam. Dyalectica in dissertivam sive rationalem et in sophisticam dividitur.
Quid autem singula eorum sint quidve conferant, ne bis repetamus, assiduus lector in ordine discendi potest ea considerare.
Non enim quocumque ordine artes addiscende sunt. Ordo enim in omnibus tenendus est. Litera scilicet P, quam Boetius in inferiori parte vestis philosophie dicit depictam, designat a practica esse incipiendum et per gradus interpositos ad T i. ad contemplationem sive theoricam ascendendum. Homo enim tendens ad eognitionem veram i. ad perfectam scientiam in utraque eius, quas diximus, specie ordinem debet observare. In philosophia ut diximus auctoritate Boetii a practica incipiendum est. Primo itaque instruendus est homo in moribus per ethicam. Ethica enim est moralis disciplina. Deinde in dispensatione proprie familie per echonomicam, economus enim dispensator dicitur. Postea in gubernatione rerum publicarum per politicam. Ipsa enim est, per quam totius civitatis utilitas administratur. Deinde cum in istis perfecte est exercitatus, ad contemplationem eorum que sunt circa corpora debet transire per mathematicam i. per doctrinalem scientiam, que in Uli consideratur, in quibus sie est ascendendum. Primo ab arithmetica que virtutes numerorum ostendit. Deinde ad geometriam, que ad ceteras mensuras pertinet rerum. Deinde ad musicam, que ad modulationem sonorurn. Hinc ad astronomiam, que ad cognitionem astrorum et illorum (здесь пропущено слово). Hinc ascensus ad phisicam, quia cognitis rebus natura exquirenda est. Ipsa enim in naturis rerum consumitur. Hinc ad theologiam pervenitur, que est cognitio rerum divinarum que solo intellectu capiuntur. Hü sunt gradus ascensus in philosophia. In eloquentia sive in loyca, quia ipsa est que de voeibus traetat, primo addiscenda est grammatica, quia prineipium eloquentie scire recte scribere et recte pronuntiare scripta. Deinde dyalectica quasi augmenta et verum sal eloquentie i. scientia disserendi rationabiliter vel sophistice. Deinde rhetorica quasi perfectio eloquentie, que in ornatu verborum et sententiarum consistit.
Hec ergo due species sapientia et eloquentia sicut diximus distribute perfectam conficiunt scientiam.
De mechanica que est pars philosophie dicere ideo distulimus, quia plura ad ipsam cognoscendam introducenda sunt. Mechanica igitur ipsa distribuitur in omne opus hominis. Ideo autem dico opus hominis, quia et alia sunt opera. Sunt enim tria opera: opus dei, opus nature, opus hominis artificis imitantis naturam. Opus dei est, quod non erat, creare, ut illud: In principio creavit deus celum et terram. Opus nature quod latuit, ad actum producere, ut illud: Producat terra herbam virentem. Neque enim potuit vel terra celum creare vel homo herbam producere, qui nee palme longitudinem ad staturam suam addere potest. Opus artificis imitantis naturam est vel coniuneta separare vel disgregata coniungere, ut illud: Consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomata. Dicitur autem hoc opus hominis mechanicum i. adulterinum, quia seeundum considerationem operis nature est factum et fit. Qui enim domum fecit, montem consideravit. Qui vestem primus adinvenit, consideravit quod singula nascentium propria quedam habent munimenta, quibus naturam suam ab incommodis defendant. Consideravit enim quare cortex ambiret lignum, lignum medullam. Vidit pennam tegere volucrem, piscem squammam et propter eandem rationem forma sua prius considerata vestem sibi fecit et his similia.
Hec de philosophia diximus, ut ad illam altissimam speciem que est intelligentia perveniremus. Ipsa enim est, per quam imago sui creatoris in ipsa anima reparatur. Sapientia enim ad intelligentiam pervenitur. Per intelligentiam vero anima ad verum fontem sue originis reducitur, que fide sibi associata quedam de deo, que licet sibi incognita sunt et incomprehensibilia, fidei tarnen acquiescens velut expertis locum in anima concedit et quedam sui vicissitudine animam mereri faciunt perfecte scientie habitudinem. Est enim hec vicissitudo inter fidem et intelligentiam, quod intelligentia aliquando fidem transcendit, aliquando fidei suecumbit. Transcendit dum necessaria ratione anime sue de divinis aliquid sie esse vel non esse ostendit ut deum esse et his similia. Est enim intelligentia illa vis anime, qua de deo et de spiritualibus tantum aliqua sola mente et intellectu capimus. Item fides transcendit intellectum, dum anime sue quedam de deo omni rationi et intellectui incomprehensibilia quasi certa et experta persuadet. Sed cum anime quedam per intelligentiam manifestentur, quedam tarnen in deo ei oecultantur, ut investigando veritatem de deo et de oecultissimus eius fidem tenendo mereatur veram eius cognitionem in futuro et sie regnare cum ipso.
Tribus autem modis anime occulta dei innotescunt vel ratione tantum vel divina tantum revelatione vel utroque modo. Ratione item duobus modis: in se, quod animus nullo modo respicit exteriora vel extra se, ut illud: invisibilia dei per ea que faeta sunt conspiciuntur. Item revelatione duobus modis anima occulta dei cognoscit in se i. intrinseca inspiratione unde psalmista: Audiam, quid loquatur in me dominus vel extra se i. in exterioribus. Hoc fit tribus modis: factis, ut abraham filii sui immolatione passionem Christi; dictis, ut per doctrinam, tertio modo per somnia, ut Danieli per somnium nabuchodonosor veritas innotuit. Quod autem aliquid anime oecultum sit de deo apostolus* innuit et quod eisdem quattuor modis innotescant anime occulta dei ex hisdem verbis coneipi potest. Dicit enim: «quod notum est dei». Per hoc notantur aliqua esse anime occulta de deo. Per hoc autem, quod subiungit: «in illis est» notat quod anima intus et e ratione tantum possit quedam pereipere. Unde sie exponitur auetoritas. Quod notum est dei i. quiddam quod noscibile est de deo in illis est i. intus se cognoscere potest homo scilicet ratione. Quod autem aliter per rationem occulta dei cognoscamus i. extra se, innuit apostolus in eadem contextione orationis. Invisibilia, inquit, per ea que visa sunt coneipiuntur. Quod autem revelatione duobus modis occulta dei reserentur anime non est dubium.
Nam apostolus in eodem loco idem notat dicens: «Deus enim illis revelavit» quasi dieeret: non sola natura, non sola ratio sufficit ad perfeetam habendam scientiam nisi deus insuperaddat sibi. Quod revelatio fiat modis duobus, auetoritatibus superius traetatum est.
Cum autem supra dixerimus quedam teneri fide, ad que ratio non attingit, tarnen est notandum, quod nihil tenet fides, quod contra rationem sit, sed potius iuvatur ab ipsa et quasi prima vestigia colligit ex ratione non tarnen ex omnibus que circa rationem considerantur. Est enim quadrifaria consideratio rerum circa rationem.
Alia enim dieuntur ex ratione ut illa que comprehendit necessario sie esse ratio et in illis nihil operatur fides.
Unde Augustinus: «Fides non habet meritum, cui humana ratio prebet experimentum.»
Subauditur per omnia. Item alia sunt contra rationem, sed in illis nee fides nee ratio operatur. Alia sunt seeundum rationem et dieuntur probabilia. Hec sunt illa, quibus ratio acquiescit propter quedam similia verbi gratia: Ratio videns trinitatem in simplici re sicut in anima ex induetione illius similitudinis concedit illam deo et in his similibus; et hoc est illud vestigium raftionis, per quod fides excedens
превосходит рациональность. Sunt item alia extra rationem et hec sunt illa circa que nee verum nee falsum ratio discernit, quia nullo modo ea comprehendit et in his quia sola fides operatur, maius meritum consequitur, ut de ineffabili genitura dei que ab eterno est et eternaliter. Hie est illud, ubi fides pedissequa sua i. ratione relicta foris thalamumum ingreditur eterni regis.86
§3 Краткие философские разборы в мюнхенских и парижских рукописях
1. В Мюнхенской придворной и государственной библиотеке хранится несколько рукописных философских дивизий, которые в основном иллюстрированы диаграммами, а также фигурными изображениями.
На листе 102-lll Clm 2599 (p. XIII) находится «Figure variarum diseiplinarum picte, quarum singulis primarii eultores ex adverso adpicti sunt, ut Grammatice Priscianus».87 Каждая отдельная дисциплина характеризуется здесь символической женской фигурой, предложением, выражающим цель данной науки, и, как правило, изображением ее главного представителя. В верхней части этого иллюстрированного учения о науках находится предложение: «Vite gutta pie preit omni philosophie», которое говорит о благочестивом образе мышления его анонимного автора. В первую очередь философия изображена в виде вознесенной на престол, коронованной женской фигуры, как королева.
Над изображением – арка, на которой начертаны слова: «Per me calcavit per nie qui euneta creavit colla superba summus deus ipse deorum.» Вокруг головы королевы надпись: «Hec Regina pia prudens est Philosophia». В левой руке королева держит скипетр, а в правой – раскрытую книгу. По бокам от нее две женщины несут развернутые исписанные свитки. Женщина справа от королевы характеризуется надписью «Qui contemplantur celestia, me venerantur», другая женщина слева от королевы – надписью «Hü, qui seetantur mundum, mihi famulantur». Первая, таким образом, будет представлять теологию, вторая – философию в собственном смысле слова. Сама королева будет представлять сверхъестественную и естественную мудрость, теологию и философию одновременно. Два царя лежат, склонившись, у ног царицы: Антиох и Навуходоносор.
За изложением философии следуют образные описания искусств. В первую очередь мы сталкиваемся с грамматикой, которая характеризуется фразой «Grammatice cura recte loquar absque figura». Высокая женская фигура в плиссированном одеянии высоко несет в правой руке сосуд, из которого бьют четыре красных язычка (?) пламени. Справа от нее стоит Присциан, держа в левой руке закрытую застежками книгу и развернутый свиток с надписью: «Per me scribendi patet ars recteque loquendi». Следующий рисунок (л. 102) посвящен арифметике и рекомендован с напутствием: «Invigila numeris, sie aritmeta eris». Женская фигура держит в правой руке счетный предмет. Представитель этой дисциплины, Боэций, разворачивает свиток с надписью: «Per me eunetorum fertur virtus numerorum». На листе 103 музыка предстает перед нами с девизом «Dat modulos scire musica doeta lire», держа в правой руке лиру. Справа от нее стоит Пифагор с длинной бородой и фригийским колпаком. На его свитке написаны слова, прославляющие успокаивающее действие музыки. Астрономия (л. 103) сообщает о своем задании надписью «Motus astrorum tradit liber astronomorum». На этот раз женская фигура несет диск с изображением солнца, луны и звезд. Ее сопровождает Птоломеус, рекс Египтий. На свитке, который он держит в руках, написано: «Indiget ars mea studio qui scandit ad astra».
Примечательно следующее изображение диалектики (лист 104), суть которого раскрывается в словах «Scrutatrix rerum perhibet dyalectica verum». Женская фигура держит в правой руке длинный ключ, а из широко распахнутого левого рукава выглядывает голова собаки. Тип диалектика – Аристотель, который выглядит великолепно с его кудрявой головой, появляющейся из-под фригийского колпака, могучей бородой и очень находчивым выражением лица. В левой руке у него раскрытая книга с предложениями: «Omnis homo rationale est animal» – «Omnis homo animal non est animal homo». В правой руке Аристотель держит свиток с надписью: «Per me firmatur verum falsumque probatur». Этот рисунок также испещрен многочисленными желтыми точками. За «Диалектикой» следует «Риторика» (л. 104) с вступлением: «Rhetorice studio verba polire scio».
Это женская фигура с длинным мечом в правой руке.
По бокам от нее стоит Цицерон, безбородый, юный и в короткой одежде.
Его роль говорит нам: «Artem disce meam, qui vis bene dicere causam». Геометрия появляется как последнее из семи искусств на листе 106 с девизом: «Metitur spatia terrarum geometria». Женская фигура имеет в качестве эмблемы диск, на котором изображен гео
метрический чертеж. Представителем этой дисциплины является Кассиодор в монашеском одеянии.
На листе 106 снова изображена Философия. Справа изображена женщина в пестром одеянии. На продольной полосе ее платья мы читаем: «Theorica i. contemplativa vita. Практика жизни». Слева мы видим замок с башнями, изображающий тюрьму Боэция в Павии. Сам Боэций виден за решеткой.
В правой руке он держит перо, в левой – книгу. Вокруг его правого предплечья обернут свиток с надписью: «Consolatus ego vobis solatia presto». Сама Философия несет в правой руке свиток, на котором написано: «Spes tibi sit, bone vir, fies in carcere martir».
На остальных листах вплоть до листа 111 представлены различные другие античные писатели, такие как Вергилий, Энний, Овидий, Гораций, Плиний, Макробий, Марциан Капелла, а также семь мудрецов Греции с их характерными фразами.
2. Clm 331 (p. XII – XV), лл. 38—40 предлагает нам набросок divisio philosophiae, дополненный диаграммами. Основное деление философии – на теоретическую, практическую и логическую.
Механика, которую мы воспринимаем как часть философии у Гуго фон Санкт-Виктора и в анонимном Bamberger Wissenschaftslehre, здесь не упоминается. Теорика (vel contemplativa) снова делится на теологию, математику и физику. Математика далее подразделяется на предметы квадривиума, геометрию, которая имеет дело с временем и пространством, арифметику или теорию чисел, музыку или теорию тональностей, астрономию или астрономию. В разделении Практики появляется новая точка зрения, а именно разделение практики на Practica actualis, которая делится на этику, экономику и политику, и Practica inspectiva, которая имеет дело с Historia и spiritualis intelligentia. В то время как historia рассматривает только внешнюю сторону сообщаемых вещей и смысл слов, spiritualis intelligentia стремится проникнуть за пределы внешнего и видимого к божественному и небесному и распознать интуицией духа то, что выходит за пределы чувственного. Духовная интеллигенция также имеет три формы: тропологию, аллегорию и анагогию. Логика (logica rationalis) также делится на три части, а именно: диалектику (disputatoria), аподиктику (demonstrativa) и софистику (fraudulenta et ficta).
(fraudulenta et ficta)88 Эта divisio philosophiae характеризуется прежде всего включением четырех смыслов Писания, общих для Отцов Церкви и схоластов, в доктрину и организацию науки, тогда как у Гуго Сен-Викторского, который, кстати, знает только три способа объяснения Писания (historia, allegoria, tropologia), библейская наука рассматривается независимо, вне рамок философии. Кроме того, разделение логики на диалектику, аподиктику и софистику и отсутствие грамматики и красноречия свидетельствуют о знакомстве со всей областью аристотелевской логики, выходящей за рамки времени Гуго Сен-Викторского.
3. Die beiden Münchener Handschriften Clm 9921, fol. 137 und Clm 14 516, fol. lv enthalten lediglich sachlich dem 12. Jahrhundert angehörende Schemata einer Wissenschaftseinteilung ohne begleitenden Text. Das Schema der ersten dieser beiden Handschriften ist beachtenswert durch die reiche Gliederung, welche die Ethik durch die unter die vier Kardinaltugenden eingereihten sittlichen Tugenden findet, während das zweite Schema als Eigentümlichkeiten die Einfügung der Mechanica und Medicina unter die Physik und die Auflösung der Dialektik in die Isagoge des Porphyrius, in die Kategorien und Perihermeneias des Aristoteles und in die boethianischen Traktate «De differentiis topicis» und «De diffinitione» aufweist.
4. Разделение наук с библейскими элементами мы встречаем в Clm 14 731 (p. XII), лл. 63v и 64r. Здесь сначала приводится деление Оригена, а затем философия делится на moralis, naturalis и inspectiva logica – деление, которое, как более подробно объясняет анонимный автор, греки получили от Соломона и, таким образом, косвенно от Святого Духа. Мораль (seil, scientia) представлена в Притчах, природа – в Екклесиасте, а Песнь Песней с ее тропами и образными фигурами речи – в логике.
5. На переднем форзаце книги Clm 18 478 (p. XII), содержащей комментарий Гилберта к Боэцию, имеется анонимная классификация наук. Философия организована в аристотелевско-боэтианской манере на «Теорику», «Практику» и «Логику».
При определении сферы деятельности отдельных дисциплин делается ссылка на этимологию. Практика (aetio), таким образом, учит, что делать и чего не делать. Она подразделяется на этику, политику и экономику. Категоризация логики была пройдена как общеизвестная. Теория (speculatio) делится на общие части: Теология, Физика и Математика.
Предметом теологии является бесплотное, божественное, которое стоит за пределами физического. Подразделение теологии на теологию утверждения и теологию отрицания со ссылкой на Псевдо-Ареопагита является новым по сравнению с большинством других современных divisiones philosophiae. Физика имеет дело с телесным бытием; математика, название которой вызывает странные этимологии, имеет дело с бесплотным в телесном и делится на привычные предметы: арифметику или науку о числах, музыку, которая говорит о пропорциях, геометрию, которая обсуждает неподвижные величины, и астрономию, которая обсуждает подвижные величины89.
6. Анонимный «Tractatus quidam de philosophia et partibus eius», фрагменты доктрины науки с некоторыми интересными замечаниями, находится в Cod. lat. 6570, fol. 57—59 Парижской национальной библиотеки. Автор дает номинальное определение философии как «amor sapientie» и реальное определение: «Eorum, que videntur esse et que sunt et immutabilem sui sortiuntur substantiam certa rationis comprehensio.90 Затем он перечисляет различные классификации философии, в первую очередь деление на физику, этику и теологию, которое он прослеживает до Оригена и на которое он также намекает в соломоновых писаниях Екклесиаст (физика), Притчи (этика) и Песнь Песней (теология).91 Кроме того, он развивает деление на сапиентистские и философские категории, известное нам по бамбергской рукописи Q. VI 30 на sapientia и eloquentia и подразделяет их на theorica и practica, или grammatica, dialectica и rhetorica. Теорика делится на Physica, Mathematica и Theologia, а практика – на Ethica, Economica и Politica. В дальнейших ветвях математики учитывается и подразделяется, в частности, музыка. Он также делает замечание о том, что существует множество грамматиков, диалектиков и аскетов, которые не заслуживают того, чтобы называться философами.92 С точки зрения сохранения и защиты физической и духовной жизни человека возникает новое разделение науки на физику, теологию и юриспруденцию. Физика служит для защиты тела, теология, предостерегая от греха и увещевая к добродетели, способствует жизни души, а scientia legum защищает и организует внешние правовые отношения человека. Семь путей ведут к этим трем формам науки, свободным искусствам тривиума и квадривиума. Никто не может успешно заниматься этими тремя науками, если предварительно не овладел семью либеральными искусствами93. Далее устанавливается различие между scientia и ars1. Последняя – это совокупность правил, которыми мы руководствуемся, чтобы творить легче, чем природа. Наука же – это достоверное знание вещей из их причин. Искусства называют либеральными, потому что они освобождают разум от забот, или потому, что они предполагают беззаботный ум, или потому, что в древности ими могли заниматься только свободные люди. В последнем отношении свободные искусства контрастируют с механическими искусствами (artes mechanicae), которые когда-то были открыты как для свободных, так и для рабов, как для благородных, так и для низких. Механические искусства делятся на ланификацию, венацию, навигацию, медицину, сельское хозяйство, вооружение и живопись.
В этом третьем разделении наук на физику, теологию и юриспруденцию особенно примечательно включение scientia legum в организм науки и ее координация с физикой и теологией, чего не было в предыдущих divisiones philosophiae, как новый и своеобразный аспект. Другого примера подобного включения юриспруденции в систематизацию наук в философской классификационной литературе XII – XIII веков, пожалуй, не известно. Кроме того, выделение семи гуманитарных искусств из сферы собственно науки и рассмотрение их в качестве пропедевтики собственно высших наук является методологически значимой точкой зрения. По сути, здесь проводится различие между общим научным образованием, получаемым через предметы тривиума и квадривиума, и высшими специализированными науками. Этот аспект пропедевтической ценности artes неоднократно возникал в XII и XIII веках, особенно в отношении теологии. Денифль собрал ряд примеров такой оценки либеральных искусств. Например, Петрус Коместор рассматривает artes лишь как «fundamentum». Согласно Роберту Мелунскому, artes также являются лишь «instrumentum veritatis». Искусства назывались «scientiae adminiculantes ad theologiam». Одо фон Шетеару рассматривал artes как основу и отмечал, что их следует понимать только как «via» и «adminiculantes», но не как «terminus» и «finis». Даже при внешней организации высшего образования изучение artes обычно рассматривалось лишь как переход к изучению теологии. Еще до того, как «magisterium in artibus» стал обязательным для теологов в Парижском университете, многие ученые, а затем и магистры богословия были magistri in artibus94.
Помимо включения юриспруденции в доктрину науки и выведения семи искусств из рамок собственно специальных наук, парижский Divisio philosophie содержит также отдельные замечания поистине своеобразного содержания. Например, слово «theologia 95дает нашему анонимному автору возможность вплести небольшое отступление о языках.
По его мнению, существует три основных языка: древнееврейский, греческий и латинский. Еврейский язык заслуживает предпочтения перед двумя другими идиомами, потому что это изначальный язык, или потому, что он единственный остался после вавилонской путаницы языков, или – это странная мысль – потому, что если бы ребенок рос без обучения какому-либо языку, он бы, естественно, говорил на иврите. Греческий язык претендует на первенство над латынью, потому что его словарный запас гораздо больше, чем у последнего.
§4 Теория науки Радульфуса де Лонго Кампо
Доктрина науки, которая уже выходит за временные рамки этого тома нашей истории схоластического метода, но которую, тем не менее, необходимо рассмотреть здесь ради контекста и содержания, появляется в комментарии Радульфуса де Лонго Кампо к «Антиклаудиану» Алануса де Инсулиса, написанном около 1216 года. Этот комментарий хранится в Cod. lat. 8083 Парижской национальной библиотеки96. Это краткий обзор вышеупомянутой поэмы с иллюстрациями и богатыми научными знаниями. Собственно учение о науке начинается на 7-м листе с «Diffinitio scientie». Наука осмысляется как «rerum scibilium agnitio» и делится на четыре основных раздела: философия, красноречие, поэзия и механика. Эти четыре отрасли знания представляют собой четыре средства, прописанные небесным врачом для лечения четырех основных недугов человеческой жизни. Философия избавляет от невежества и ведет к знанию, красноречие избавляет от неразговорчивости и дарует красноречие, поэзия изгоняет порок и закладывает в сердце семена добродетели, а механика помогает при физических недугах. Философия определяется привычным образом как наука о божественных и человеческих вещах. Божественные вещи – это бесплотные вещи. Философия делится на теоретическую, которая рассматривает бесплотное, и практическую, которая занимается телесным. Бесплотное же бывает трех видов: невидимые субстанции, такие как Бог, природа, мировая душа и ангелы, затем невидимые причины, такие как природа вещей, и, наконец, невидимые формы, такие как величие и множественность. Теорика также делится на три части, а именно: теология, или учение о невидимых субстанциях, физика, как учение о невидимых причинах, и математика, учение о невидимых формах. В соответствии с разнообразием этих форм существует четыре подвида математики: арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Арифметика имеет дело с множественностью самой по себе, с числом, музыка – с относительной множественностью, с пропорцией и гармонией, геометрия занимается неподвижными величинами, такими как земля, а подвижная величина, небо, является предметом астрономии. Далее следует ряд подразделов геометрии, музыки и астрономии. Различные направления музыки особенно богаты и разнообразны. Физика – это наука о природе всех вещей под и над Луной, которая подразделяется на элементарную (метеоритику), земную и небесную физику. Медицина также подчинена земной физике, которая здесь отделена от механики97. Теология предстает как последняя и самая возвышенная отрасль философии. Теология делится на два вида – теологию сверхцелостную и субцелостную, или, по-другому, теологию апофатическую и гипофатическую. Ссылаясь на Скота Эриугену, Радульфус де Лонго Кампо выводит это деление из двух потенций души, тезиса и экстазиса.
Тезис есть не что иное, как соотношение, посредством которого человек представляет себя в своем естественном состоянии и не выходит за пределы этого естественного состояния, поскольку это соотношение учитывает человеческое и земное. Экстаз же – это та сила души, в деятельности которой человек выходит из специфически человеческого состояния своей духовной жизни.
Этот экстаз может быть двояким: нисходящим, при котором человек опускается ниже себя, и восходящим, при котором человек поднимается выше и за пределы естественного состояния своей духовной жизни. Этот восходящий экстаз проявляется в двух формах, а именно в intellectus, через который Человек познает ангелов и души и в их деятельности становится духом, а затем и интеллигенцией, через которую человеческий дух видит божественное, Троицу, и обожествляется на основе экстатического видения. Это умозрение называется апофеозом, обожествлением.
Из тезиса проистекает philosophia naturalis, духовная озабоченность земными вещами; intellectus является источником и носителем theologia hypothetica, которая ориентирована на чисто-духовные существа. Гипотетической она называется потому, что имеет дело с предметами, подвластными божественной власти. Из intelligentia вытекает, как уже говорилось, theologia supercoelestis или apothetica, поскольку она имеет дело с божественным, стоящим над всем сотворенным бытием98.
Таким образом, если extasis вверх означает высшие формы теологии и приводит к наивысшему возвышению, боговоплощению человека, то extasis вниз показывает нисхождение человека ниже его человеческого достоинства. Два вида этого низшего экстаза, philologea, беспорядочная земная любовь, состоящая из гедонизма и блуда, и philolobia, высокомерие, описываются и осуждаются в резких выражениях. Филология превращает человека в животное, а филолобия – в дьявола99.
За этим подробным рассмотрением «Теорики» с ее основными частями и их последствиями следует оценка «Практики» в ее трех известных частях – «Этика», «Экономика» и «Политика».
Поэзия как «scientia claudens in metro vel prosa orationem gravem et illustrem» делится на три вида: historia, fabula и ars или comoedia100. Затем перечисляются основные виды механики. Наконец, красноречие делится на три основных вида: грамматику, которая учит правильно писать и читать; логику, тремя основными функциями которой являются определение, категоризация и умозаключение; и риторику, или искусство убеждения. Сама логика подразделяется на dialectica, temptativa, demonstrativa и sophistica101. Под dialectica здесь понимается содержание «Logica vetus», под temptativa – темы, под demonstrativa – «Analytiea», прежде всего «Analytica posteriora», а под sophistica – аристотелевская софистика.
Наконец, все эти различные научные классификации наглядно представлены в обобщающей схеме. Clm 1612, fol. 191 содержит почти идентичное генеалогическое древо наук
Даже если собственно теория науки завершается генеалогическим древом наук на листе 9, фрагментарное объяснение artes liberales, начинающееся на листе 19 после «Антиклаудиана», все равно дает целый ряд методологически примечательных объяснений.
В частности, рассмотрение логики показывает значительное знакомство со всем «Органоном» Сравнение Аристотеля со Сфинксом и Порфирия с Эдипом, который решает темные загадки Сфинкса2, на которое указывается в «Антиклаудиане», Радульфус объясняет более подробно и не очень лестно для Аристотеля3. Переводческая деятельность Боэция высоко оценивается102. На листе 37 этот комментарий к «Антиклаудиану» обрывается на рассмотрении астрономии. Характерной чертой научного учения Радульфуса де Лонго Кампо является включение неоплатонических взглядов в аристотелевскую тему деления.
Если мы хотим оценить эту категоризацию науки, особенно структуру «Теорики», с точки зрения истории философии, то неоплатоническое влияние в этих объяснениях особенно бросается в глаза. Представление Νους и мировой души наряду с Богом и ангелами в качестве субстанций-невидимок особенно неоплатонично, так же как и различие между субстанциями-невидимками, причинами-невидимками и формами-невидимками, которое выдает неоплатоническую окраску.
Объяснения тезиса и экстаза, имеющие решающее значение для структуры «Теологии», а также определения intellectus и intelligentia как двух основных форм высшего экстаза, также имеют неоплатоническое происхождение и основываются на 99-й статье «Regulae theologicae» Алана де Инсулиса103. Как мы видели выше, Радульф ссылается здесь на комментарий Скота Эриугены к «Псевдо-Ареопагиту».
Разделение на апофатическую и гипофатическую теологию, а также комментарий к термину deificatio (θειωσις), знакомому греческой патристике и также широко используемому в средневековой мистике, также происходят из этого источника104. Наш схоластик, несомненно, получил неоплатоническое влияние и вдохновение от Шартрской школы, как и Аланус. Вероятно, отсюда же он получил выражение «anima mundi», которое не встречается у Алануса105. Если он также однажды цитирует Плотина, то это не связано с личным ознакомлением с его «Эннеадами»; это цитата из Плотина, взятая из комментария Макребия в «Somnium Scipionis.106 Научные взгляды нашего автора также могут быть в значительной степени обусловлены Шартрской школой. Конечно, в этом отношении влияние аристотелевских трудов уже очевидно. Помимо «Мегакосма» Бернхарда Сильвестриса, мы находим у Радульфуса аристотелевские сочинения «De anima» и «De somno et vigilantia», комментарий Аверроэса к последнему трактату, различные сочинения Авиценны и других арабских авторов, имена которых иногда весьма искажены107.
Глава третья. Библиотека схоластов XII века Поставка и использование материала
§1 Поступление и использование материала в целом
Движущей силой в развитии схоластического метода со времен Ансельма Кентерберийского до рассвета Великой схоластики является рост количества материала, открытие новых источников. Конечно, аспект поступления материала в первую очередь плодотворен и значим для содержания ранней схоластики, для истории проблем и теорий этой эпохи. Однако внутренняя и интимная связь между содержанием знания и формой знания, между предметом проблемы и способом ее постановки и обработки априори предполагает, что новые материалы оказали влияние на научный метод. Более того, эти источники, появившиеся в течение XII века, питали auctoritas и ratio, две движущие силы схоластики. Таким образом, формирование систем получило новую направленность, рассмотрение сложных моментов, разрешение возражений и трудностей – новые рутины и практики. Более того, стремление к новым источникам, жажда нового материала, характерная для этого времени, является методологически интересной чертой, так же как адаптация и ассимиляция нового материала с предыдущим массивом знаний предъявляет требования к методологической способности и готовности. Наконец, те схоластические авторы, которые рассказывают нам о научной жизни и начинаниях ранней схоластики, также подчеркивали момент добавления материала как методологический принцип прогресса. В частности, об этом напоминает Иоанн Солсберийский108.
Чтобы в общих чертах представить себе, как разбухали научные источники в XII и начале XIII века, полезно будет обратиться к библиотечным каталогам, дошедшим до нас из этого периода109. Библиотека второй половины XI века и особенно конца этого столетия типично представлена нам в описи рукописей монастыря Санта-Мария-ди-Риполь в Барселоне от 1047 года и, в частности, в каталоге библиотеки итальянского бенедиктинского аббатства Помпоза, который был составлен в 1093 году клириком Генрихом при ученом аббате Иерониме.
Эти две библиотеки – Помпоза гордилась непревзойденным богатством рукописей – содержали в основном патристические сочинения, но также уделяли место и светской литературе. Мария ди Риполла имеет значительное количество «Libri artium», а автор каталога Помпозы даже был вынужден защищать своего аббата от невежества и негодования за включение светских и языческих сочинений.110 Если мы используем каталоги, чтобы проследить фонды библиотек примерно со времени составления описи Помпозы до начала XII века – в качестве примера мы приводим второй рукописный каталог Корби (ок. 1200 г.), – то мы получаем образ реки, воды которой постоянно увеличиваются и разбухают благодаря впадающим в нее притокам. Здесь особенно уместны каталоги библиотек Бека, Прюфенинга, Энгельберга, Вессобрунна, Святого Петра в Зальцбурге, Дарема, Анчина и Корби111. Здесь хорошо видно, как книжные коллекции обогащались и расширялись за счет литературы XII века и вновь открытых и переведенных античных и патристических сочинений.
Это расширение библиотеки можно проследить, в частности, в аббатствах Бек и Корби, о которых у нас есть два библиотечных каталога этого периода. Конечно, если сравнивать эти каталоги с более поздними каталогами Сорбонны, светская литература, особенно философская, все еще отходит на второй план.
Если знакомство с библиотечными каталогами XII и начала XIII веков дает более общее представление о литературных ресурсах этого периода, то о том, как происходило снабжение и использование материалов, можно подробно судить по трудам самих схоластов. Этим наблюдениям могут способствовать высказывания некоторых писателей о литературе, которую они использовали. Примеры таких высказываний о собственном чтении мы имеем у епископа Теодульфа Орлеанского112, Винрикуса, кафедрального схоласта Трира113, Эберхарда Бетунийского114, Цезария Гейстербахского и других.115 Разумеется, речь идет о писателях, стоявших вне рядов собственно схоластов. Манускрипты дают представление об использовании источников самими схоластами. Код 1206 из библиотеки Труа (стр. XIII), анонимный комментарий к Сентенциям из Клерво, перечисляет источники, использованные лангобардом, и, в частности, указывает на его согласие с Гандульфом116. В эрфуртской рукописи «Сентенций» Петра Ломбардского (Cod. Amplon. 108 [4], p. XIII) текст снабжен маргинальными и межстрочными глоссами, которые ссылаются на модели и источники Ломбарда, например, на Хью Сен-Виктора, Гандульфа, и даже указывают на ошибочные цитаты из «Magister Sententiarum» с учетом критического понимания. В той же библиотеке хранится (Cod. Amplon. 73 [Pol.], pp. XII – XIII) «Glossa copiosa ordinaria magistri Petri Lombardi super primam partem psalterii» со ссылками на полях.
Имена использованных отцов церкви написаны на полях красным цветом. Аналогично, в Clm 18 109 (p. XII), рукописи Сентенций лангобардов, использованные отцы церкви указаны на полях, а объем цитаты также обозначен вертикальной линией.
Cod. lat. 3144 Парижской национальной библиотеки, богословский труд конца XII века, который следует линии мысли Pater noster, также отмечает на полях использованные старые и новые источники. Код 238 из Эрлангенской университетской библиотеки (см. XII) значительно облегчает анализ источников «Суммы сентенций», приписываемой Гуго Сен-Викторскому: на полях указаны имена цитируемых отцов, что позволяет быстро получить информацию об источниках, которыми пользовался схоластик. В таких ссылках, демонстрирующих отдельные схоластические манускрипты рассматриваемого нами периода, есть некий культ авторитета и оттенок научной дотошности. Для исследователя такие маргинальные заметки – желанное руководство для реконструкции библиотеки, доступной схоластикам.
Поступление материалов в раннюю схоластику было связано в основном с переводческой деятельностью. Переводя философские и теологические труды с греческого или арабского, мы получали доступ к новым источникам, а компилятор, систематизирующий талант, проницательный диалектик и более склонный к мистике мыслитель получали новую пищу для ума и сердца. Однако переводческая деятельность XII века, особенно с греческого, имеет и значение, выходящее за рамки того времени и сохраняющееся до наших дней. Именно Валентин Розе117 отметил современную ценность этих переводов: «Средневековая робость перед перевоспитывающей наукой, благочестивый страх отклониться от заданного авторитета высшего прошлого, отклониться даже в свободной и, возможно, ошибочной концепции, больше всего доминировали над теми переводчиками старых интеллектуальных памятников».
Чем более ограничено образовательное влияние этих переводов, тем более ценны они иногда для нас, черпающих свое образование из оригиналов, для сравнения с текстами этих оригиналов, поскольку греческие рукописи, с которых они были сделаны в XII или XIII веке, обязательно старше тех, которые сейчас общедоступны. Большая часть из них – это работа странствующих беглых греков или латинских ученых XV или XVI века, которые учились на них; те, что относятся к XIV—XV векам, уже составляют уважаемую группу, и относительно редко они уходят дальше».
§2 Оценка и использование античной классики в литературе XII века
Классики, auctores, не рассматриваются как исходный материал для схоластики XII и начала XIII веков ни в содержательном, ни в методологическом плане. Однако для характеристики научного мышления и чувств ранней схоластики интересно познакомиться с основными чертами позиции богословов по отношению к сохранившимся сокровищам античного гуманизма.
Кроме того, в настоящее время филологическая наука уделяет достойное внимание выживанию античности в Средние века118. Э. Норден 119отдает должное Средним векам за сохранение наибольшего количества классических писателей в копиях и защищает этот культурный период от очернения гуманистами.
Далее тот же исследователь обращает внимание на различие между artes и auctores и утверждает, что artes были основой высшего научного образования, в то время как классические auctores были отодвинуты на второй план и практически исключены как опасные. «Лучше, значит, выбросить старый хлам в угол и довольствоваться разливным образовательным экстрактом artes».120 Корден смягчает это несколько суровое общее суждение, отдавая должное гуманистическим начинаниям XII века и упоминая об «artes» Хильдегарды. Он заслуженно хвалит Хильдеберта из Лавардина, Иоанна из Солсбери, Бернарда из Шартра (которого он ошибочно отождествляет с Бернардом Сильвестром), Петра из Блуа и Матвея из Вандома – людей, увлеченных античностью и хорошо знакомых с классическими писателями.
Берлинский филолог помещает здесь свой исторический рассказ под аспект литературного спора между классицистами и схоластами. В XIII веке Орлеанская школа с ее гуманистическим энтузиазмом аукционистов и Парижский факультет искусств как место и убежище преимущественно логических начинаний были враждебны друг другу, как это драматически иллюстрирует поэма современного трубадура Анри д'Андели «Битва семи искусств.121
В содержательных рассуждениях Э. Нордена о взаимоотношениях схоластики и античной классики прослеживается гораздо более объективная и благожелательная оценка схоластики, чем, например, у Фойгта122. Однако и замечания Нордена нуждаются в дополнении и неоднократном изменении. Прежде всего, утверждаемая им враждебность Церкви по отношению к аукториям, похоже, не основана на исторических фактах.
Если монашеские круги XI и XII веков, в том числе Отлох Сент-Эммерамский и другие, враждебно относились к светским наукам, а также к классике123, то это не тождественно враждебной позиции самой Церкви.
Как еще могли такие люди, как Иоанн Солсберийский и Петр Блуа, чья церковная ориентация не вызывает сомнений, до такой степени проникнуться симпатией к ауктории, к гуманистическим начинаниям и как можно было продолжать с преданным тщанием копировать древних классиков и хранить их как драгоценное сокровище? Даже каноническое право Средневековья не запрещало читать классику.124
Интересным примером того, каким уважением пользовались аукционисты в XII веке, является «Dialogus super auctores sive Didascalon» Конрадса фон Хиршау (ок. 1070—1150), произведение, неоднократно напоминающее «Дидаскаликон» Гуго фон Сент-Викторса, из которого мы видим честное стремление к справедливости по отношению к языческой классике, равно как и к христианской125.
После вводной части, основанной на комментарии к «Теодулусу» Бернарда Трахектензиса и содержащей информацию о литературных терминах, языческие и христианские авторы, значимые для «Гуманиоры», а именно Донат, Катон, Эзоп, Авиан, Седулий, Ювенкус, Проспер, Феодул126, Аратор, Пруденций, Цицерон, Саллюстий, Боэций, Лукан, Гораций, Ювенал, Гомер, Персий, Стаций и Вергилий, почитаются в соответствии с их личностью, содержанием, целью и полезностью их трудов. Перед нами своего рода литературно-историческое вступление и введение в изучение классики. Именно этих авторов мы снова и снова встречаем в библиотечных каталогах XII века, что свидетельствует о том, что Конрад фон Хиршау – не единичный голос. Этот религиозный человек с особым почтением отзывается о Вергилии и Цицероне, которые вместе с Сенекой были, пожалуй, самыми уважаемыми и влиятельными классиками Средневековья127. Конрад фон Хиршау полностью привержен Церкви; он ценит античную классику и рекомендует ее читать, но при этом хочет, чтобы к изучению античности применялись стандарты христианской доктрины и обычаев.
В этой работе также прослеживается связь между auctores и artes, поскольку за характеристикой классики сразу же следует сжатый обзор предметов тривиума и квадривиума. Помимо Конрада фон Хиршау, Гиральдус Камбренсис и Гуго фон Тримберг (оба из XIII века) также фигурируют в E. Norden 128как энтузиасты изучения auctores.
Берлинский филолог справедливо делает особый акцент на парижском манускрипте с отрывками (Cod. lat. bibl. nat. 17 903, p. XIII), который содержит отрывки из произведений ряда латинских поэтов и прозаиков. Следует отметить, что само существование подобных сборников отрывков, идущих параллельно патристическим флорилегиям, свидетельствует о высокой оценке классики, об оценке auctores также как auctoritates129. Кстати, парижское собрание отрывков не уникально. 130Clm 7977 (p. XIII) содержит в первую очередь патристические отрывки и флорилегии (лл. 147), за которыми следуют два сборника «Философских изречений» (лл. 147—161; 161—172). В последнем мы встречаем изречения Зосима, Овидия, Авиана, Эзопа, Горация, Ювенала, Квинтилиана, Гомера, Тибулла, Стация, Проспера, Катона, Памфила, Вергилия, Персия, Лукана, Клавдиана, Боэция. Случается также, что один и тот же
Эта коллекция отрывков охватывает языческих писателей, отцов церкви и богословов, тем самым придавая актуариям согласованную позицию по отношению к христианской литературе. Интересным примером этого является Cod. lat. 11412 (p. XIII) из Парижской национальной библиотеки, где представлена подобная коллекция отрывков с листа 108—125. Во введении анонимный составитель отмечает (л. 108): «Quoniam ut iubet apostolus: omnia probate, quod bonum est tenete istius operis mei ac studii est multa philosophorum, doctorum ac scriptorum dicta colligere et ex plurimis diversos carpere flores.» Сначала идут языческие философы и классики: семь мудрецов Греции, затем Эзоп, Пифагор, Демокрит, Гиппократ, Сократ, Диоген, «Платон знаменитый» (л. 108), «Aristotle, summus philosophus» (л. 109), Апулей, Эпикур, Теофраст, Кратес, Плавт, Теренций, Катон, Цицерон, Саллюст, Варро, Вергилий, Гораций, Овидий, Валерий, Сенека, Персий, Ювенкус, Квинтилиан. За ними следуют диктовки отцов церкви и богословов: Афанасия, Григория Назианзского, Иеронима, Амвросия, Хризостома, Клавдиана, Пруденция, Августина, Кассиана, Проспера, Фульгенция, Боэция, Сидония, Григория Великого, Исидора, Гуго и Ричарда Сен-Викторского. Завершает сборник Бернард Клервоский131.
Эти высказывания, которые в то же время являются продолжением замечаний Э. Нордена и дополнением к рукописям, могли служить доказательством того, что церковь XII и XIII веков отнюдь не была враждебна к аукториям и даже не противилась изучению античности.
В своей истории средневековых университетов Денифле132 предоставил основанную на источниках информацию о реальной причине того, почему дальнейшее развитие и обучение схоластики шло рука об руку с упадком изучения классики в конце XII и в XIII веке. Причина этого кроется в господствующем положении парижского университета, где диалектика и Аристотель в целом заняли главенствующее положение в artes liberales, постепенно вытесняя и устраняя классику и придавая даже изучению грамматики диалектическую окраску и тенденцию. Таким образом, причина упадка гуманитарных наук кроется в парижском факультете искусств.
Школы, уделявшие особое внимание изучению классики, такие как Орлеанская и Эрфуртская, должны были погибнуть как жертвы этого научного направления. Денифль 133отмечает назначение auctorista наряду с theologus, decretista и logicus в Паленсийском университете (1220 г.) как последний след auctores в университетах. Хотя аукционисты постепенно исчезали из школы, в XIII веке еще оставались отдельные личности, чьи труды свидетельствовали об их глубоком знании классики. Summa de virtutibus* Вильгельма Перальдуса, Винсента из Бове134 и Роджера Бэкона – вот лишь несколько примеров. Великих схоластов XIII века нельзя упрекнуть в том, что они не обращались к античной классике, поскольку подобные исследования лежали вне сферы их философско-теологической деятельности. В качестве украшения мы встречаем здесь и цитаты из классиков. Например, Бонавентура включает отрывки из Геллия, Лукана, Плиния, Птолемея, Саллюстия, Плутарха, Присциана, Лукреция, Теренция, Вергилия, Горация, Овидия, Персия и еще большее количество из Цицерона и Сенеки, что доказывает, что у этого выдающегося схоласта и мистика не было принципиальных оговорок относительно античной классики. Для связности мы вышли за временные рамки данного тома истории схоластического метода, поскольку изложение высокой схоластики не будет касаться гуманистических начинаний.
§3 Новые философские источники. Перевод и восприятие аристотелевских «Аналектов», «Топики» и «Эленхики»
Философская библиотека начала XII века состояла в основном из частей «Логики» Аристотеля, переведенных и аннотированных Боэцием (Категории и Перигерменей, к которым добавляется Исагога Порфирия, также переданная и объясненная Боэцием), в некоторых логических трактатах Боэция (De divisione и De differentiis topicis), в псевдоавгустинском труде «Categoriae decem» и в различных частях дидактико-энциклопедических сочинений Марциана Капеллы, Кассиодора и Исидора.135
Рост этой философской библиотеки в течение XII века был частично связан с более широким распространением и использованием ранее малоизвестных источников, а частично – с переводом неизвестных до того времени философских авторов.
Собственная литературная активность ранней схоластики также привела к увеличению количества философской литературы. Следует также отметить, что патристика, которая использовалась в большей степени, также предлагала богатый философский материал и вдохновение.
Увеличение количества философских источников в эпоху ранней схоластики и вплоть до периода великой схоластики было связано в первую очередь с притоком платонической, неоплатонической и аристотелевской литературы.
В XII веке имя Пиатоса 136было в целом более известно, чем имя Стагирита. Даже симпатии Августина указывали на основателя академии в эти времена, для которого великий епископ Гиппонский имел огромное значение. Прежде всего, к Платону тянулись личности и круги, интересовавшиеся наукой или поэзией. Разумеется, в XII веке была известна лишь малая часть трудов Платона. Фактически только фрагмент «Тимея», переведенный на латынь Халкидием, пользовался наибольшей известностью как попытка построить мир в целом на основе философских принципов и как поэтическое описание становления мира, особенно в Шартрской школе, которая была привержена научным и гуманистическим тенденциям137. Этот фрагмент «Тимея» часто встречается в библиотечных каталогах, обычно вместе с комментарием, написанным к нему переводчиком Халкидием138. Этот эклектичный комментарий, содержащий также мысли из других платоновских сочинений и доктринальные положения из Аристотеля и Стоа, был сокровищницей философско-исторических знаний.
Платоновские диалоги «Менон» и «Федон», переведенные на латынь Генрихом Аристиппом из С. Северины в Калабрии (f 1162) по предложению гранд-адмирала Майо и архиепископа Гуго Палермского, были гораздо менее распространены и использовались, чем фрагмент «Тимея».139
Другими возможными источниками пиатонизма для XII века являются диалог «Асклепий», который входит в число произведений Апулея Мадаурского, и комментарий Макробия к «Somnium Scipionis.140 Труды Псевдо-Дионисия Ареопагита будут отмечены при обсуждении патристических источников. Влияние «Liber de causis», переведенного на латынь Герардом Кремонским, на схоластическую мысль выходит за рамки данного тома и должно быть охарактеризовано в третьем томе нашей истории схоластических методов.
Развитие схоластики в доктрине и методе в основном обусловлено и структурировано постепенной рецепцией Аристотеля,141 постепенным включением аристотелевской мысли в средневековое мышление и знание. Первым этапом этой рецепции Аристотеля является усвоение всего аристотелевского «Органона», имевшего большое значение для ранней схоластики. Второй этап, который также знаменует собой начало высокой схоластики, заключается в том, что весь Аристотель, его метафизика, физика, психология, этика и т.д., вместе с произведениями арабо-иудейской спекуляции и различными неоплатоническими материалами, становятся интеллектуальным достоянием и интеллектуальной собственностью западного ученого мира.
В этом томе, который простирается до порога высокой схоластики, мы в основном рассматриваем восприятие всего аристотелевского «Органона» как исторический факт и как движущий фактор развития схоластики в XII веке. Схоластика начала XII века была знакома лишь с небольшими выдержками из сочинений Аристотеля, а именно с «Категориями» и «Перигерменем» в переводе и объяснении Боэция, к которым была добавлена «Исагога» Порфирия. В своей «Диалектике», написанной около 1121142 года, Абеляр знает только два вышеупомянутых сочинения стагиритов, которые вместе с «Исагогой» и четырьмя трактатами Боэция составляли весь логический исходный материал. Энергия диалектического мышления была значительно увеличена за счет включения оставшихся частей аристотелевского «Органона» в школьную логику того времени.
По словам Иоанна Солсберийского, Адам де Пти-Пон (Парвипонтан), автор «Ars dialectica» (ars disserendi) и трактата «De utensilibus», которые были переданы в двух рецензиях, уже имел дело с аристотелевской аналитикой, хотя и в довольно тонкой манере143. Жильбер де ла Порри также признает «Аналекты» в своей «Liber sex principiorum144. Важным документом для восприятия аристотелевской логики является «Гептатевхон» Тьерри Шартрского, завершенный около 1135—1141 годов, работа, опубликованная в Codd. 497 и 498 Шартрской библиотеки145. По замыслу автора, этот «Гептатевхон» должен был представлять собой справочник светских знаний того времени и четко излагать авторов, на которых основывались предметы тривиума и квадривиума.
Здесь перечислены диалектические материалы: «Исагога» Порфирия в переводе Боэция, затем «Категории», «Перигерменей», «Analytica priora», «Логика» и «Эленхен» Аристотеля, логический труд анонимного автора и, наконец, все логические трактаты Боэция вместе с комментарием к «Топикам» Цицерона. Таким образом, перед нами весь аристотелевский «Органон», за исключением «Аналитики после», как основа и конспект логического учения в Шартрской школе. Тот факт, что «Последователи аналитики «* отсутствуют, возможно, объясняется трудностями их содержания, которые подчеркивал Иоанн Солсберийский, т. е., вероятно, дидактическими соображениями. К сожалению, в «Гептатеухоне» отсутствует содержательное суждение и независимая оценка логических трудов Аристотеля.
Первым писателем XII века, представившим более подробную, экспертную информацию обо всем аристотелевском «Органоне», является хронист и философ истории, епископ Отто фон Фрейзинг.
В своей «Хронике» (2, 8) он поминает двух величайших греческих философов Платона и Аристотеля в философско-историческом отступлении. Первый, объясняет он, рассуждал о могуществе, мудрости и благости Бога, о происхождении мира и сотворении человека так прекрасно и глубоко и с таким приближением к христианской истине, что некоторые поддались предположению, будто греческий философ услышал и усвоил эти истины в Египте от пророка Иеремии, – предположение, которое Оттон не принимает только по хронологическим причинам. Аристотель – логик. Он разделил логику на шесть книг: «Предикаменты», «Перигерменей», «Аналитика до начала», «Логика», «Аналитика после начала» и «Эленхен». Отто дает краткую характеристику каждой из этих книг. В «Предикаментах» речь идет о простых терминах, в «Перигерменях» – о пропозициях, в «Аналитике первой» – о соединении пропозиций в силлогизмы, с помощью которых очищается и наставляется суждение, в «Логике» – о методах, способах силлогистической процедуры, в «Аналитике последней» – о процедуре научного доказательства, исходя из необходимости, а в «Эленхене» – о софистических заблуждениях. Таким образом, Аристотель вооружает философа наукой, которая позволяет ему не только распознавать истину, но и избегать ошибок146. Затем Отто фон Фрейзинг подчеркивает, что Аристотель является «princeps et inventor» логики, и обосновывает это свидетельством Стагирита в конце своего «Эленхена147. Кроме того, наш летописец, который предстает как искусный и рассудительный историк философии, восхваляет основателя логики, в частности, за его заслуги в развитии силлогизма. Аристотель, по его словам, первым научил строить силлогизмы в соответствии с материей и разумом, что делает возможной логическую последовательность. В качестве доказательства приводится цитата из Аристотеля, которая, конечно, мало о чем говорит – возможно, это недосмотр переписчика148. Затем сфера применения аристотелевской техники силлогизма подчеркивается исторически, путем обращения к доаристотелевской логике. До Аристотеля силлогизмы также использовались, но не в соответствии с научно установленным методом, гарантирующим реальную последовательность, а скорее в соответствии со случайной процедурой, которая вскоре идет то одним, то другим путем и наталкивается на правильное решение скорее случайно. В качестве фактического подтверждения этого общего философско-исторического соображения Отто приводит переданный Боэцием силлогизм Пиата, который в строгой аргументации представлен как ложный в «Analytica priora» Аристотеля149.
Из характеристики отдельных компонентов «Органона», из вставки более длинных цитат, взятых из Эленхена, и из соответствующих замечаний о новаторской деятельности Стагирита в области логики вообще и силлогистической техники в частности достаточно ясно, что Оттон фон Фрейзинг испытывал научное влечение к аристотелевской логике, в частности к ранее неизвестным книгам той же «Logica nova». Поэтому мы не удивляемся, когда Рахевин, капеллан и друг Отто, отмечает как научное деяние своего епископа то, что он, вероятно, первым принес на нашу немецкую родину тонкости книг Аристотеля по топике, аналитике и эленхике. Имя Отто навсегда связано с введением и распространением всей аристотелевской логики в Германии.
Теперь перед нами встают следующие вопросы: Какие переводы «Топики», «Аналитики» и «Эленхики» Аристотеля распространял в Германии Оттон Фрейзингский? Как епископ Фрейзингский пришел к этому латинскому переводу Аристотеля? Для наших целей акцент сделан на первом вопросе, а ответ на него проливает свет на второй. Если мы внимательно посмотрим на отрывки из Аристотеля, цитируемые Отто фон Фрейзингом, то перед нами, с некоторыми вариациями, окажется текст школьной логики последующей схоластики, дошедший до нас в многочисленных рукописях XIII, XIV и XV веков150. Отто фон Фрейзинг имел перед собой тот же латинский перевод «Топики», двух «Аналитик» и «Эленхена», который использовали Альберт Великий и Фома Аквинский в своих объяснениях Аристотеля151. Короче говоря, вопрос об аристотелевских текстах Оттона фон Фрейзинга перерастает в философско-исторически значимый вопрос о происхождении и развитии латинского текста двух «Аналитик», «Топики» и «Эленхена», то есть гораздо более обширной и важной «части логики Аристотеля», которая была доступна последующей схоластике.
В истории философии, вплоть до самых последних времен, люди склонялись к этой точке зрения и высказывали ее с большей или меньшей уверенностью.
Отто фон Фрейзинг привез в Германию «Топику», «Аналитику» и «Sophistici elenchi» в боэтианском переводе. Эту точку зрения до сих пор можно найти, например, в последнем издании Überweg-Heinze152 и в De Wulf153. Однако взгляд на цитаты из Аристотеля, приводимые Отто, убеждает нас в том, что мы имеем дело не с произведением последнего римлянина. Прислушаемся к тому, что сообщает Э. Норден154 о латинстве Боэция: «Самое благородное произведение поздней античности, „Consolatio“ Боэция, написано в тщательно классическом стиле почти восхитительной чистоты. Энергичность его мыслей показывает, что он был поклонником Платона, а энергичность его языка – поклонником Цицерона». Писатель, которому самые выдающиеся авторитеты приписывают такие качества, как стилист и латинист, не мог бы создать латинство, которое мы встречаем в цитатах из Аристотеля Отто фон Фрейзинга и в аналитике, логике и эленхике логиков схоластической школы, и не мог бы совершить такие грамматические нарушения, как parvissimum.
Если Боэций, помимо своих переводов «Категорий» и «Перигерменей», которые по своей латинскости несравненно превосходят «логику нова» средневековой схоластической логики, переводил на латынь и другие логические сочинения Аристотеля, то эти переводы были утрачены. Такое полное исчезновение боэцианского перевода «Аналитики», «Топики» и «Эленхики» тем более поразительно, что переводы Боэция «Категорий» и «Перигерменей» с комментариями и его логических трактатов сохранились в многочисленных рукописях, а также часто встречаются в каталогах средневековых библиотек. Пока не найдены рукописные свидетельства обратного, проще всего будет ограничить переводческую деятельность последнего римлянина в отношении трудов Аристотеля «Категориями» и «Перигерменем».
Даже в Средние века люди не слишком хорошо представляли себе масштабы переводческой деятельности Боэция, о чем свидетельствует замечание Роджера Бэкона: «Et ipse aliqua logicalia et pauca de aliis transtulit in latinum. 155Одним из самых странных литературных упущений является включение переводов «Analytiea priora» и «posteriora», «Topica» и «Sophistici elenehi» в число подлинных сочинений Боэция в базельском издании его сочинений 1546 года, а также у Минье, который воспроизводит базельский текст без изменений. Автором этих переводов является гуманист Иоганн Аргиропулос (ок. 1486 г.), который переложил эти отрывки средневековой школьной логики на более качественную латынь. Этот перевод Аргиропулоса, который использовал, например, Экк 156в своем объяснении аристотелевской логики, до сих пор входит в литературное наследие Боэция, несмотря на то, что Шааршмидт157 и В. Роуз158 обратили внимание на его псевдобоэтианский характер. Заслуга Й. Сехмидлина159 состоит в том, что он вновь привлек внимание к этому сочинению и дал важные подсказки для установления происхождения латинских аналитик, топик и эленхик, цитируемых Отто фон Фрейзингом и заложенных в логике схоластической школы. Совсем недавно, в Пролегоменах к своему изданию «Поликратика» Иоанна Солсберийского, Вебб160 прокомментировал вопрос о переводе этих аристотелевских сочинений и, по общему признанию, поставил под сомнение достоверность выводов Роуза в некоторых областях, не добавив, однако, никаких существенных новых элементов. В следующих замечаниях предпринята попытка суммировать то, что можно с уверенностью сказать на основе исходного материала по этому сложному вопросу, принимая во внимание соответствующую литературу.
Мы, безусловно, можем и должны рассматривать этот перевод Аристотеля как работу итальянских авторов.
Современный интерес обращен исключительно к арабско-латинской переводной литературе Средневековья, поэтому активная деятельность итальянских литераторов по переводу греческих текстов на латынь, кажется, не получила того изучения и оценки, которых она заслуживает.
В первой половине XII века и далее итальянцы развернули активную деятельность по переводу греческих философов и отцов церкви на латынь.
На самом деле в XII веке было довольно много итальянцев, владевших греческим языком161. Этих переводчиков можно разделить на две основные группы, одна из которых непосредственно связана с Византией, а другая – с королевским двором в Палермо.
С первым классом переводчиков мы сталкиваемся в связи со сближением Византии и папства, которое началось в начале XII века. После того как архиепископ Милана Гроссоланус в 1117 году в качестве посланника Пасхария II провел диспут перед императором Алексием Комнином по поводу учения об исхождении Святого Духа от Сына, епископ Ансельм Гавельбергский в 1136 году в интересах унии посетил двор императора Иоанна Комнина162 в качестве посланника Лотаря II. Здесь у него состоялся диспут с архиепископом Никетой из Никомидии. Как сообщал сам Ансельм папе Евгению III, на этом диспуте присутствовали три итальянца, хорошо знавшие греческий и ученые языки, а именно Яков из Венеции, Бургундио из Пизы и Моисей из Бергапио163. Двое из этих итальянцев известны нам как переводчики греческих произведений на латынь. Иоганн Бургундио из Пизы, как мы увидим в другом месте, сделал важные греческие тексты Отцов доступными для латинского Запада благодаря превосходным переводам и тем самым привнес новые аспекты в схоластическую доктрину и метод.
Якоб Венецианский, однако, описывается как переводчик Аристотеля и поэтому представляет для нас особый интерес. В хронике Роберта де Монте под 1128164 годом отмечается: «Iacobus clericus de Venetia transtulit de graeco in latinum quosdam libros Aristotelis et commentatus est, seil.
Topica, Analyticos et priores et posteriores et Elenchos, quamvis antiqua translatio super eosdem libros haberetur.» Даже если эта записка не принадлежит руке Роберта де Монте († 1186), она все равно была написана в XII веке и, безусловно, заслуживает доверия по своей сути. Тирабоски165 высказывает мысль о том, что Якоб Венецианский получил вдохновение для перевода этих аристотелевских трудов в Византии. Действительно, в XI веке аристотелевские исследования там снова процветали. Как в Πανοπλια δογματιχη της ορθοδυξου πιστεως василианского монаха Энфимия Зигабена166 († 1118) и в сочинениях епископа Николая Мефонского 167византийское богословие снова дало образцы лучших усилий и способностей, так и философские исследования в эпоху Комнинов нашли выдающихся представителей в лице Михаила Пселлоса и Иоанна Италоса. Хотя Пселлос, которого Крумбахер168 называет первым человеком своего времени и сравнивает с Альбертом Магнусом и Роджером Бэконом по богатству литературной деятельности, был ярко выраженным платоником, с его именем также связано выживание и возрождение Аристотеля в Византии.
Он также написал комментарии к «Категориям» и «Перигерменению».
Книга Συνοψις εις την Αριστοτελους λογιχην επιστημην, которая выходит под его именем, соответствует на латыни почти ad verbum «Summulae logicales» Петруса Хиспануса, не может служить основанием для ссылки на аристотелевские начинания византийского υπατος των φιλοσοφων, поскольку это сочинение не принадлежит Пселлосу, а, скорее всего, является не чем иным, как греческим переводом вышеупомянутого, широко распространенного логического сборника Петра Хиспана169.
Михаил Эфесский, ученик Пселлоса, и митрополит Евстратий Никейский († около 1120 г.) были активными комментаторами Аристотеля170. Преемником Михаила Пселла в сане υπατος των φιλοσοφων стал Иоганн Италос, резкий и яростный диалектик, написавший, в частности, комментарий к «Перигерменению» и 2-4-й книгам «Топики».
Его труды в основном не редактировались, как и другая современная философская литература.
Иоганн Италос, пользовавшийся большим уважением при византийском дворе, а также использовавшийся в качестве посланника, был, как следует из его имени, итальянцем по происхождению171. Из этого очерка аристотелевских исследований в Константинополе в XI – XII веках, в качестве представителя которых мы также сталкиваемся с итальянцем по происхождению, должно показаться правдоподобным и понятным, как Якоб Венецианский мог вдохновиться на аристотелевские исследования и на перевод аристотелевских сочинений на латынь во время своего, безусловно, длительного пребывания в Византии.
Вторая группа переводчиков, к которой принадлежат Вл. Роуз172 и позднее 0. Хартвиг 173обратили на нее более подробное внимание, была основана в Нижней Италии и Сицилии. В течение долгого времени Нижняя Италия была местом встречи греческой и латинской культуры и литературы. В X веке, в благоприятную для науки эпоху императора Константина Багрянородного (912—959), мы встречаем архипресвитера Льва в качестве переводчика174.
В следующем веке архиепископ Альфанус из Салерно (ум. в 1085 г.) был не только автором гимнов, но и переводчиком греческих текстов175, а его друг, монах Константин Африканский, стал источником физиологических знаний благодаря своим переводам греческих и арабских медицинских трудов (Гален, Гиппократ, Исаак Израильский) и собственным работам, особенно для Аделарда из Бата и Вильгельма из Конча 1. В XII веке сицилийско-норманнские короли Роджер I и его сын Вильгельм I Злой были щедрыми покровителями научных начинаний. При их дворе в Палермо, в частности, развивалась активная деятельность переводчиков.
Первый министр Вильгельма, гросс-адмирал Маджо из Бари, сам научно образованный и грамотный человек, вместе с архиепископом Гуго из Палермо поощряли архидиакона Генриха Аристиппа из Катании, уроженца Северины в Калабрии (ок. 1162 г.), переводить греческие философские и патристические труды. Из-под его пера, несомненно, вышли переводы платоновских диалогов «Менон» и «Федон», а также четвертой книги «Метеорологии» Аристотеля. В прологе к своему переводу «Федота» он предоставляет своему другу Роборату Фортуне каталог классических авторов, доступных сицилийским ученым, и в то же время обращает внимание на другого превосходного знатока греческой литературы, Теодора из Бриндизи.
Генрих Аристипп также планировал перевести труды Григория Назианзского и книги Диогена Лаэрция «De vita philosophorum» по просьбе гросс-адмирала Майо и архиепископа Гуго Палермского. Осуществил ли он эти планы или ему помешало назначение во главе дела, сказать с уверенностью невозможно.
В. Роуз176 высказывает предположение, что Генрих Аристипп также переводил логические труды Аристотеля177. На это предположение наталкивает фраза из «Металогики» Иоанна Солсберийского: «Gaudeant, inquit Aristoteles, species; monstra enim sunt, vel secundum novam translationem cicadationes». 178Здесь Иоанн Солсберийский воспроизводит цитату из «Аналитики постериорной» Аристотеля в двух чтениях, которые указывают на два перевода. Этот «новый перевод», в котором аристотелевское τερετισματα переводится как cicadationes, не является тем, который был передан среди работ Боэция и о котором мы узнали выше как о работе Якова Венецианского.
Ибо в этом переводе мы находим перевод аристотелевского τερετισματα с monstra, впервые упомянутого Иоанном Солсберийским. Таким образом, этот «новый перевод» отличается от перевода Иакова Венецианского. Кто же написал этот «nova translatio»? Как уже упоминалось, В. Роуз предполагает, что этот «nova translatio» – работа вышеупомянутого Генриха Аристиппа из Катании, уроженца Северины в Калабрии, и основывает эту идентификацию на отрывках из Иоанна Солсберийского, где он говорит о «Graecus interpres», о «interpres» в целом179. Этот «Graecus interpres», с которым Иоанн Солсберийский лично встречался в Апулии, по его свидетельству, хорошо знал латинский язык и natione Severitanus. Генрих Аристипп, однако, родом из Северины в Калабрии. Однако текстов Иоанна Солсберийского недостаточно для того, чтобы с уверенностью доказать, что Генрих Аристипп был автором «нового перевода». Ведь даже если «Graecus interpres* идентичен Генриху Аристиппу, это не доказывает, что именно этот Генрих Аристипп создал «nova translatio». В том месте, где Иоанн Солсберийский говорит о «interpres» в письме к своему бывшему учителю Ричардусу, архидиакону Констанции, неясно, имеет ли он в виду «Graecus interpres».
Даже если в этом «quaestio diffieillima», как называет его Уэбб180, не будет принято окончательного решения, до того как будут найдены новые материалы, восполняющие пробелы в доказательствах, гипотезу Валентина Розы следует считать вероятной.
Кстати, этот «новый перевод», судя по всему, не получил широкого распространения. Перевод аристотелевских «Аналектов», «Топики» и «Эленхики», которым пользовались схоласты, был, как свидетельствует рукописная традиция, переводом Якова Венецианского.
Что касается распространения аристотелевских «Аналектов», «Топики» и «Эленхики» во второй половине XII – начале XIII века, то мы редко встречаем эти сочинения в каталогах монастырских библиотек этого периода.
В каталоге монастырских библиотек этого периода мы редко встречаем эти сочинения. В каталоге бенедиктинского монастыря Энгельберг от 1175 года он отмечен под №49 и 50: Regule de declinatione. Porfirius predicamenta piermenie analitica über sillogismorum181. Части этой новой логики можно увидеть в разделе «analitica* и, возможно, также в разделе «über sillogismorum». В каталоге церкви Святого Петра в Зальцбурге того же времени под №49 упоминается: «Plato metaphysica et topica Aristotelis.182 Самой древней известной рукописью большинства этих аристотелевских сочинений, несомненно, является «Гептатевхон» Тьерри Шартрского. Если новая логика не так быстро завоевала монастырские библиотеки, это не означает, что эти вновь открытые аристотелевские сочинения не нашли распространения в то время и не оказали никакого влияния. В специальном разделе этого тома мы часто сможем распознать следы этого влияния в произведениях «Сентенций». В Париже, где процветали диалектические исследования и откуда пришло вдохновение для большинства «Сентенций» и «Суммаций», эта часть логики Аристотеля, несомненно, была принята как более важная. Конечно, нельзя отрицать, что в рукописных собраниях Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Виктор, Сорбонна, Нотр-Дам и т. д., как и в Парижской национальной библиотеке, сохранились только кодексы «Новой логики» XIII века. С XIII века сохранилось значительное количество рукописей «логики новой и ветеринарной*, некоторые из которых прекрасно написаны и украшены содержательными миниатюрами, особенно в Парижской национальной библиотеке183.
О том, насколько к концу XII века логика Аристотеля, особенно в тех ее частях, которые стали известны недавно, завоевала симпатии ученых, и о том, насколько возросло увлечение Аристотелем в научных кругах, наглядно свидетельствует похвала, которую Александр Нее обрушил на Стагирита в своем труде «De naturis rerum». Этот эклектичный английский писатель, непредвзято относившийся к научной жизни и начинаниям своего времени и особенно не любивший нездоровой гипердиалектики, особенно высоко оценил заслуги Аристотеля в технике силлогизма, имея в виду здесь аналитику, топику и эленхику. Восхвалять философский гений этого греческого мыслителя кажется ему чем-то лишним, таким же ненужным, как пытаться помочь солнечному свету факелами. На рубеже веков Платон отошел на второй план перед Аристотелем в суждениях научного мира. Открытие основных философских трудов Аристотеля (метафизики, физики, психологии, этики и т.д.)184 вместе с арабской комментаторской литературой окончательно раскрыло все значение стагиритского философа для схоластики.
Появление аристотелевской реальной и моральной философии на научном горизонте западной схоластики пришлось на период, которому посвящен второй том истории схоластического метода. В XII веке активно действовала толедская школа переводчиков. Пьер Дюэм185 пытается доказать знание аристотелевской физики в Шартрской школе.
Метафизика Аристотеля уже цитируется в глоссах Петра из Пуатье.186 Робер из Осера 187сообщает в своей хронике, что за несколько лет до 1210 года в Париже стали известны аристотелевские книги под названием «De naturali philosophia» – под которыми следует понимать, в частности, физику. В 1210 году архиепископ Сен-Санса, Петр из Кербейля,188 епископ Парижа и другие епископы, собравшиеся в Париже, издали указ, запрещающий публичное и частное чтение книг Аристотеля «De naturali philosophia» и (арабских) комментариев к ним под страхом отлучения. Пять лет спустя, в августе 1215 года, кардинал Роберт Куршонский189, отвечавший за организацию университета от имени папы в Париже, запретил читать «Метафизику» и «Физику» Аристотеля, а также комментарии к ним. Этот запрет на Аристотеля был смягчен, когда Григорий IX в письме от 13 апреля 1231 года оговорил, что Аристотель запрещен только до тех пор, пока не будет проведена серьезная экспертиза этих аристотелевских сочинений190, и тут же, 23 апреля 1231 года, поручил экспертам провести эту экспертизу191. Даже если все эти этапы истории и судьбы «нового» Аристотеля в парижском университете укладываются во временные рамки данного тома, даже если мы уже столкнемся с влиянием этих аристотелевских сочинений у Вильгельма Осерского и Филиппа Греве, обобщающее изложение и оценка переводов метафизики, физики, психологии, этики и т. д. Аристотеля с арабского и греческого последуют только в конце третьего тома.
Причина этого в том, что только в собственно высокой схоластике можно говорить о действительно решающем влиянии этих компонентов аристотелевской литературы, которые изменили как содержание, так и метод.
§4 XII век и литература Отцов. Передача и использование патристических текстов. Переводы греческих отцов (Иоанн Дамаскин)
XII век не только пополнил философскую библиотеку западной схоластики, но и открыл для нее ряд патристических источников. Эти труды, в основном греческих отцов, ставшие доступными для западной мысли, оказали длительное влияние на схоластическую доктрину и метод. Поэтому мы должны обратить более пристальное внимание на активных переводчиков, которые примерно в середине XII века сделали важные греческие труды Отцов доступными для схоластики на латыни, тем более что влияние греческой патристики на развитие схоластики с середины XII века до эпохи св. Фомы Аквинского недостаточно изучено и оценено192.
Однако прежде необходимо составить представление о том, как схоласты XII и начала XIII века использовали патристическую литературу. Именно использование текстов Отцов является основной функцией теологического подхода схоластики. Если влияние философской литературы шло в основном по линии ratio, то рост патристических материалов означал в основном укрепление и консолидацию второго движущего фактора схоластики, а именно auctoritas. Однако труды Отцов, особенно труды греческих патристиков, которые были каталогизированы в XII веке, также предлагали множество философско-спекулятивных элементов и стимулов, а также оказывали благотворное влияние на ratio.
Поскольку специальный раздел этого тома даст возможность осветить позицию отдельных схоластов по отношению к Отцам, здесь может быть представлена более общая картина, суммирующая рутины и методы использования Отцов, общие для всех или большинства схоластов, т.е. характерные для всей эпохи. Время от времени контекст и завершение хода мысли будут наводить на мысль о переходе к временам высокой схоластики.
Главный вопрос, который волнует нас при изложении использования Отцов в схоластике, заключается в том, черпали ли богословы этого периода свои патристические знания из оригиналов, из трудов самих Отцов, или же их патристические знания были заимствованы из флорилегий, сборников цитат, то есть из второго источника.
Часто считается, что богословие ранней и даже высшей схоластики в значительной степени, почти исключительно, черпало тексты и знания об Отцах не из свежих бурлящих источников трудов самих Отцов, а скорее из резервуаров таких катехизисов и флорилегий. «Если они (схоласты), – замечает Г. В. Гертлинг,193 – цитируют какое-либо высказывание, это еще не доказывает, что они имели перед собой сочинение автора, из которого оно взято, и что они знают контекст, в котором оно там находится. Во многих, а может быть, и в большинстве случаев, они будут обязаны ему сборником предложений, и они могут процитировать его так, как оно отложилось в их памяти, не чувствуя необходимости и не признавая обязанности проводить сравнение с оригиналом». Ж. де Геллинк 194также приводит доводы в пользу того, что в схоластике XII и XIII веков отрывки из Отцов обычно брались из Сборников. В доказательство этого он указывает на «Tabulae alphabeticae», «Tabulae originalium», «Tabulae de concor dantiis quorumdam originalium», «Tabulae in Augustinum», «Tabulae in Anselmum», «Tabulae in Damascenum» и т. д., которые встречаются в многочисленных рукописях, как источники цитат из Отцов.
По мнению де Геллинека, этот обычай брать изречения Отцов из таких сборников цитат проявляется в постоянстве и единообразии цитат, в их порядке, в повторении одних и тех же текстуальных искажений и неправильных атрибуций. Подобное отцовское использование также связано с безличным характером академической жизни и мысли того времени, с тем, как велась вся «Schulbetrieb», в которой цитаты, как и тетради и вопросы, передавались по наследству, и, наконец, с тогдашним представлением о литературной собственности.195
Что же нам делать с этими взглядами Гр. в. Гертлинга и Ж. де Геллинка на схоластическое отцовское знание и отцовскую утилизацию? Несомненно, эта точка зрения правильно отражает среднее использование Отцов, поскольку оно уже стало естественным в богословских школах и в соответствующей литературе афоризмов, сумм и вопросов до середины XII века и продолжало оставаться таковым в последующий период. Однако здесь мы должны вместе с Г. Денифле провести границу между школой и отдельными теологами. Богословы ранней и высокой схоластики – Денифле имеет в виду Фому Аквинского и Бонавентуру – проводили обширные исследования патристических источников.
По словам Денифле, «систематика и диалектический метод все больше и больше отодвигали на задний план изучение Отцов, как это практиковалось в XI и отчасти в XII веке, особенно в монастырских школах».
Систематический подход, стремление кратко изложить основные положения христианской доктрины в виде пособия – вот что породило афоризмы XII века. Здесь существует двоякая возможность, поскольку систематика заключается либо во внутреннем развитии отдельных частей и направлений мысли из метафизико-диалектических и догматических основных законов и принципов, либо в более внешней классификации и схематизации материала знания. В первом случае, когда речь идет скорее о системе развития, спекулятивное богословие обязано представить в единой и действенной картине внутренние связи тайн христианства, органику и прагматику доктрины откровения, основные архитектурные законы, управляющие сверхъестественным зданием истины. Схоласты, чьи умы стремились к таким целям, должны были погрузиться в мысли Отцов, особенно в мысли Августина. Им не помогали вырванные из контекста цитаты из Августина; движущей силой их работы была августиновская мысль, августиновский образ мышления. Изучение источников было необходимым условием для этого. С Ансельмом Кентерберийским как систематизатором такого рода мы столкнулись на пороге ранней схоластики, а в этом томе – прежде всего с Хью Сен-Викторским.
Во втором случае, когда речь идет скорее о системе расположения,196 более позитивное богословие ставит перед собой задачу представить изречения Отцов об отдельных истинах веры в хорошей подборке и в четком расположении. Такая работа, особенно если она делается не впервые, а основывается на образцах, вполне может быть выполнена и без последовательного изучения патристических источников, с помощью одних лишь сборников цитат, катен, флорилегий и более ранних работ с афоризмами.
Цель такой системы заключалась в том, чтобы предложить студентам и читателям замену трудоемкому и кропотливому изучению полных патристических трудов с помощью патристического чтива, сгруппированного по определенной тематике. В прологе к «Сентенциям Петра Ломбардского» выражен замысел собрать изречения Отцов «brevi volumine», в удобном томе, чтобы избавить читателя от необходимости трудиться над обширной литературой Отцов (librorum numerositas)197. Эта идея не является единичной, но повторяется в самых разных вариациях, как покажет нам специальный раздел.
Преобладание диалектики в области богословия принесло гораздо больше пользы патристическому источниковедению, чем систематике. Неудивительно, что те, кто выступал против диалектики и гипердиалектики, также жаловались на упадок патристических исследований198. В диалектическом методе есть тенденция, когда он выходит за пределы своей задачи, зацикливаться на отдельных словах, понятиях и предложениях и игнорировать содержательные точки зрения и внутренние связи. Диалектик подходит к текстам Отцов средствами словесной логики и рутинами силлогистического искусства. Для него связное изучение патристических писаний, демонстрация связей и ходов мысли не представляет собой полезного поля деятельности; с другой стороны, отдельные предложения из писаний Отцов, особенно если они кажутся противоречащими самим себе или какому-то вероучительному пункту, предоставляют широкие возможности для испытаний и ухищрений диалектических методов толкования, различения и согласования.
Поэтому вполне понятно, что во времена ранней и высокой схоластики односторонние диалектические течения всегда были связаны с атомизирующим отношением к текстам Отцов, и что в конечном итоге преобладание такого направления привело не только к упадку изучения Отцов, но и к упадку схоластики.199
Схоластика XII и XIII веков постоянно черпала силы и энергию из вновь поступающих философских и патристических источников, которые оживляли и оплодотворяли почву схоластики, местами пересохшую от чрезмерной диалектики.
Помимо систематики и диалектики, влияние канонических сборников200 также должно рассматриваться и приводиться в качестве причины того, что знания об Отцах приобретались из отрывков и флорилегий, а не из самих патристических произведений. Действительно, довольно большое количество текстов из Отцов было взято из этих юридических сборников и включено в богословские афоризмы. В частности, сакраментальная доктрина Сентенций и Суммаций, как будет показано в специальной части, питается патристическими материалами Декрета и Панормии Иво Шартрского, а затем и «Pecretum Gratiani*». Как уже было показано в первом томе нашей истории схоластического метода, метод sic-et-non, техника согласования противоречащих друг другу патристических текстов и канонов из канонической литературы (Бернольд Констанцский), также был воспринят богословием. Как будет показано в специальном разделе, посвященном «Sie et non» Абеляра, именно благодаря Абеляру этот метод согласования приобрел диалектическую тенденцию, менее благоприятную для последовательного изучения патристики.
Конечно, не следует упускать из виду, что канонические сборники оказали благоприятное и поддерживающее влияние на патристические исследования и в других отношениях, поскольку, представляя новый, часто вполне связный материал, они пробуждали жажду материала, желание получить больше от отца или богослова, о котором идет речь, и помогали богословию сохранить консервативную положительную черту по отношению к диалектике.
Если систематика, диалектика и, в некоторой степени, канонические коллекции были причинами упадка патристического источниковедения, мы можем увидеть симптом, эффект этого изменения в научном предприятии, в заметном уменьшении рукописей Отцов в библиотеках с конца XII века201. Действительно, среди многочисленных августинских рукописей в Ватиканской библиотеке, Королевской библиотеке Брюсселя, Национальной библиотеке Парижа и т. д. сравнительно мало кодексов XIII века202. Если библиотечные каталоги X, XI и XII веков имеют ярко выраженный патристический характер, то начиная с XIII века не наблюдается роста патристических фондов, зато значительно увеличивается количество богословских вопросов, quodlibeta, opuscula и т. п. Люди теперь предпочитали писать «Tabulae originalium», в основном алфавитные сборники auctoritates patrum, и все больше отходили от копирования великих трудов Отцов. В некоторых случаях небольшие, связанные между собой трактаты отцов и богословов объединялись в рукописные сборники.203
Даже если использование Отцов в диалектически ориентированных школах и трудах рассматриваемого нами периода основывалось в основном на сборниках цитат, сборниках права, патристических флорилегиях и катенах, богословских трудах афоризмов, а позднее также на алфавитно упорядоченных «Tabulae originalium», отдельные богословы поднимались над уровнем школы и проявляли чувство и склонность к последовательным патристическим источниковедческим исследованиям.
В специальной части мы встретимся с подобными августинианскими исследованиями первых десятилетий XII века, затем у Гуго Сен-Викторского и некоторых его учеников, услышим похвалу знакомству Жильбера де ла Порри с Илариусом, в третьем томе подробного рассмотрения потребуют патристические исследования святого Фомы Аквинского и святого Бонавентуры. Здесь же упомянем лишь несколько более общих моментов и несколько голосов, которые уже не слышны в специальной части. Прежде всего, энтузиазм в отношении святого Августина, который также доносится до нас из сочинений XII века, является знаком и свидетельством погружения в труды величайшего из Отцов. Например, для Иоанна Солсберийского204 Августин – это «доктор экклесии, который не может быть сатис мемори эссе». Петр Коместор205 говорит в своих «Проповедях»: «Hec omnia in patre Augustino, qui libros eius inspexerit diligenter, indubitanter cognoscit.» Это высказывание высокочтимого и влиятельного богослова предполагает как его собственное знание трудов Августина, так и доверие к августиновским источникам со стороны некоторых читателей.
Готфрид фон Санкт-Виктор 206поэтически выразил свой восторг по поводу Августина в «Praeconium Augustini». Роберт Мелунский 207восхвалял Августина как «lumen Ecclesie de tenebris gentium ad fidem vocatum».
Авторы патристических сборников или даже сочинений афоризмов часто сами проводили глубокое изучение патристических источников. Например, в рукописи из Гренобля, рассмотренной П. Фурнье,208 сообщается о некоем магистре А., что он посетил бесчисленное количество монастырей и церквей во Франции, Испании, Италии и Греции из-за вопроса о доктрине Троицы, что он перебрал «бесчисленное множество», проработал огромное количество патристических сочинений о доктрине Бога и Троицы и, наконец, изложил плоды своих исследований в «Собрании» аукторитатов.
Еще одна причина, по которой чувство и понимание патристического источниковедения неоднократно стимулировалось, – это стремление к новым сочинениям Отцов, патристический голод на материал, который в XII веке удовлетворялся латинскими переводами греческих сочинений Отцов и который по-прежнему требовал широкого знания греческой патристики в эпоху высокой схоластики.209 Из этих объяснений, которые будут дополнены в специальном разделе, должно быть ясно, что знание Отцов в схоластике XII и XIII веков не следует сводить исключительно и без исключения к заимствованиям из сборников цитат, но что приятное погружение в сами патристические оригиналы можно наблюдать и у отдельных богословов. Особенно это касается тех схоластов, которые чувствовали тягу к мистическому созерцанию и чье стремление к более глубокому познанию Бога и проникновению в жизнь человеческой души привело их к августиновскому миру мысли и образу мышления.
В связи с вопросом о том, откуда схоласты черпали свои тексты Отцов, можно сказать и о зависимости средневековых мыслителей этого периода от auctoritas Отцов. В целом в этом отношении можно выделить три основные формы – отдельные аспекты будут обсуждаться при рассмотрении отдельных схоластов.
Те мыслители, которые, следуя по пути Ансельма Кентерберийского, не цеплялись за слова Отцов, но погружались в мыслительные процессы Отцов, прежде всего Августина, ощущали авторитет Отцов как живительную силу и позволяли мыслительному миру патристики воздействовать на их правдивые души в размышлениях и спекуляциях. Для теологов идеалистического склада характера Гуго Сен-Викторского Августин был не комплексом предложений и афоризмов, освященных великим именем, а миром великих, животворящих идей и идеалов. Духовная жизнь таких людей находилась не только под влиянием доктрины, но и была мощно захвачена всепоглощающей личностью Августина210.
Другие, более позитивные духи, старательно нанизывавшие предложения и афоризмы Отцов, получавшие больше удовольствия от механического накопления формул и изречений патристики, чем от органичной проработки патристических мыслительных процессов и контекстов, видели в auctoritates patrum канон, непреодолимый предел для богословской работы.
Поэтому они стремились представить теологию как мозаику из текстов Отцов. Во многих случаях их собственная работа заключалась лишь в установлении внешних связей между этими патристическими предложениями. Из этой более механической зависимости от авторитета Отцов можно понять, что анонимный автор в Clm 12667 (s. XIII), fol. 30v, хочет разобраться и решить вопрос о том, как молитвы и жертвы Церкви могут быть соединены с божественным предвидением «nihil nostrum dicendo, sed patrum dicta sequendo».
Третий нюанс позиции в отношении отцовского авторитета прослеживается у тех богословов, которые в первую очередь использовали диалектическое искусство. Здесь отдельные предложения Отцов часто используются для диалектических умозаключений и различений, как правило, без учета контекста и цели патристического писания, из которого эти вырванные из контекста дикты взяты. При этом изречения Отцов, которые выдерживают это диалектическое испытание, квалифицируются как auctoritas. Предложения Августина также подвергаются многочисленным переинтерпретациям и искажениям. Например, в «Вопросах» Одо из Оурскампа211 предложение святого Августина однажды разрешается словами: «Ad quod dicimus multa dixisse Augustinum, non quia sie sentiret, sed retraetando aliorum sententias, vel ut videret, ad qufem finem disputatio procederet.»
Если после этих объяснений методов использования Отцов мы обратимся к патристическим библиотекам XII и начала XIII веков и рассмотрим снабжение патристики материалами через переводы греческих сочинений Отцов, то взгляд на библиотечные каталоги и анализ источников схоластических сочинений сразу покажет нам, что западная схоластика до середины XII века работала в целом только с материалами латинской патристики. Ранние латинские переводы греческой патристической литературы, такие как «Периархон» Оригена и экзегетические сочинения в переводе Руфина, речи Василия и Григория Назианзского также в переводе Руфина, девять гомилий на Гексамерон Василия после перевода Евстафия Афера, а также отдельные произведения святого Иоанна Златоуста в переводах Аниана и Мутиана, вероятно, сохранились в рукописных собраниях средневековья.
Фрагменты других греческих отцов также сохранились в латинских коллекциях. Но вряд ли можно говорить о каком-либо реальном влиянии текстов этих греческих отцов в первые десятилетия XII века. Даже труды Псевдо-Дионисия Ареопагита, переложенные на латынь Скотом Эриугеной, не оказали особого влияния на богословие того времени.
Из латинских отцов главным источником и первым авторитетом считается Августин, за которым лишь на значительном расстоянии следуют другие латинские отцы212. Эрлангенская рукопись (Cod. 238 p. XII) «Суммы сентенций», приписываемая Гуго Сен-Викторскому, содержит на полях названия цитируемых и используемых источников. Согласно им, в ней 215 цитат из Августина, 35 – из Григория Великого, 26 – из Иеронима, 22 – из Амвросия, 14 – из Исидора, 6 – из Беды, 4 – из Киприана, 3 – из Оригена.
По две цитаты приводится у Льва Великого, Псевдо-Дионисия и Хаймо, по одной – у Боэция, Фульгенция, Евсевия, Рабануса и Платона.
Сильная озабоченность XII века вопросами доктрины Троицы и христологии также привела к тому, что богословские труды Боэция приобрели заметное влияние, особенно после появления Жильбера де ла Порри с его сенсационным комментарием к ним. По той же причине возросла и репутация святого Илария из Пуатье, чье сочинение «De trinitate» было взято в качестве фрагмента и снабжено введениями на основании авторитета этого отца.213
Эта патристическая библиотека, которой располагала схоластика в первой половине XII века, теперь существенно обогатилась и значительно расширилась для схоластического метода и доктрины благодаря тому, что с середины этого светского периода ряд греческих сочинений Отцов обогатил и стимулировал западную научную жизнь и начинания посредством латинских переводов.
Эта переводческая деятельность связана с именем правоведа Иоганна Бургундского из Пизы († 1194 г.)214, который присутствовал на диспуте между епископом Ансельмом Гавельбергским и архиепископом Никетой Никомидийским в 1136 г. вместе с Якобом Венецианским и Моисеем Бергамским в качестве переводчика, хорошо знавшего греческий язык, и который впоследствии своими переводами греческих произведений привлек интерес папы Евгения III и императора Фридриха Барбароссы. Кроме перевода «De regimine sanitatis» Галена, который приписывается ему в рукописях215, он в основном переводил отцов церкви. Согласно заметке в Хронике Роберта Монтского, Бургундио из Пизы принес на Римский собор (1180) свой перевод гомилий Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна и одновременно заявил, что перевел большую часть его гомилий на Бытие. Кроме того, в ряде рукописей сохранился перевод комментария Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея, выполненный Бургундио.216
Он также частично перевел труд Περι υσεως епископа Немесия Эмесского,217 который в Средние века считался произведением Григория Нисского и уже был переведен ранее Альфаном (XI век).218
Бургундио сделал выдающийся вклад в схоластическое богословие и философию, переведя третью часть Πηγη γνωσεως Иоанна Дамаскина, а именно Εχδοσις αχριβης της ορθοδοξου πιστεως (De fide orthodoxa), на латынь примерно в середине века – Робер де Монте упоминает 1151 год. В результате схоластика поздней греческой патристики вступила в контакт с латинской западной схоластикой и привнесла в нее новые методологические точки зрения и идеи, а также новые материалы. В частности, учение о Троице и христология XII века были во многом обогащены и ориентированы, особенно в терминологическом отношении, главным догматическим трудом святого Иоанна Дамаскина, который подвел итог всей предшествующей греческой патристике и систематизировал знания об истине, полученные в тринитарных и христологических битвах. Схоластическая психология также была развита Иоанном Дамаскиным. Подробные свидетельства влияния этого греческого богослова на схоластический метод будут представлены в специальном разделе данного тома и в третьем томе. «Мы должны будем прокомментировать первое вхождение Иоанна Дамаскина в мир схоластической мысли в Petrus Lombardus, который, вероятно, впервые использовал сочинение «De fide orthodoxa» или его часть, и в Gandulphus.219
Начиная с Петра Ломбарда, Гандульфа, Иоганна Корнубийского и т. д. и вплоть до времен высокой схоластики, мы продолжаем встречать цитаты из сочинения «De fide orthodoxa» и выражения уважения к его автору. В прекрасно написанной и великолепно иллюминированной Базельской рукописи (0) II24 (стр. XII) за комментарием Жильбера де ла ПорреяВ к Боэцию следуют отрывки из Иоанна Дамаскина, причем последний* представлен с почетными словами «Ioannes Damascenus in libro de trinitate inter grecos magnus»220 Cod. Лат. 873 Мазаринской библиотеки содержит пояснение к «De fide orthodoxa*», начиная с листа 79 и далее, написанное по методу комментариев к предложениям. О влиянии св. Иоанна Дамаскина на психологические дискуссии см. анонимный трактат в Cod. lat. 15952 (p. XIII) Парижской национальной библиотеки (fol. 245—260). В нем подробно рассматривается разделение сил души в соответствии с учениями философов, врачей, святого Иоанна Дамаскина и святого Августина. В самом начале дискуссии обсуждается определение души Дамаскина, который прославляется как «iohannes damascenus, magnus theologus, medicus, philosophus».
Труды Псевдо-Дионисия Ареопагита были доступны ранней схоластике в переводе Иоганна Скота Эриугены. В конце XII века бенедиктинец Иоганн Сарацинус также работал над переводом Ареопагита221.
Глава четвертая. Научные тенденции и контрасты
§1 Значение мистицизма для схоластики и схоластического метода. Руперт из Дойца, Бернар из Клерво, Вильгельм из Сен-Тьерри, Томас Галло
При рассмотрении интеллектуальной жизни XII и начала XIII веков нас особенно привлекают мистические начинания и течения, которые во многих отношениях оказали стимулирующее влияние на развитие схоластического метода. Мнение о том, что схоластика и мистика – противоположности, оказалось научным мифом благодаря эпохальному исследованию источников, проведенному Денифле.222
Таким образом, эта точка зрения исчезла и из работ, носящих признаки серьезной учености.
Лучшее фактическое доказательство родства схоластики и мистики заключается в том, что оба направления средневековой интеллектуальной жизни так часто и так характерно перетекали в одну и ту же личность, не нарушая единства душевной жизни. Великая фигура Ансельма Кентерберийского, отца схоластики, привлекает нас не только гениальностью своих умозрений, но и близостью своего мистицизма. Гуго и Ричард Сен-Викторский, вместе со святым Бернардом наиболее влиятельные представители мистических начинаний в XII веке, были, особенно первый, в то же время выдающимися схоластами, а Альберт Великий и Фома Аквинский, наоборот, были практиками и теоретиками мистицизма. Мейстер Экхарт также предстает перед нами как схоласт в своих латинских трудах. В целом, многих мыслителей этого времени характеризует одна большая универсальная черта. Даже в ранней схоластике и на пороге высокой схоластики мы часто встречаем людей, которые писали библейские комментарии, богословские афоризмы или проповеди, литургические и аскетико-мистические трактаты с щедрым универсализмом и безграничным творческим энтузиазмом, которые иногда пробовали свои силы в церковной поэзии и в конечном итоге также развивали полезную практическую деятельность в церковно-политических миссиях или на епископских кафедрах.
Совпадение схоластики и мистики в одном и том же мыслителе – черта и признак дальновидного универсализма.
Даже из фактических соображений содержания схоластика и мистика предстают перед нами не как противоположности, а как тесно связанные и родственные элементы средневековой интеллектуальной жизни, в сущности, как две разные стороны одного и того же. Ведь оба направления пересекаются на одной и той же общей почве религиозного интеллектуализма.
Религиозное познание, в котором практически активен мистицизм и над которым размышляет спекулятивный мистицизм, – это, по сути, то же самое религиозное познание, которое выражено в «Credo, ut intelligam» Ансельма как рабочая программа схоластики.
Мистики, как авторы мистических сочинений, записывавшие свою внутреннюю религиозную жизнь, так и теоретики мистицизма, например, Фома Аквинский, Дионисий Картузианский и другие, используют фразы и термины, выражающие фундаментальную важность познавательной деятельности для мистицизма. «Vita contemplativa», – замечает Аквинский, – «quantum ad ipsam essentiam pertinet ad intellectum».223 С другой стороны, схоласты, от Ансельма до Фомы и далее, подчеркивают необходимость сверхъестественных этических предрасположенностей для плодотворной работы богословской спекуляции. В частности, дары Святого Духа рассматриваются как крылья, на которых душа взлетает к вершинам богословского познания, а также к горам мистического созерцания.
Одна из главных причин тесной связи между схоластикой и мистицизмом кроется в общности патристических источников.
Святой Августин был свежим источником жизни как для схоластики, так и для мистицизма. Псевдо-Дионисий также оказал влияние на оба направления средневековой интеллектуальной жизни.
Псевдо-Ареопагит предложил схемы, термины и формулы специально для теории мистицизма; форма Ареопагита сформировала, по меткому выражению К. Бихлмайера,224 «скелет мистической спекуляции». Августин придал мистической мысли, стремлению и жизни большое содержание и мощные импульсы; он оживил и укоренил мистическое благочестие.
Именно настроение исповеданий Августина излилось на мистицизм Средневековья225.
Таким образом, схоластика и мистика – это не противоположности, а корреляты. В своей глубинной сущности оба они ориентированы на интеллект, но схоластика в своем полном развитии остается преимущественно на почве интеллектуализма, тогда как в мистицизме действуют аффективные силы, прежде всего любовь, не теряя, однако, своей интеллектуалистической ориентации. Мистицизм стремится усвоить и пережить доктрину богообщения, заложенную схоластикой. Место схоластики – кафедра. Схоластика хочет быть учебным материалом, отсюда ее безличная, интеллектуальная форма, отсюда преобладание логической рутины и метафизических доктрин. Мистицизм процветает в тихой монашеской келье, это диалог души с Богом, мышление, желание и чувство, оплодотворенные сверхъестественными силами, хотят вступить в контакт с Богом самым интимным и внутренним образом, который только возможен в этом мире. Вот почему мистика обладает притягательностью оригинального и личного и почему психологические моменты выходят в мистике на первый план.
Наши предыдущие рассуждения о взаимоотношениях схоластики и мистики, о тесной связи, а также о своеобразии обоих явлений средневековой интеллектуальной жизни служат основанием для рассмотрения вопроса о том, повлиял ли мистицизм на развитие схоластического метода и в какой степени.
На самом деле можно выделить различные формы и моменты такого влияния.
Прежде всего, мистицизм в XII веке был полезным противовесом преобладанию гипердиалектики в богословской сфере. В частности, из мистических кругов, как мы увидим ниже, раздавались голоса протеста против вторжения гипердиалектики в теологическую область. Если эта реакция против разрастания диалектики часто заходила слишком далеко и доходила до борьбы даже с уместным использованием диалектики, она, тем не менее, оказывала благотворное влияние на теологический подход и способствовала его развитию, подчеркивая содержательные, фактические аспекты и защищая их от диалектического формализма. При таком сохранении содержания само собой пробуждается ощущение и понимание взаимосвязей христианских тайн, что стимулирует единое, обобщающее изложение теологии, теологическую систематику. Именно в мистицизме есть тяга к единству, центростремительная сила, стремление рассматривать все сверхъестественные истины и события в Боге как их происхождение и конечную цель; как отмечает Й. Зан226, мистицизм стремится к «теоцентрическому пониманию доктрины». Духу и сущности мистицизма соответствует следование намерениям божественной мудрости и благости в организации естественного и сверхъестественного порядка, позволение телеологии порядка спасения пройти мимо созерцающего духа, понимание христианства как космоса божественных мыслей, фактов и сил.
Все эти элементы говорят в пользу систематического подхода к христианской доктрине. Диалектическая же трактовка богословских предметов, особенно когда она чрезмерно активна, любит спорить о предложениях и формулах, легко цепляется за мелкое и ничтожное, слишком много движется по периферии и теряет из виду центральные точки зрения и органические связи. Эта, так сказать, атомизирующая функция односторонней диалектической операции препятствует развитию единой общей перспективы теологии.
Мистицизм также бросил вызов схоластике в ее основе, в отношениях между верой и знанием, в стремлении к
рационального проникновения в содержание веры. Именно благодаря мистицизму в средневековой мысли сохранилась августиновская идея227 о том, что продвижение веры к прозрению отчасти обусловлено сверхъестественными факторами, особенно дарами Святого Духа (donum intellectus). Схоластика осознавала таинственный характер содержания откровения даже в те времена, когда она привлекла всего Аристотеля на службу теологии и серьезно относилась к аристотелевской концепции науки, и в основном была защищена от рационалистических тенденций. В специальном разделе этого тома, и особенно в третьем томе, мы увидим, что в воззрениях схоластов на природу и метод теологии, при более тщательном анализе, обнаруживаются мистические влияния и элементы228.
Мистицизм был хранителем традиционных ценностей, защитником авторитета Отцов. Именно из кругов мистиков богословы-диалектики получили напоминание об auctoritas Patrum. В то время как более диалектически образованные богословы часто развивали свой талант к различению отдельных предложений Отцов, мистики предпочитали связные исследования произведений Отцов. В мистических писателях XII века и в тех схоластах этого периода, которые также были мистиками или, по крайней мере, посвятили себя влиянию мистицизма, жили прежде всего августинские идеи и идеалы. Августинская окраска прослеживается в работах таких авторов229. Совершенно очевидно, что это сохранение и отстаивание традиционного момента со стороны мистиков было важно для развития схоластического метода.
Это противодействовало чрезмерному расширению ratio за счет auctoritas, а стремление к новым источникам и материалам, схоластический голод на материал, эффективно направлялся в сторону патристики. Симпатия к неоплатонической литературе, которая не угасала в период расцвета схоластики, также связана с мистическим настроением схоластического умозрения.
Наконец, следует отметить еще одно влияние мистицизма на схоластический стиль работы, которое носит более формальный характер.
Мистика часто смягчала абстрактность и сухость схоластического способа изложения, освобождала в схоластическом способе мышления и изложения место для разума и воображения, которые, в конце концов, важны для научной работы и изложения1, украшала и оживляла психологическими чертами преимущественно диалектико-метафизическую физиономию схоластики.
Таков краткий обзор форм и способов влияния мистицизма на развитие и формирование схоластического метода. Однако со стороны мистицизма это было не просто предоставление; мистицизм также находил в схоластике многообразные разъяснения и ориентации. Рассмотрение развития мистицизма в XII и начале XIII века выходит за рамки нашей задачи. Поэтому мы могли бы оставить это общее описание отношений между схоластикой и мистицизмом, тем более что анализ мышления и методов работы отдельных схоластов приведет к частым ссылкам на мистицизм и мистические влияния.
Тем не менее, целесообразно выделить среди мистиков XII века те фигуры, которые оказали влияние на развитие схоластики, и оценить их в зависимости от их отношения к схоластическим спекуляциям. Это, прежде всего, Руперт из Дойца, Бернар из Клерво, Вильгельм из Сен-Тьерри и Томас из Верчелли. Гуго и Ричард из Сен-Викторского будут подробно рассмотрены в специальном разделе этого тома.
Аббат Руперт фон Дойц († 1135), догматик, экзегет, литургист, историк, автор гимнов – все с точки зрения мистицизма – один из самых глубоких теологов XII века в Германии1.
XII век в немецких землях230. «С полным основанием, – пишет И. Бах, – богословие Руперта из Дойца, которое, естественно, облачено в одежды своего времени, должно быть названо мощным.
Здесь мы часто сталкиваемся с глубочайшей интимностью богатого христианского духа, который знает, как бежать от страданий земного существования в полноту божественной жизни, чьи вечные законы он исследует и возвещает детям человеческим как законы вечной любви231 В нашу задачу не входит, освещать учение Руперта об объективном продолжении работы Христа в таинствах232 или его учение о Троице, особенно его несколько сложное учение о невидимой миссии Святого Духа в Ветхом Завете233, или излагать его разумные взгляды на Церковь и Марию, или даже его идеи о философии истории. Для нас Руперт фон Дойц является предметом рассмотрения в той мере, в какой его метод, его образ мышления и работы предает схоластическую окраску и является значимым для развития схоластики.
Прежде всего, в этом мистике, родственном по духу Гуго Сен-Викторскому, мы ощущаем чувство теологической систематики, стремление подвести библейское содержание под одну великую единую точку зрения, а именно – точку зрения Троицы.
В своем труде «De Trinitate et operibus eius» он поместил свои порой широкие аллегорические комментарии к Гептатаухону, великим пророкам и Евангелиям в рамки идеи Троицы, идеи деятельности Триединого Бога, создав таким образом своего рода библейскую теологию234 и стремясь к «общей картине христианского мировоззрения.235
Та же единая точка зрения на Троицу присутствует и в его более апологетически-полемическом труде «De glorificatione Trinitatis et processione Spiritus Saneti».
Кроме того, в методологическом плане заслуживают внимания взгляды Руперта на auctoritas и ratio, а также его позиция в отношении диалектики. Его оценка auctoritas выражается в сравнении. Подобно тому, как шкипер, выходящий в широкий океан, просит благоприятного ветра, неотрывно смотрит на Полярную звезду и не позволяет блуждающим звездам загнать себя в опасные скалы или в неизвестные области, так и теолог, желающий проникнуть в неизмеримые глубины Евангелия от Иоанна, должен прежде всего обратиться за помощью к Святому Духу, а затем бдительно следить за святыми учителями, которые, как никогда не заходящие звезды, всегда распространяют свет веры и тщательно избегают ложного света ереси. Ибо без этого усердия толкователь Евангелия от Иоанна подвергался бы величайшей опасности потерпеть кораблекрушение в своей вере236. Позиция Руперта в отношении ratio, философии и особенно диалектики, даже если отдельные высказывания звучат не очень дружелюбно по отношению к диалектике237, в целом умеренна и объективна и выступает за гармонию auctoritas и ratio.
Его пренебрежительные суждения о философии и философах – это в основном неприятие ошибочной языческой философии. В одном из отрывков диалога «De vita vere apostolica» он выражает, как сильно его волнует гармония auctoritas и ratio. Здесь он подчеркивает в качестве методологического закона стремление к тому, чтобы рациональная мысль и слово Писания гармонично сочетались в доказательстве истины и отвержении заблуждений238.
Ближе к концу своего труда «De Trinitate et operibus eius», в своей трактовке «donum scientiae», он подробно излагает свой взгляд на отношения между профанными областями знания, особенно диалектикой, и теологией. Руперт фон Дойц видит все благородство, все достоинство семи свободных искусств в том, что они предоставляют себя в распоряжение sapientia, теологии, как ее хозяйки239. В отдельных главах он признает услуги, которые каждая из этих дисциплин может оказать науке веры240. Что касается диалектики, то он подчеркивает, что род и различие, вид, свойство и случайность, то есть все предикаты, которые мирские мудрецы считают чем-то великим и сложным, играют роль и в Священном Писании, особенно в рассказе о творении, и что в Библии роды, виды и видовые различия классифицированы лучше, чем даже у Порфирия241. Польза и огромное значение, поясняется далее, заключаются в силлогизмах, которые являются столь ценными помощниками для разделения истины и заблуждения.
В этом отношении священные книги также превосходят светскую литературу. Священное Писание полно образцовых силлогизмов, краткостью которых восхищаются риторы242. Таким образом, Руперт из Дойца подчеркивает и обсуждает точки соприкосновения между профанными и священными науками. Кстати, наш мистик проявил немалую степень диалектической беглости и в спорных сочинениях «De voluntate Dei» и «De omnipotentia divina», возникших в результате полемики с Ансельмом Лаонским и Вильгельмом из Шампо о соотношении божественной воли и морального зла.
Подлинным основателем средневекового мистицизма является святой Бернар Клервоский243, «религиозный гений XII века,244 прославленный Мабильоном как «ultimus inter Patres, primus certe non impar.245 Казалось бы, «Doctor mellifluus» не имеет места в истории схоластики; ведь в своем практико-мистическом направлении он выступал против применения философии к учению о вере, то есть против существенного аспекта схоластики, и привел к осуждению двух лидеров схоластического движения, Абеляра и Жильбера де ла Порри. Однако понимание взглядов Бернгарда на науку и научное предприятие, а также его влияния на интеллектуальные течения своего времени и всей последующей схоластики дает нам право отметить мощную фигуру великого цистерцианского аббата в представлении развития схоластического метода, не заходя при этом в область истории мистицизма.
Что касается позиции Бернарда по отношению к науке246, то известно, что в его работах содержатся резкие суждения, особенно о философии. Он говорит о «венценосном философском лохотроне*, об уловках Пиато и софистике Аристотеля, различает «науку мира, которая постигает тщеславие», «науку плоти, которая постигает волюнтаризм» и «науку святости, которая постигает временные распятия и наслаждения в вечности». Нельзя отрицать и того, что практико-мистическое настроение душевной жизни Бернгарда не могло подружиться с диалектической трактовкой истин веры и что его резкое выступление против Абеляра – это не только неприятие ошибок этого теолога, но и критика представленного им научного направления. Однако было бы, конечно, слишком далеко заходить, рассматривая Бернгарда как принципиального противника науки. Его негативные суждения о философских спекуляциях встречаются в основном в полемических сочинениях или в проповедях, которые он читал своим собратьям-монахам; они проистекают из его ревности к чистоте церковной доктрины и энтузиазма по отношению к добродетелям монашеской жизни.247
Есть также отрывки, в которых Бернгард восхваляет изучение наук. «Я не говорю, – заметил он однажды, – что научные знания следует презирать или пренебрегать ими; они украшают и наставляют душу и позволяют учить других».248
В других местах он отвергает впечатление, что хотел принизить ученость и помешать исследованиям, подчеркивая, что хорошо знал, каким богатым благословением были и остаются ученые для Церкви.249 Характерно замечание нашего святого о различных мотивах стремления к знаниям: «Sunt namque, qui scire volunt eo fine tantum, ut sciant; et turpis curiositas est. Et sunt, qui scire volunt, ut sciantur ipsi, et turpis vanitas est…… Et sunt item, qui scire volunt, ut scientiam suam vendant verbi causa pro pecunia, pro honoribus, et turpis quaestus est. Sed sunt quoque, qui scire volunt, ut aedificent, et Caritas est. Et item, qui scire volunt, ut aedificentur, quod prudentia est. 250Эти мысли о мотивах обучения произвели впечатление как на современников, так и на потомков. Их эхо неоднократно можно услышать в схоластической литературе251. Автор «Сентенций божественных», принадлежавший к школе Жильбера де ла Порри, включил эту цитату из Бернарда почти дословно в «Пролог.252
Ценностные суждения Бернарда о научной деятельности и жизни этически и мистически ориентированы. Идеал науки представляется ему в «scientia sanctorum», в науке, которая освящает, в сверхъестественной мудрости, которая проистекает из знания Бога и себя и мощно воспламеняет любовь к Богу253. Эта практико-мистическая оценка знания внутренне связана с определенно традиционным направлением в богословии Бернхарда. Погружение в Священное Писание, с которым он был чрезвычайно хорошо знаком и которое толковал в аллегорико-мистическом ключе по примеру Григория Великого, и его восторженная преданность миру мысли Отцов, особенно Августина, являются основой его размышлений о доктрине откровения254.
О том, что Бернар Клервоский не был принципиальным презрителем и противником науки и богословских спекуляций, говорит и тот факт, что он сам оставил нам удивительные образцы глубокой богословской мысли.
Пятая книга его трактата «De eonsideratione 255с ее точной формулировкой различия между fides, intellectus и opinio и, прежде всего, с ее остроумным и содержательным синтезом спекулятивной доктрины Бога и Троицы256 показывает нам мистика из Клерво как проницательного теолога, который уверенной рукой набрасывает резко очерченную, красочную картину христианских тайн.
Святой Бернар также повлиял на развитие схоластики с точки зрения содержания и метода благодаря своему влиянию на ученых современников и потомков. На него рано стали ссылаться как на авторитет в печатных и непечатных схоластических трудах. Так, Гуго Сен-Викторский включил в свой основной труд пространный отрывок из сочинения Бернгарда «De baptismo aliisque quaestionibus», tecto nomine257; автору «Sententiae divinitatis» его приверженность к школе и направлению Гильберта не помешала скопировать у Бернгарда почти весь трактат «De libero arbitrio.258 Исключительно большое количество рукописей сочинений Бернарда, даже в библиотеках преимущественно схоластического характера, дает нам представление о том, насколько высоко ценились труды Бернарда даже в схоластических кругах. Количество цитат из Бернарда особенно велико среди мистически настроенных схоластов, таких как Бонавентура. Труды Бернарда стали неисчерпаемым источником для позднейшей латинской и немецкой мистики.259
В средневековом изложении доктрины церковного авторитета и власти также прослеживаются следы влияния Бернгарда. Он первым истолковал отрывки из Лк 22:38 и Мф 26:52 в иерократическом смысле, тем самым основав теорию двух слов260.
Однако главная причина, по которой Бернар Клервоский заслуживает места в истории схоластического метода, лежит не в области этих существенных влияний, а скорее в том, что «Доктор Меллифлус» своим личным действием и весом всего своего интеллектуального направления остановил вторжение гипердиалектики в богословскую область, противостоял опасности рационалистического разложения тайн христианства и, благодаря интимному и внутреннему характеру своих трудов, выступил против формалистического опустошения научного предприятия261. Описывая течение реки, мы не должны забывать о плотинах, которые регулируют ее и придают ей твердое русло.
Т. де Регнон262 сравнивает философию XII века с рекой, которая, разбухая от ливней, бурно несется по течению. Она полностью загрязнена грязью; в ее водах плавают деревья, оторванные от берегов. Какое счастье, что на реке есть поперечная плотина, которая задерживает сметенный мусор, заставляет грязь снова тонуть и тем самым дает реке спокойное, безопасное русло, пригодное для судоходства! Такой плотиной, устойчивой ко всем напастям, был святой Бернар, помещенный Провидением в бурные философские потоки XII века.
Мистицизм святого Бернара из Клерво был особенно близок мистицизму его близкого друга Вильгельма из Сен-Тьерри263 (ок. 1148 г.).
Его «Meditativae orationes», трактаты «De contemplando Deo» и «De natura et dignitate amoris», затем «Epistola de vita solitaria ad fratres de monte Dei», которую можно отнести скорее к Вильгельму из Сен-Тьерри, чем к Гиго де Шастелю (†1137),264 – все эти сочинения являются жемчужинами мистической близости и сокровенности. Его энтузиазм в отношении веры, его рвение к чистоте веры позволили ему написать полемику против Абеляра, Жильбера де ла Порри и Вильгельма Коншского. Точка зрения на веру также выходит на первый план в догматико-мистических сочинениях «Speculum fidei» и «Aenigma fidei». Первое больше касается субъективной стороны веры, а также надежды и любви, этой «тринитас ин менте фидеи», второе сочинение не только освещает акт веры и добродетель веры, но прежде всего имеет дело с содержанием веры, с учением о Боге и Троице; оно содержит, по выражению самого автора, «rationes et formam fidei secundum dicta et sensum catholicorum Patrum summatim.265 В этих двух сочинениях Вильгельм Сен-Тьерри прекрасно иллюстрирует тесную связь между схоластикой и мистицизмом. Мы сможем рассмотреть его взгляд на природу и формы религиозного познания, который появляется здесь, в специальном разделе этого тома, при обсуждении учения Гуго Сен-Викторского о вере и знании. По его собственному признанию, Вильгельм из Сен-Тьерри написал «Сентенции о вере», которые он представил как тесно связанные с его «Aenigma fideiu.266 Эти sententiae считались утерянными. Поскольку в схоластических рукописных собраниях нет ни одного сборника предложений, носящего имя Вильгельма Сен-Тьеррийского, и поскольку Вильгельм не дает посвящения своим «Sententiae de fide», единственным критерием для идентификации одного из многочисленных анонимных сборников предложений как сборника Вильгельма будет его сходство с «Aenigma fideiu».
Пока что здесь можно высказать предположение, что в Cod.
lat. 13 448 (p. XII) Национальной библиотеки содержатся «Сентенции» Вильгельма Сен-Тьерри. Начало этого сборника из 102 листов очень дефектно и неразборчиво. На листе l имеется маргинальное примечание «Tractatus de fiele, spe et caritate», написанное более поздней рукой. В сочинении речь идет о вере и любви.
Вера, «ceterarum omnium virtutum initiatrix» (fol.1), рассматривается сначала как акт веры, а затем как содержание веры. В последнем случае на первый план выходит учение о Троице, аналогичное «Aenigma fidei». Изложение темы очень вдохновляет, а его теплый, интимный тон напоминает стиль письма Вильгельма Сен-Тьерри. В изложении содержания веры это произведение афоризмов вновь и вновь возвращается к субъективному элементу веры, к убеждению, подобно тому, что мы видим в «Aenigma fidei».
Важным мистиком, чья деятельность распространилась уже на XIII век, был Томас Галло (Галлус), ранее каноник и преподаватель теологии в церкви Святого Виктора, затем приор, а затем аббат церкви Святого Андрея в Верчелли (†1246?)267 Он перевел на латынь труды Псевдо-Дионисия, прокомментировал их и, прежде всего, предложил сумму мистицизма в своем объяснении Песни Песней. Денифле268 поднял вопрос о том, не был ли Фома из Верчелли также автором большого рукописного трактата «De differentia mundane theologie atque divine» вместе с соответствующим комментарием к псевдоаристотелевскому трактату «De coelesti hierarchia». Важность этого человека заключается в том, что он «соединил августиновский мистицизм викторианцев с мистицизмом ареопагитов и привел к Бонавентуре, а также к более позднему развитию мистицизма у Эккехарта, Таулера, Ясусбрука и Николая Кузского.
§2 Противопоставление гипердиалектики и антидиалектики
Краткая характеристика научных течений и тенденций, возникавших и часто противостоявших друг другу в эти периоды, будет также полезна для определения среды, в которой происходило развитие схоластического метода в века ранней схоластики и перехода к высокой схоластике. В то же время здесь можно будет узнать личности и явления, которые не упоминаются в специальном разделе этого тома.
Прогресс, движение вперед в научной сфере, часто обусловлен столкновением различных направлений и методов работы. Особенно в переходные периоды и во времена научного брожения часто сталкиваются две крайности: крайне прогрессивное направление, преданное новым идеям, и реакционная, чрезмерно консервативная партия. В XI веке мы сталкиваемся с контрастом между гипердиалектиками, чрезмерно растягивающими соотношение, и антидиалектиками, которые в борьбе с этим чрезмерным растяжением соотношения однобоко подчеркивали auctoritas и позволяли себе увлекаться до такой степени, что принципиально боролись с диалектикой и профанными науками. Более спокойные люди, такие как Ланфранк и, прежде всего, Ансельм Кентерберийский, нашли правильный центр между этими крайностями, установили равновесие между auctoritas и ratio и таким образом обеспечили здоровый прогресс в научной мысли и работе. Однако научный труд всей жизни Ансельма, его гениальный синтез auctoritas и ratio не разрешил окончательно этот конфликт крайностей. XII и начало XIII века также стали ареной противоборства научных тенденций. Представители профанных дисциплин, диалектики, часто впадали в крайность односторонней переоценки и акцентирования внимания на диалектике в ущерб содержательным и традиционным аспектам; С другой стороны, в кругах, исповедующих более консервативное и позитивное богословское направление или руководствующихся практическими и мистическими точками зрения, во многих областях стало заметно обоснованное недоверие к диалектике и диалектикам, что в пылу борьбы нередко приводило к защите и даже отказу от диалектики и профанных наук в целом.