Охота на нового Ореста. Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816–1822 и 1828–1836)
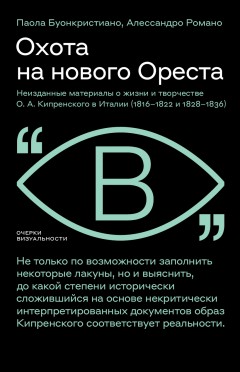
Очерки визуальности
Паола Буонкристиано
Алессандро Романо
Охота на нового Ореста
Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816—1822 и 1828—1836)
Новое литературное обозрение
Москва
2023
Paola Buoncristiano, Alessandro Romano
A caccia di un nuovo Oreste
Materiali inediti sulla vita e l’opera di O. A. Kiprenskij in Italia (1816–1822 e 1828–1836)
УДК 75.071(092)Кипренский О.А.
ББК 85.143(2=411.2)51-8Кипренский О.А.
Б91
Редактор серии Г. Ельшевская
Перевод с итальянского О. Б. Лебедевой
Паола Буонкристиано, Алессандро Романо
Охота на нового Ореста: Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816—1822 и 1828—1836) / Паола Буонкристиано, Алессандро Романо. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – (Серия «Очерки визуальности»).
Жизнь известного живописца Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836) вплоть до наших дней оставалась объектом сплетен и легенд – от простых выдумок до возмутительной клеветы: его обвиняли в жестоком убийстве сгоревшей заживо натурщицы (предположительно и его любовницы); в непристойной связи с девочкой, которая впоследствии стала его женой; говорили о нем как о живописце, растратившем в Италии свой талант. Несмотря на многочисленные исследования о художнике, многие вопросы его биографии остались без ответа, зловещие легенды были неоднократно повторены и тем самым увековечены без проверки фактов. В книге Паолы Буонкристиано и Алессандро Романо впервые публикуется значительное количество новых, неизданных архивных материалов и документов, которые восстанавливают историческую правду и опровергают ложные рассказы о Кипренском. Исследователям также удалось найти следы единственной дочери художника, судьба которой оставалась до сих пор неизвестной. Благодаря обращению к новым источникам и реинтерпретации старых, авторам удается заполнить лакуны в итальянской биографии Кипренского и предложить читателю более достоверный портрет художника. Паола Буонкристиано – филолог, автор книг и статей о русской литературе и русско-итальянских отношениях, сотрудник международного журнала «Russica Romana». Алессандро Романо – русист, переводчик произведений Н. В. Гоголя, С. С. Уварова, В. Д. Яковлева на итальянский язык.
A caccia di un nuovo Oreste. Materiali inediti sulla vita e l’opera di O. A. Kiprenskij in Italia (1816–1822 e 1828–1836). Paola Buoncristiano, Alessandro Romano
ISBN 978-5-4448-2364-2
© Paola Buoncristiano, Alessandro Romano, 2023
© О. Б. Лебедева (Томский государственный университет), перевод с итальянского, 2023
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
Предисловие
<…> разбросанность источников о жизни и творчестве художника по отечественным и зарубежным архивам, их невыявленность, трудность для ознакомления из‐за того, что многие материалы имеются в рукописях на иностранных языках, крайне усложняют их изучение, отбор достоверных фактов, освобождение жизнеописания Кипренского от несостоятельных гипотез, мифов, а зачастую и просто досужих домыслов, которыми обрастала его биография вплоть до наших дней1.
В январе 2018 года, на основе исследования, посвященного римским классам обнаженной натуры и работавшим в них в XIX веке русским художникам2, мы решили попробовать пролить свет на известное событие той поры, которое связывало имя Ореста Адамовича Кипренского с ужасной смертью одной римской натурщицы, ответственность за которую была (и до сего времени оставалась) отчасти возложена на художника.
В течение года нам не удалось обнаружить ни одного источника, который упоминал бы об этом событии, но вскоре непрерывный поток неизданных документов, насыщенный множеством ранее неизвестных фактов, которые касались пребывания Кипренского в Италии, забил перед нами ключом в архивах и библиотеках Рима и других городов и даже стран (от Флоренции до Венеции, от России до Германии и Соединенных Штатов). Эта достойная всяческого внимания масса документов, как кажется, только и ждала того, чтобы ее кто-нибудь обнаружил; содержащиеся в них сведения позволили дополнить и прояснить, зачастую очень серьезным образом, многие обстоятельства жизни и творчества Кипренского в периоды с 1816 по 1822 и с 1828 по 1836 год: круг знакомств, события частной жизни, сведения о дошедших и не дошедших до нас рисунках и картинах (а также атрибуция некоторых портретов), состав наследия… И наконец, находка объемной подшивки судебного дела, послужившей нам отправным пунктом исследования, заставила нас признать, что количество и качество выявленных вслед за ней материалов далеко превосходит самые смелые ожидания. Тогда мы подумали, что ограничиться серией отдельных статей, раздробив тем самым найденные факты, будет недостаточно и что они заслуживают быть собранными воедино в новой монографии, посвященной теме «Кипренский в Италии».
В этой книге мы предлагаем вниманию читателей неизданные и не учтенные биографами и искусствоведами материалы, как рукописные, так и печатные, касающиеся разных ключевых моментов биографии Кипренского: обстоятельств его приезда в Италию, первых знакомств, злополучной смерти молодой римлянки, знакомства с Анной-Марией Фалькуччи, более известной под уменьшительным именем Мариучча, сложных отношений художника с ее матерью, отъезда в Россию и возвращения в Италию, неаполитанских лет жизни, некоторых созданных в Италии и утраченных (или считающихся утраченными) произведений, пребывания художника во Флоренции и в Венеции, его женитьбы и смерти, судеб его вдовы, дочери и внучки и многих других аспектов. Вводимые в научный оборот документы не всегда дают возможность с определенностью ответить на вопросы, до сих пор остающиеся непроясненными. Но все же иной раз они позволяют снять ореол легенды или рассеять туман двух минувших столетий, окутывающий некоторые события жизни Кипренского – даже если найденные подтверждения или опровержения чреваты возникновением новых сомнений и вопросов. Тем не менее облик художника в свете этих материалов выглядит значительно более четким, а историко-культурный контекст его жизни и творчества – столь же заметно более обогащенным.
Писать пусть и фрагментарную, но новую биографию человека, жизни и творчеству которого ученые посвятили уже многие исследования, – значит неизбежно повторять кое-какие известные факты, и потому мы должны были сделать выбор: учитывая, что наша книга ориентирована на введение в научный оборот новых материалов, мы приняли решение не сосредоточиваться на том, что уже известно по другим источникам. Итак, некоторые проблемы и события жизни художника остались без скрупулезного рассмотрения; в таком случае мы отсылаем читателей к тем трудам, в которых эти проблемы и события изложены и рассмотрены с необходимой подробностью. Это же можно сказать и о произведениях Кипренского – в поле нашего внимания только те его работы, о которых мы теперь можем сказать что-то новое и которые имеют принципиальное значение для нашего исследования.
Одной из главных наших задач явилась реинтерпретация известных источников, поскольку даже недавние исследования, посвященные пребыванию Кипренского в Италии, стоят, так сказать, на трех китах: во-первых, это эпистолярное наследие художника и его современников, во-вторых – ограниченный круг архивных материалов, главным образом хранящихся в Петербурге, в-третьих – воспоминания современников, тоже по большей части русских. Совершенно очевиден некоторый дисбаланс, вызванный скудостью бывших до сих пор известными соответствующих европейских, и в частности итальянских, материалов, опровергающих и/или дополняющих известные по русским источникам факты; этот дисбаланс во второй половине XX века частично компенсировали своими разысканиями в римских архивах Ю. П. Глушакова и И. Н. Бочаров, которым принадлежит единственная современная биография Кипренского. Положение усложняет и то обстоятельство, что свидетельства современников зачастую являются противоречивыми.
Как уже было сказано, смерть натурщицы, заживо сгоревшей в римской мастерской Кипренского, рассматривалась исследователями как значительный факт биографии художника. Но версии происшествия никак нельзя назвать единогласными: одни мемуаристы относят его к первому пребыванию Кипренского в Италии, другие – ко второму. Некоторые полагают, что жертвой несчастья стала мать Мариуччи; кое-кто вменяет смерть натурщицы в вину Кипренскому, другие же обвиняют его слугу. Речь идет и о проблемах, которые якобы возникли у художника вследствие его осуждения и порицания римским общественным мнением, о его бегстве из Рима во избежание попреков и ради обретения сил и присутствия духа. Эта легенда вытекает из свидетельств современников и их интерпретации, со временем ставшей некритической, – и этот факт очень символично характеризует неоднозначность самой ситуации. Добавим и то, что идея некоторых ученых, считающих, что «легенда и миф, окружающие художника-романтика, не только не мешают его изучению, а должны восприниматься как материал для исследования»3, кажется нам в случае с Кипренским изначально ошибочной, поскольку прежде чем говорить о мифах и легендах, нужно выяснить, можно ли их счесть таковыми.
В ходе исследования мы увидим, что тенденция полагать истинность некоторых таких сведений само собой разумеющейся и не пытаться проверить свидетельства современников или исторических документов породила целый ряд неточностей, приблизительных трактовок и даже фактических ошибок, в результате чего события биографии художника, которая сама по себе изобилует лакунами в разных ее эпизодах, трактуются разногласно до такой степени, что в целом этот запутанный клубок подчас не внушающих доверия трактовок, даже в сравнительно приемлемой своей части, неспособен структурироваться в единое прочное целое. Это ощущение всепроникающей непрочности и неточности побудило нас никому и ничему не доверять изначально. Таким образом, к стремлению представить новые сведения о биографии художника быстро прибавилось сознание настоятельной необходимости беспристрастного критического перечтения, анализа и реинтерпретации известных источников.
Этот путь показался нам единственно торным для достижения наших основных целей: не только по возможности заполнить некоторые лакуны, но и выяснить, до какой степени исторически сложившийся на основе все тех же некритически интерпретированных документов образ Кипренского соответствует реальности его личности.
Прежде чем тщательно проанализировать неизданные материалы и перечитать традиционно используемые для составления биографии Кипренского источники, мы сочли необходимым посвятить несколько слов трем самым главным из числа известных, на которые вплоть до конца XX века опирались концепции большинства биографов художника.
Прежде всего, это воспоминания скульптора Самуила Ивановича Гальберга, приехавшего в Рим осенью 1818 года и вскоре ставшего другом и доверенным лицом Кипренского. Его воспоминания были включены в биографический очерк, опубликованный в 1840 году в журнале «Художественная газета». Как отмечено в предисловии редакции, это краткое собрание отдельных воспоминаний, записанных между 1837 и 1839 годами, то есть в первые годы после смерти Кипренского4. Хотя и созданные через двадцать лет после описанных в них событий, они представляют собой свидетельство очевидца и, как мы увидим впоследствии, включают некоторые подробности, исходящие от самого Кипренского, так что воспоминания Гальберга представляются достаточно достоверными.
Воспоминания гравера Федора Ивановича Иордана – это другой случай. Они созданы в первой половине 1870‐х годов, следовательно, много времени спустя после того периода жизни автора, который в них представлен, и сохранились по большей части в редакции его жены Варвары Александровны Пущиной, при участии которой было осуществлено их первое издание5. И хотя они являются драгоценным документом эпохи, тем не менее в них достаточно много неточностей, анахронизмов и преувеличений, так что они являют собой своего рода минное поле.
Что же касается воспоминаний Иордана конкретно о Кипренском, то в процессе нашего исследования мы увидели в них не только вполне достоверные сведения, но и такие, к которым следует отнестись с осторожностью или даже вообще необходимо опровергнуть. В оправдание нашей подозрительности по отношению к этому источнику приведем только один пример, поскольку другие неточности Иордана рассмотрены по порядку там, где это необходимо. В главе XXI мемуаров гравера читаем: «Михаил Иванович Лебедев скончался вместе с другом моим и товарищем по Академии, П. И. Пниным, который поехал в Неаполь, чтобы пожить с ним вместе»6. На самом деле, Петр Иванович Пнин умер 5 июля 1837 года во время эпидемии холеры в Неаполе, и на основании свидетельства о его смерти мы установили, что он проживал по адресу Ривьера ди Кьяйя, № 2267. Через несколько дней, 23 июля, Лебедев тоже стал жертвой эпидемии: но пейзажист жил совсем в другом квартале, по адресу Страда Санта-Лючия, № 288; кроме того, он приехал в Неаполь всего за пару месяцев до смерти и за это короткое время успел повидаться только с декоратором Николаем Степановичем Никитиным9. Следовательно, трудно предположить, что в 1837 году Пнин (о котором мы еще вспомним впоследствии) поехал в Неаполь, чтобы «пожить вместе» с художником, лишь недавно приехавшим в город, который к тому же ни словом не упоминает о Пнине в своей переписке.
В целом следует сразу сказать, что в своих мемуарах Иордан слишком часто излагает факты лишь приблизительно и слишком часто придает простым слухам видимость фактов10.
Теперь перейдем к самой болевой точке – тексту, которому необходимо посвятить специальное внимание: в литературе о Кипренском большое значение придается биографическому очерку журналиста и писателя Василия Васильевича Толбина11, прежде всего благодаря тому, что в нем были впервые опубликованы очень важные, ранее неизвестные документы. В частности, это, по утверждению автора, обнаруженные в бумагах исторического живописца Алексея Тарасовича Маркова, стипендиата Императорской Академии художеств, жившего в Риме в 1830‐х годах, фрагменты писем Кипренского, в которых кроме всего прочего художник пространно и с нежностью пишет о Мариучче.
Эти публикации неизданных писем вызывают некоторую тревогу: ни один другой исследователь никогда не видел их оригиналов, поскольку они оказались утрачены; обстоятельство, которое должно было бы внушить биографам художника определенную осторожность по отношению к ним, но фактически на протяжении полутора веков оно недооценивалось. Даже И. Н. Бочаров и Ю. П. Глушакова, основавшие свою работу на большом количестве архивных документов, призывавшие относиться к свидетельствам современников с большой осторожностью, учитывая неизбежные ошибки памяти ввиду возраста мемуаристов, и сравнивать их версии событий с другими источниками и документами12, – даже они некритически приняли на веру публикации в очерке Толбина. Не является исключением и работа выдающегося знатока жизни и творчества Кипренского Е. Н. Петровой, которая хоть и подчеркнула, что текст Толбина полон «ошибок и неточностей», лишен методологической основы, а его автор поспешен и неаккуратен13, но в конце концов почти отступила перед кажущейся ценностью сведений Толбина, приняв их как таковые и имплицитно признав их аутентичность. В этом отношении весьма показательно то, что в книге «Орест Кипренский. Переписка. Документы. Свидетельства современников» (далее – КПДС) некоторые фрагменты очерка Толбина воспроизведены дважды: в разделе «Свидетельства современников» и, в качестве самостоятельных текстов, в разделе «Переписка».
Посмотрим теперь более конкретно, до какой степени Толбину можно верить. В дневниковой записи от 1853 года критик и переводчик Александр Васильевич Дружинин резко отозвался о нем: «какой-то малоизвестный литератор Толбин <…> преданный пианству и погоне за девками»14. Некоторую известность Толбину принесла его разгромная статья о картине Александра Андреевича Иванова «Явление Мессии»15, которую (статью) Иван Сергеевич Тургенев в письме к Полине Виардо в 1858 году назвал «злобной и оскорбительной газетной статейкой»16. Далее известность Толбина возросла, поскольку он оказался одним из первых биографов других русских художников, но если обратиться к его очерку, посвященному Федору Антоновичу Бруни17, мы увидим, что он отличается разнообразными неточностями, противоречиями, анахронизмами и манерой цитировать других авторов без указания на источник18. Другой показательный случай: в современной монографии о творчестве гравера Николая Ивановича Уткина автор утверждает, что «наиболее обстоятельным обзором деятельности Уткина <…> следует считать статью литератора и критика В. В. Толбина»19; но что же можно сказать о таком пассаже: Толбин пишет, что в 1845 году Уткин отправился в Европу для поправления пошатнувшегося здоровья20, тогда как в действительности эта поездка была предпринята с целью повидаться с коллегами и бывшими соучениками, а также осмотреть самые знаменитые французские, немецкие и итальянские кабинеты эстампов21.
Список подобных ляпсусов можно продолжать до бесконечности, но нам важнее более конкретно оценить очерк Толбина, посвященный Кипренскому. Для начала это эпизод с визитом в Рим Людвига Баварского: у Толбина художник отвечает на записку, оставленную ему якобы лично королем, своей собственной, подписав ее без ложной скромности «Roi des peintres» (король живописцев), и эпизод этот является не чем иным, как самонадеянным приспособлением к ситуации знаменитого исторического анекдота о Филиппе IV Испанском и художнике Франсиско де Сурбаране. Сам Толбин однажды уже воспользовался этим анекдотом в своей статье об испанской живописи: «когда Зурбаран, кончив последнюю свою картину в Buen-Retiro, подписывал под нею свое имя и звание королевского живописца, Филипп IV <…> сказал ему: – Прибавь же, однако, Зурбаран, к этой подписи: „и король живописцев“!»22
Правда, анекдот о короле Баварии и нашем герое до некоторой степени соотносится с отдельными критическими выпадами современников в адрес чрезмерной самонадеянности «надутого Кипренского, который, приехавши сюда, говорит, <…> что Рафаэль, Микель Анж, Тициан, Кореж, никто против моего произведения не устоят <…>. За эту его скромность отказали ему во многих домах Петербурга»23, – так писал художник Федор Павлович Брюллов. Но правда и то, что гораздо более многочисленными являются свидетельства о живом, ироничном, даже склонном к шутовству характере Кипренского, о его приверженности к каламбурам и гиперболам: «[Кипренский] всегда весел и забавен» (III: 410), – писал в 1822 году русский архитектор, по происхождению англичанин, Филипп Федорович Эльсон; другой архитектор, Василий Алексеевич Глинка, на следующий год заметил: «[Кипренский] нас здесь со смеху морит <…>; у него штук, экспромтов множество» (Там же); а в 1824‐м филолог и поэт Александр Христофорович Востоков, зять С. И. Гальберга, подтвердил: «[Кипренский] все тот же балагур, каким был исстари» (III: 421). И даже известное тщеславие, в котором часто упрекают Кипренского, в свете слов Гальберга – «еще больше он любил far si bello: рядился, завивался, даже румянился <…>. Все это, разумеется, чтобы нравиться женщинам. Не знаю, был ли счастлив, но доволен собою был»24, – выглядит не более чем маленькой слабостью, не чуждой очень и очень многим. Вспомним кстати, что писал о своем знаменитом дяде и учителе художник Павел Петрович Соколов, сын Юлии Павловны Брюлловой: «при своем малом росте Карл Павлович Брюллов носил очень высокие каблуки, чтобы казаться повыше, и был очень комичен. Дядя <…> воображал себя неотразимым красавцем и всегда говорил, что в Риме его иначе не называли, как „Венерова голова“»25.
Следовательно, вполне возможно, что некоторые знакомые Кипренского, нелестно о нем отзывавшиеся, были просто лишены чувства юмора и не понимали его шуток, принимая их за серьезные утверждения. А Толбин, как это очевидно, предпочел их точку зрения, более согласующуюся с его стремлением создать сенсационный портрет художника.
Возвращаясь к его биографическому очерку, заметим, что факт сохранения некоторых писем Кипренского А. Т. Марковым, имя которого ни разу не встречается в письмах нашего героя, никак не доказан, равно как и утверждение Толбина, что художник обычно писал свои письма по-французски26. В письме, адресованном издателю журнала «Сын отечества», Толбин заметил, что он обращался за помощью к Ф. И. Иордану, который и перевел для него фрагменты неизвестных писем Кипренского27, но это никак не подтверждено документами, поскольку имя Толбина ни разу не встречается в воспоминаниях гравера, и ни по одному источнику неизвестно, был ли журналист вообще знаком с Иорданом28 (и тем более знаком близко).
В заметке, посланной Толбиным в редакцию «Сына Отечества», есть еще одна экстравагантная подробность, которую редактор исключил из окончательного текста статьи: это рассказ о признании в любви, которое тридцатилетний Кипренский якобы сделал во время урока рисования великой княжне Екатерине Павловне, а она не оценила внимания художника и распорядилась отстранить его от преподавания. Возможно, Толбин со временем оценил тот крайний риск, которым было чревато его стремление зайти слишком далеко, хотя склонность Кипренского к великой княжне – это факт подтвержденный (III: 371). Но художник находился при ее императорском высочестве великой княжне Екатерине Павловне в качестве учителя рисования с весны 1811 до 1812 года, и мы убеждены в том, что невестка великой княжны, императрица Елизавета Алексеевна, вряд ли могла забыть или простить Кипренскому подобное скандальное поведение всего через четыре года и продемонстрировать ему благоволение тем, что отправила его в Италию за свой счет.
Стоит вспомнить также рассказ о почти патологических эксцессах, от которых Кипренский страдал в годы учебы в Академии художеств: согласно Толбину, они якобы засвидетельствованы бывшим учредителем и преподавателем Академии, неким В. Д. Дмитриевым, сам факт существования которого никак не доказан; то же можно сказать о фантастическом и необоснованном намеке на профессиональную деятельность Кипренского в качестве литографа, которой он якобы занимался в Риме; или, наконец, об описании «великолепных похорон» художника, категорически не соответствующем тому, что засвидетельствовали присутствовавшие на них очевидцы29.
Особенно важно подчеркнуть, что из цитированных Толбиным отрывков из переписки Кипренского в автографе известен только один (фрагмент первого письма художника из Италии), но и в этом случае текст в его очерке не соответствует оригиналу30; что же касается КПДС, где очерк Толбина перепечатан полностью, в 34 примечаниях из 51 (а это ровно две трети!) комментаторы отмечают неточности, анахронизмы и противоречия.
На основании всего вышесказанного мы должны счесть очерк Толбина не заслуживающим никакого доверия, по крайней мере в том, что касается сведений и документов, не извлеченных из других, более достойных доверия источников. За его мистификациями можно признать только одно достоинство: их крайне сложно опровергнуть, поскольку утраченный документ не обязательно является несуществующим. Кроме того, Толбин достаточно умен для того, чтобы не слишком усердствовать по части изобретения не имевших места фактов: он только расцвечивает те, что уже известны, всевозможными правдоподобными подробностями, подсказанными общим представлением о герое очерка.
Другими словами, притом что этого нельзя утверждать с абсолютной уверенностью, все же существует очень серьезное подозрение, что опубликованные Толбиным письма художника были написаны не Кипренским, а самим Толбиным31.
Выше мы упоминали о проблемах, связанных с русскими архивными источниками, которые слишком часто интерпретировались некритически, без необходимой дополнительной перепроверки. Пересматривая эти материалы, в том числе и в свете новых обнаруженных нами фактов, во многих случаях мы сочли разумным усомниться в дате того или иного документа, реинтерпретировать некоторые свидетельства или отдельные их фрагменты, предложить новые гипотезы относительно атрибуции авторства цитируемых документов и идентификации упомянутых в них лиц. Эти специфические случаи пересмотра сложившихся интерпретаций архивных текстов изложены согласно общей логике нашего исследования и рассредоточены в разных его главах, но одно замечание необходимо сделать сразу: кроме тех недостатков КПДС, которые уже были отмечены в рецензии Ю. П. Глушаковой32, мы должны констатировать существенную неполноту этого издания в разделе II – хотя включенные в него тексты до некоторой степени избыточны, поскольку они нередко повторяются в своем содержании. Коротко охарактеризуем две такие лакуны.
Первая, совершенно необъяснимая, касается документов, относящихся к приобретению автопортрета Кипренского галереей Уффици в 1825 году, которые сохранились в Историческом архиве флорентийских галерей (Filza 1825. № 4: «Ritratto del pittore Oreste Kiprenschy accettato»). И это несмотря на два факсимильных воспроизведения соответствующей переписки, которые были опубликованы в каталоге произведений Кипренского шестью годами раньше КПДС33 (эти документы рассмотрены в главе XII).
Другая, столь же необъяснимая лакуна – это шесть из девяти квитанций на суммы, выданные на разных основаниях близким художнику людям в год, последовавший за его смертью, которыми по неизвестным причинам пренебрегли составители. Все девять хранятся в Архиве внешней политики Российской империи (Ф. 190. Оп. 525. Д. 519. Л. 63–71), но в КПДС опубликованы только три (II: 296–297, IV: 642); в главе XI мы показываем, что эти шесть неопубликованных квитанций – документы отнюдь не второстепенные.
Теперь перейдем к источникам, использованным в нашей работе: печатным – которые вплоть до сего дня не связывались с именем Кипренского – и рукописным: речь идет о драгоценных документах, хранящихся главным образом в Государственном архиве Рима, в Историческом архиве римского диоцеза, а также в Апостолическом архиве Ватикана (бывший Секретный архив Ватикана), Академии деи Линчеи и других учреждениях – римских, итальянских и европейских; только в одном случае нам пришлось обратиться к библиотеке американского университета.
Чрезвычайно полезными печатными источниками оказались газеты и журналы, в которых печатались рецензии на выставки или на отдельные произведения, письма из Италии, адресованные в редакции разными очевидцами, хроника городских событий; особенно информативными явились рубрики газет, в которых регистрировались приезды и отъезды путешественников (к сожалению, по разным причинам эти списки не всегда способны удовлетворить любознательность исследователей: например, в венецианской газете «Gazzetta privilegiata di Venezia» эта рубрика появляется лишь в 1829 году, в некоторых газетах приводятся имена только наиболее известных людей, еще в некоторых регистрируются только приезды). Нам, однако, посчастливилось периодически находить имя Кипренского еще и в не учтенных биографической традицией письмах, путевых записках и воспоминаниях его современников.
И первая же сложность самого выявления этого обширного массива документов связана с идентификацией некорректно транслитерированного имени Кипренского. Совершенно очевидно, что это довольно типичная проблема, и не только потому, что в те времена почти всё, по крайней мере в первой редакции, писалось от руки. Есть и другие обстоятельства, которые следует учитывать: например, то, что итальянцы испытывали известные затруднения в письменной передаче некоторых звукосочетаний русских имен, которые казались им чуждыми и даже враждебными, и что чиновники или всякие посредники, записывавшие имя на слух, нередко бывали недостаточно грамотными. Путаница, порожденная ошибками написания, памяти и банальными опечатками, далеко превысила наши худшие опасения, и самый разительный пример тому – наш Кипренский, чья фамилия как только не искажалась на письме и в печати, претерпевая подчас самые удивительные трансформации. Нам встретилось добрых тридцать вариантов ее письменной и печатной передачи, от общеупотребительных или, во всяком случае, понятных транслитераций, о которых мы здесь не говорим, до менее внятных и подчас совершенно непредвиденных: Chiprerc, Chiprerchin, Chipresc, Crispusk, Kipreik, Kiprimschej, Kiprimschij, Kipriowsky, Kipsinsky, Kistens, Kribrinshij, Kyprereskoy, Priensky, Riprinsky (Кипрерк, Кипреркин, Кипреск, Криспуск, Кипреик, Кипримскей, Кипримский, Киприовский, Кипсинский, Кистенс, Крибринский, Кипререской, Приенский, Рипринский)…
Выше уже была отмечена важность архивных материалов, но и в этом случае следует сказать о главных препятствиях, на которые мы натолкнулись. Одним из существенных источников сведений, необходимых для нашего исследования, стали так называемые подушные списки (Stati d’anime), то есть книги, содержащие ежегодные списки римского населения, которые в течение Великого поста, то есть до Вербного воскресенья, должны были составлять приходские священники по всем приходам римских церквей. Десятки и десятки погонных метров здания Исторического архива римского диоцеза заняты этими драгоценными томами, к которым примыкают связанные с ними и не менее важные книги регистрации крещений, смертей, браков и конфирмаций. До нас дошли не все годовые подушные списки; тем не менее самые острые проблемы созданы не столько этими лакунами, сколько разностью критериев, согласно которым списки составлялись; и если одни являются упорядоченными, ясными, подробными и хорошо сохранившимися, то другие потерпели ущерб от времени, заполнены неразборчивыми почерками, данные в них приблизительны или ужасно беспорядочны (и периодически все это вместе). Судьба ученого, обращающегося к такого рода материалам, целиком зависит от усердия и скрупулезной точности составлявшего список приходского священника.
Другие фонды Архива диоцеза и Государственного архива, которые имеют решающее значение, – это документы разных судов папского Рима. Нельзя не заметить, что в Риме интересующей нас эпохи было множество учреждений, в компетенцию которых входили преступления против правопорядка. Кроме того, в эпоху Реставрации юрисдикция стала объектом целой серии сложных экспериментов, вдохновленных жаждой реформ и упорядочивания, но не всегда удачных. В частности, документы, относящиеся к интересующему нас периоду, который совпадает с первым пребыванием Кипренского в Италии, часто ввергают ученых в совершенно беспорядочный поток бумаг, делающий исследование особенно затруднительным. До сего дня не существует соответствующего инструмента (регистра или рубрики), который позволял бы осуществить целенаправленный поиск в документации Уголовного суда кардинала викария (Tribunale criminale del Cardinal Vicario), относящейся к периоду до 1822 года; и даже если повезет наткнуться на косвенное упоминание интересующего факта, необходимо продолжать попытки найти нужный документ, уповая на то, что дела расположены все же в хронологическом порядке.
Мы увидим также, что и для последующих лет попытки внести ясность в деятельность некоторых трибуналов и устранить столкновение интересов иногда приводили к путанице в соответствующей архивной документации, которая отнюдь не всегда адекватно отражена в доступных каталогах и описях.
Многочисленные перекрестные упоминания событий и людей внушили нам стремление придерживаться преимущественно хронологического принципа изложения – быть может, это не слишком оригинальный метод, но он более всего соответствует характеру материала. Поэтому наша книга состоит из двух частей, каждая из которых посвящена одному из двух итальянских периодов жизни Кипренского.
Что касается первого периода: даже притом что мы располагаем всего шестью относящимися к нему письмами художника (четыре из них написаны из Рима между 1817 и 1819 годами, два – из Флоренции в феврале 1822 года), все же воспоминания современников, переписка Кипренского с С. И. Гальбергом и сами произведения художника дают основания для реконструкции многих фактов и создания представлений о людях – и очень часто оказывается, что ни фактам, ни людям до сих пор не было уделено того внимания, которого они заслуживают. Обстоятельства и персоналии, которые были как бы маргинальными в жизни Кипренского, на самом деле очень важны, поскольку иногда через них художник оказывается связан с другими событиями и людьми того времени. Кроме того, расширение рамок нашего исследования за пределы русской колонии в Риме позволило выявить документы и сведения, проливающие свет на доселе темные пятна биографии Кипренского в том, что относится к его контактам и творческой деятельности.
Чтобы дать предварительное представление о жизни художника в Риме, мы кратко резюмировали эти новые сведения в первой главе, поскольку далее мы часто будем обращаться к ним в нашей работе; в последующих главах наше основное внимание сосредоточено на трех важных эпизодах римской жизни Кипренского в 1818–1821 годах: это смерть женщины в мастерской художника, роль Мариуччи и ее матери в его жизни и превратности, с которыми Кипренский столкнулся в последние два года своего первого пребывания в Риме.
В первых главах второй части различные важные свидетельства, прежде всего восходящие к западноевропейским источникам, позволили нам описать последние, мучительные восемь лет жизни Кипренского, и в особенности повседневную жизнь художника, разных людей из его ближайшего окружения и произведения, созданные в Неаполе, Риме и Флоренции.
Наконец, новые и интересные архивные материалы проливают столь же новый и временами неожиданный свет на обстоятельства его смерти, состав и судьбу его наследия и судьбы его жены и потомков.
ЧАСТЬ I
Глава 1
Обстоятельства первого пребывания в Италии
1. Приезд в Рим
Орест Адамович Кипренский (Швальбе), родившийся в 1782 году в окрестностях Копорья в Ораниенбаумском уезде Санкт-Петербургской губернии, в 1788‐м поступил в Воспитательное училище Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств. В 1797 году он начал посещать класс исторической живописи Академии, получая различные знаки отличия между 1801 и 1808 годами. В 1805‐м Кипренский стал стипендиатом Академии художеств, что явилось прямым следствием вручения ему золотой медали первого класса 1 сентября этого года. Однако его отъезд за границу не состоялся из‐за сложной политической ситуации, созданной антинаполеоновскими войнами, и поскольку в последующие годы эта ситуация не только не улучшилась, но и стала еще более напряженной, путешествие художника постоянно откладывалось. Он не смог воспользоваться даже назначенной ему в 1810 году великим князем Константином Павловичем персональной стипендией для поездки в Париж. В 1812 году Кипренский стал членом Академии, в 1815‐м вошел в ее правление, но в ожидании поездки, о которой страстно мечтал, поднялся на несколько ступеней академической иерархии.
Не имея права по возрасту на стипендию Академии, 14 мая (ст. ст.) 1816 года художник смог воспользоваться пожалованным ему на три года пенсионом императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I, в сумме около 800 римских скудо в год, плюс отдельно оплаченная поездка в обе стороны34. Таким образом, он смог выехать из Петербурга за границу в общей сложности на три года, из которых два должен был провести в Италии, а один – во Франции и Германии; на родину он должен был возвратиться весной 1819 года.
Кипренский приехал в Рим, будучи уже признанным мастером, на его счету был целый ряд работ, заслуживших признание коллег-художников и обеспечивших ему почет и уважение во влиятельных кругах русского общества и самой императрицы.
Вплоть до настоящего времени единственным источником, из которого можно было почерпнуть сведения о путешествии Кипренского и первых месяцах его пребывания в Италии, остается его письмо к только что избранному президентом Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину от 10 июня 1817 года: Кипренский отплыл из России на пароходе 21 мая 1816 года вместе с петербургским ювелиром Жаном Франсуа Андре Дювалем (швейцарцем по происхождению), его давним знакомым35, но из‐за продолжительности путешествия по бурному морю художник прибыл в Травемюнде только через две недели; отсюда он быстро переехал в Любек36. После месяца, проведенного в Германии, и трех – в Швейцарии, в гостях у его попутчика37, Кипренский вступил на землю Италии 1 октября; день спустя он прибыл в Милан, где осматривал музеи и церкви, а вечером 6 октября восторгался цирковым представлением на Арена Чивика38. От этого периода жизни Кипренского, описанного в письме к Оленину довольно подробно, в итальянской периодике остался след, выразительно свидетельствующий о трудности идентификации имени художника из‐за его искаженной транскрипции, как это нередко бывало в публикациях той эпохи: в «Миланской газете», в списке отъезжающих 8 октября, находим члена Петербургской академии «Oreste Kistens»39.
После короткого заезда в Парму и Модену ранним утром 14 октября художник прибыл во Флоренцию – но этому городу, несмотря на то что Кипренский пробыл здесь 10 дней, он посвятил только несколько строк (хотя и пообещал Оленину написать подробнее – однако это письмо или не было написано, или не дошло до нас). Здесь Кипренский повстречался с Александром Львовичем Нарышкиным, директором Императорских театров и страстным любителем искусства; он сопровождал художника до Рима, куда Кипренский наконец приехал вечером 26 октября 1816 года.
Таким образом, прошло семь с половиной месяцев с момента приезда Кипренского в Вечный город и более года – с его отъезда из России до тех пор, когда художник сообщил о себе на родину первые сведения. Поскольку он не был обязан, как его более молодые коллеги-стипендиаты, направлять подробный ежеквартальный отчет в Академию, это неудивительно; однако же странно то, что не сохранилось ни одного раннего письма Кипренского к Николаю Михайловичу Лонгинову, личному секретарю императрицы Елизаветы Алексеевны, предоставившей ему средства для путешествия: логично предположить, что, приехав в Италию, художник сразу же должен был сообщить ему (а через него – своей покровительнице) о своем благополучном прибытии.
2. Лица, персонажи, произведения
Разумеется, первый период пребывания Кипренского в Риме был временем, когда художник, что называется, осматривался и устраивал свою жизнь: искал жилье, знакомился с городом, его атмосферой и памятниками Античности, с его музеями и галереями, с его жителями и его знаменитостями. Но не только: именно к этим месяцам, о которых так мало известно, относится первое свидетельство о знакомствах Кипренского, которое нам удалось идентифицировать как документ, относящийся к истории первого пребывания русского художника в Риме. В собрании эпистолярия Антонио Кановы сохранилось рекомендательное письмо от 23 октября 1816 года, адресованное знаменитому скульптору и написанное Николаем Федоровичем Хитрово, российским поверенным в делах при Великом герцогстве Тосканском и временно исполняющим обязанности посла при Святом Престоле (заметим, что через несколько месяцев Хитрово будет избран почетным академиком Академии изящных искусств Флоренции)40. Письмо Хитрово было вызвано просьбой Лонгинова (II: 228), высказанной от имени императрицы Елизаветы Алексеевны, принять художника Кипренского под свое покровительство:
Податель сего, господин Кипренский, член Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств, на время своего пребывания в Италии поручен моему попечению моей августейшей государыней, Ее Величеством Императрицей собственной персоной. Я не знаю никого иного, к кому мог бы обратиться с бóльшим успехом, нежели к Вам, достойнейшему из достойных художнику, в коем редкие и высокие дарования счастливо соединились с желанием споспешествовать пользе ближних. Уверен, что Вы благосклонно примете его; засим остаюсь с совершенным почтением Вашего высокоблагородия покорнейшим слугою41.
Таким образом, Кипренский должен был завязать отношения с Антонио Кановой, который в то время был президентом самой крупной и значительной римской ассоциации художников, Папской Академии Святого Луки, гораздо раньше, чем было принято считать до настоящего времени: очень вероятно, что это произошло вскоре после его приезда в Рим.
К первой половине 1817 года относится другой ранее неизвестный документ, письмо французского художника Жана-Батиста Викара, члена Академии Святого Луки, большого друга Кановы и римского художника Винченцо Камуччини42, бывшего президента Академии. Не называя имени Кипренского, Викар писал о нем Канове 28 апреля 1817 года:
Я сейчас видел портрет русского генерала, написанный художником – его соотечественником, который живет на улице Сант-Исидоро у синьора Мазуччи. Этот шедевр привел меня в восторг своей энергией, истиной и мастерством; все это наполнило меня восхищением и изумлением, и я ощущаю настоятельную потребность сообщить Вам, что вступление такого мастера в почетные члены Академии может способствовать только уважению к ней; он, по-моему, один из тех редких людей, которых следует не столько принимать согласно формальным требованиям, предписанным нашим статутом, сколько просить о вступлении в наши ряды. Мое исключительное предложение ясно дает Вам понять, что я желал бы сам иметь честь быть одним из тех, кто поддерживает кандидатуру этого выдающегося человека. Клянусь честью, что сам он ничего об этом не знает и что мы с ним об этом не сказали ни слова; таковы как моя осторожность, так и мое горячее желание видеть оцененными по достоинству выдающиеся заслуги. Поскольку я всегда буду самым непреклонным из всех, когда предлагается крайне посредственная кандидатура (как это весьма часто случалось), я не сомневаюсь, господин маркиз, что Ваше мнение совпадет с моим суждением43.
Естественно будет задаться вопросом, какое именно произведение Кипренского так воодушевило Викара. Ориентируясь на описание картины, следует предположить, что на ней изображен человек в мундире – и необязательно генерал (очень может быть, что в определении русского военного чина французский художник ошибся): в любом случае ни один портрет в этом жанре, созданный Кипренским до отъезда за границу, не соответствует описанию – за исключением, быть может, «Портрета Е. В. Давыдова» (1809), относительно которого мы не знаем, был ли он привезен художником в Италию. Тем не менее в цитированном выше письме к А. Н. Оленину, которое было написано спустя полтора месяца после визита Викара, Кипренский упоминает среди своих недавних работ «Портрет лейб-гусарского полковника Альбрехта», добавляя, что он «очень хорошо познакомил [его] с Римом» (I: 123). Следовательно, вполне возможно предположить, что русский художник показывал своему французскому коллеге именно это полотно.
Судьбе этого произведения стоит посвятить несколько строк. Долго считавшееся утраченным, несколько лет назад оно было отождествлено с «Портретом неизвестного с розовым шейным платком», ранее ошибочно атрибутированным как автопортрет художника (не позднее 1810‐х)44. Но эта атрибуция, основанная на сходстве неизвестного юноши, изображенного на этом полотне, с генералом Карлом Ивановичем Альбрехтом, чей портрет Кипренский написал в 1827 году, не представляется убедительной, поскольку фактическое несходство двух лиц совершенно очевидно; кроме того, очень маловероятно, чтобы Кипренский в своем письме назвал военный чин юноши, который изображен в штатском платье (см. ил. 2 и 3). На портрете К. И. Альбрехта кисти неизвестного художника, датированном приблизительно 1816 годом (Музей Хиллвуд в Вашингтоне; см. ил. 4)45, мы видим его запечатленным в том же примерно возрасте, что и неизвестный юноша в штатском: отсюда следует, что «Портрет лейб-гусарского полковника Альбрехта», написанный Кипренским, к сожалению, и сейчас должен считаться утраченным, тогда как вышеупомянутый портрет неизвестного в розовом платке ожидает приемлемой атрибуции.
Но вернемся к письму Викара. Согласно 7 и 8 статьям статута Академии Святого Луки, присуждение звания почетного члена иностранному художнику предусматривало членство в его отечественной академии, каковому условию кандидатура Кипренского удовлетворяла, и передачу в дар Академии своего рода вступительного взноса, картины, свидетельствующей о степени мастерства, и автопортрета; совет Академии мог сделать исключение только после запроса президента (вот почему Викар обратился к Канове) или ввиду исключительных заслуг кандидата46. Тем не менее имя Кипренского не фигурирует в материалах архива Академии Святого Луки, несмотря на то что в эти годы ее членами – или по заслугам, или почетными – стали многие русские художники, среди которых Федор Михайлович Матвеев, Эрнст Готхильф Боссе, Василий Алексеевич Глинка, Филипп Федорович Эльсон, Василий Федорович Бинеман и Константин Андреевич Тон, не говоря уже об Андрее Яковлевиче Италинском, который 1 февраля 1817 года официально получил статус чрезвычайного посланника и полномочного министра при Святом Престоле47.
Мы не знаем, почему именно инициатива Викара не была поддержана. Но сам по себе факт свидетельствует о том, что Кипренский за короткое время завоевал в Риме определенную известность и что в кругу художников о нем и его работах говорили уже и в эти ранние годы. Нелишне еще раз подчеркнуть и аргументацию Викара, заметившего, что кандидатами в члены Академии Святого Луки зачастую бывали представлены художники, не заслуживающие этой чести48, тогда как Кипренский, несомненно, был в высшей степени ее достоин; к тому же в известных нам источниках, относящихся к этому времени, нет ни одного рекомендательного письма, адресованного Канове, которое было бы написано в таком апологетическом тоне.
Среди итальянских знакомцев Кипренского в этот первый период пребывания художника в Италии следует назвать декоратора Тозелли, которого русский художник рекомендовал вниманию Оленина по случаю отъезда его в Петербург вместе с А. Л. Нарышкиным, ангажировавшим Тозелли в качестве сценографа Императорских театров (I: 134). Изучавший архитектуру в Риме с 1806 года и хорошо известный Канове49 (который, возможно, и представил его Кипренскому), уроженец Болоньи Анджело Тозелли между 1812 и 1816 годами оформлял постановки лирических опер в римских театрах50. В 1814‐м он создал вдохновленную лоджиями Рафаэля и прославленную римским поэтом Джоакино Белли в заключительной терцине сонета «Музей» (1834) знаменитую перспективу trompe-l’œil51 в глубине ватиканской Галереи Лапидариа. Прибыв в Россию в начале 1817 года, Тозелли несколько лет с успехом работал в Петербурге; более всего его имя известно по большой «Панораме Петербурга», которая сохранилась в Эрмитаже вплоть до наших дней. После поездки в Париж Тозелли вернулся в Рим, где и скончался в 1827 году52.
У Тозелли, который в свое время заслужил звание «великого мастера перспективы нашего времени» и портрет которого в 1826 году написал Ж.‐Б. Викар53, Кипренский вскоре после своего приезда в Вечный город прошел курс перспективы. Несколькими годами позже уроками Тозелли воспользовался и словацкий художник Франтишек фон Баласса, прибывший в Рим в сентябре 1824-го – в его альбоме эскизов сохранился проспект курса: это был цикл довольно серьезных лекций, разделенный на 24 части и читаемый в течение трех месяцев54. Это очевидное доказательство того, насколько серьезно Кипренский, хотя он уже и не был начинающим художником, отнесся к своим профессиональным занятиям в Италии.
Если в письме к А. Н. Оленину Кипренский сообщает, что он нашел подходящую квартиру лишь спустя три месяца по приезде в Рим, поселившись в доме № 18 по улице Сант-Исидоро (I: 134), то в письме Викара появляется имя Джованни Мазуччи, хорошо известное в первой половине XIX века в колонии русских художников в Риме: на протяжении по меньшей мере двух десятков лет семья Мазуччи (сначала это был глава семьи Джованни, начиная со второй половины 1830‐х – его вдова Тереза Сальпини)55 держала именно по этому адресу меблированные апартаменты для иностранных писателей и художников; среди многих постояльцев Мазуччи особенно стоит назвать Н. В. Гоголя. Кипренский же жил здесь до конца своего первого пребывания в Риме.
Хотя по прошествии двух веков, учитывая происшедшие за это время урбанистические изменения, трудно представить наглядно те условия, в которых русский художник жил и работал, однако нам в этом может помочь английский художник Джозеф Северн, сопровождавший в Рим в ноябре 1820 года поэта Джона Китса, которому было суждено умереть в Вечном городе спустя три месяца. В начале 1822 года Северн сменил Кипренского в его квартире на улице Сант-Исидоро и в письме к отцу от 24 марта этого года (мы еще вернемся к нему несколько далее) оставил довольно подробное описание вышеупомянутой квартиры, где c этого времени обосновалась временная резиденция Английской академии:
<…> в ней 6 комнат, расположенных анфиладой, – в 1‐й помещается наша Академия, ежевечерне в ней встречаются для занятий 14 англичан – 2-я – моя мастерская, 20 на 30 футов, с замечательным освещением – 3-я заполнена оригинальными этюдами – <…> эти комнаты без солнечного света – на солнечной стороне моя столовая – <…> два широких створчатых окна выходят на балкон и смотрят на весь величественный Рим – <…> 2-я комната с камином хороша в зимние ночи – здесь моя библиотека – в 3‐й моя спальня, откуда открывается такой же вид на восточную часть Рима – <…> на кровле я устроил обзорную площадку, с которой любуюсь панорамой Рима56.
Отсюда видно, что квартира Кипренского была довольно большой: шесть комнат, три выходящие на юг, три на север, и учитывая то, что только мастерская насчитывала добрых 50 м2, общей площадью она была по меньшей мере 200 м2.
В этих условиях, довольно роскошных и, как очевидно, очень удобных, Кипренский работал до 1822 года. После «Портрета лейб-гусарского полковника Альбрехта» в 1817‐м он написал «Портрет князя Е. Г. Гагарина в детстве» и картину «Молодой садовник». Эта последняя работа особенно знаменательна, поскольку она является первой картиной, написанной в новой манере, соединяющей элементы жанровой живописи с гармонией ренессансного канона57. Не вдаваясь подробно в специальные искусствоведческие проблемы, отметим только, что поза молодого садовника Кипренского, возможно, инспирирована картиной эпохи барокко «Мальчики с виноградом», принадлежащей кисти неаполитанского художника школы Караваджо Джованни Баттиста Караччоло по прозвищу Баттистелло58 (1600‐е, Художественная галерея Южной Австралии; см. ил. 15 и 17). К сожалению, о местонахождении картины Баттистелло в первые десятилетия XIX века не сохранилось никаких сведений; более того – неизвестно, правильно ли она была тогда атрибутирована: итак, невозможно выяснить, знал ли ее русский художник; но не может не вызвать интереса то, что подобный тип композиции был, как мы это впоследствии увидим, использован Кипренским и в неаполитанский период его жизни в Италии.
К середине 1817 года относится сложный и стоивший художнику многих усилий замысел полотна «Аполлон, поразивший Пифона» (I: 134) – эскиз «на темной бумаге двумя карандашами»59. И в этом случае, оставляя в стороне чисто эстетические проблемы, попытаемся привести несколько новых фактов, дополняющих историю этой утраченной картины. Обратим внимание на обнаруженное К. Ю. Лаппо-Данилевским несколько лет назад письмо А. Н. Оленина, адресованное в Италию поэту Константину Николаевичу Батюшкову 11 ноября (ст. ст.) 1818 года. Между прочим президент Академии художеств писал: «уговорите же его [Кипренского] не писать Аполлона Бельведерского как картину. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это не может быть хорошо»60. Это, несомненно, то самое письмо, на которое Батюшков ответил из Рима в феврале следующего года, сообщая: «[Кипренский] еще не писал Аполлона и едва ли писать его станет, разве из упрямства»61. 13 марта (ст. ст.) 1819 года Оленин с удовлетворением воспринял сообщение о возможном отказе художника от работы над замыслом, обреченным на неуспех (III: 384).
Начиная с этого момента и для последующих двух с половиной лет мы не располагаем никакими сведениями о возможном продолжении этой работы. Однако с 9 по 20 сентября 1821 года в жилище Кипренского проходила его персональная выставка, анонсированная газетой «Diario di Roma» (Римский дневник)62. Среди прочих ее посетил немецкий искусствовед Иоганн Давид Пассаван, посвятивший ей один из своих репортажей о жизни художников в Вечном городе63. В его рецензии есть замечание, которое, как ни странно, никогда не принималось во внимание64, – а именно то, что наряду с другими произведениями был выставлен и «Аполлон», хотя все еще на стадии картона, далее которой Кипренский в конечном счете никогда не продвинулся.
Но основное внимание в рецензии Пассавана уделено другому полотну, задуманному во второй половине 1810 годов, картине «Анакреонова гробница», о которой у нас еще будет случай вспомнить. Через месяц после публикации рецензия Пассавана была перепечатана в России журналом «Сын отечества». Здесь будет уместно воспроизвести эту публикацию полностью, заключив в квадратные скобки курьезные цензурные изъятия из оригинального текста:
Сюжет картины сам по себе уже довольно странен: на ней изображена пляска молодого безобразного фавна с [обнаженной] вакханкой65 около гробницы Анакреона, а другой фавн постарше играет на флейте; богатый пейзаж, слабо освещенный, как будто лунным светом, заполняет большое пространство вокруг фигур, выделенных солнечными лучами66. Кожа писана весьма странным приемом, она как бы составлена из ярко определенных красок (белой, желтой, красной и голубой), но таким образом, что только с некоторого расстояния они составляют общий тон кожи; краска наведена так густо, что во многих местах как бы сморщилась. И все-таки картина остается произведением, которому можно удивляться, хотя с некоторой озадаченностью. Не менее странна и другая начатая Кипренским работа, представляющая в натуральную величину Аполлона Бельведерского, который, впрочем, должен аллегорически изображать Россию, поразившую змея-Наполеона. [Из деликатности тонкое облако прикрывает нижнюю часть тела]67.
Невозможно не задаться вопросом, случайны ли эти цензурные изъятия или они являются следствием излишней стыдливости русского редактора – свойство, очевидно, общее для императорской России и папского Рима, где сложное отношение к обнаженному человеческому телу имело старинные корни (достаточно вспомнить обвинения в безнравственности, предъявленные Микеланджело за обнаженные фигуры на фреске «Страшный суд»).
Известно, что картине Кипренского «Анакреонова гробница» некто Микеле Чотти68 посвятил стихотворение «La Tomba d’Anacreonte. Quadro d’Orest Kiprenschy da Pietroburgo», напечатанное отдельной брошюрой в Риме в 1820 году. Высказывалось предположение, что это стихотворение было заказано самим художником, желающим добиться благоволения не расположенного к нему императорского двора (IV: 684); но в действительности сам по себе этот факт нисколько не является необычным. Вот лишь два примера: в 1833 году гравер и скульптор Винченцо Гаясси посвятил терцины полотну Брюллова «Последний день Помпеи», а в 1845‐м литератор, аббат Эммануэле Муццарелли написал сонет по картине Бруни «Медный змий»69.
Несмотря на то что Чотти был поэтом, малоизвестным даже среди современников, в периодике этого времени сообщается о многочисленных поэтических чтениях в Академии Тиберина70, знаменитом римском литературном обществе: в частности, на заседании 3 июня 1821 года Чотти декламировал стихотворение под названием «Анакреонтика»71; именно так озаглавлена его упомянутая выше брошюра. Среди прочих членом Академии был и Антонио Канова, в библиотеке которого сохранился экземпляр брошюры Чотти72, возможно, подаренный скульптору лично Кипренским.
В том, что касается выполненных в Италии работ Кипренского, наши исследования нацелены прежде всего на выявление новых фактов, которые могли бы не только обогатить сведения об известных его картинах, но и – главным образом – способствовать обнаружению новых, ранее неизвестных. Однако при этом невозможно избегнуть и обратного результата – к счастью, это только один случай, – а именно опровержения принятой атрибуции произведения Кипренскому. Мы имеем в виду рисунок, относящийся к 1818 году и известный под названием «Портрет графа Петра Дмитриевича Бутурлина».
В первые времена Реставрации немногие русские имели возможность побывать в Италии, если только это не было вызвано необходимостью дипломатических отношений между Россией и Европой. Однако в начале ноября 1817 года граф Дмитрий Петрович Бутурлин, директор Эрмитажа и известный библиофил, вышел в отставку и переселился вместе с семьей во Флоренцию, где и прожил до самой своей смерти в 1829‐м. Исследователи И. Н. Бочаров и Ю. П. Глушакова, обратившиеся к итальянским потомкам Бутурлиных, атрибутировали Кипренскому карандашный рисунок, датированный 1818 годом, а именно – «Портрет графа Петра Дмитриевича Бутурлина» (см. ил. 6); несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств того, что художник когда-либо работал для этого семейства, ученые сочли этот рисунок несомненно неизвестным и притом значительным произведением Кипренского, свидетельствующим о более тесных и регулярных, чем это было принято полагать, отношениях художника с Бутурлиными73.
Однако пребывание Кипренского во Флоренции в 1818 году никак не документировано, и более того: в «Записках» младшего брата П. Д. Бутурлина Михаила Дмитриевича Бутурлина, внимательного летописца семейной истории, нет ни одного упоминания – как следовало бы ожидать – о том, что Кипренский создал портрет его старшего брата. Кроме того, сомнения в атрибуции рисунка Кипренскому внушает и сделанная на нем надпись «Natalie 1818», интерпретированная вышеупомянутыми учеными как простое указание на время создания, а не как подпись художника: по их мнению, после полутора лет пребывания в Италии Кипренский сделал ошибку в слове «Natale» (Рождество), которое в таком случае является не подписью автора, а датой создания портрета: «Рождество 1818 года». Но «Натали» – это все же женское имя; и если для проверки атрибуции постараться поискать рисунок с аналогичной подписью, мы обнаружим таковой, принадлежащий руке Натальи Ивановны Ивановой, племянницы Софии Ивановны Загряжской, жены савойского графа Ксавье де Местра. Этот рисунок является частью альбома, сохранившегося в архиве де Местров в словацком замке Бродзяны (тогда эта местность принадлежала Венгрии; в Бродзянах находится единственный в Европе музей А. С. Пушкина). Эта резиденция была в 1844 году приобретена бароном Густавом Виктором Фогель фон Фризенгофом, женой которого Н. И. Иванова стала в апреле 1836‐го в Риме74. Получив любезно предоставленную нам директором музея в Бродзянах репродукцию портрета, мы были поражены его абсолютной идентичностью карандашному портрету П. Д. Бутурлина, который ошибочно атрибутирован Кипренскому (см. ил. 5).
Что же касается определения точного времени и обстоятельств, при которых этот портрет был создан, то из послужного списка П. Д. Бутурлина следует, что около середины осени 1818 года юноша возвратился в Россию, где и оставался некоторое время, прежде чем отправиться в Париж75. Следовательно, вполне возможно предположить, что портрет был создан в конце того же года в России, где в это же самое время проживало и семейство де Местров76: уже с середины 1810‐х граф Ксавье де Местр был постоянным посетителем салона Бутурлиных, будучи хорошим другом Анны Артемьевны Воронцовой, супруги графа Дмитрия Петровича77. Склонность Н. И. Ивановой к живописи исчерпывающе документирована, и в письмах графа де Местра можно найти сведения о том, что летом 1830 и 1831 годов Наталья посещала уроки акварельной живописи у неаполитанского пейзажиста Джачинто Джиганте78, довольно известного представителя живописной школы Позиллипо.
Проблематичным оказался и тот факт, что портрет, обнаруженный двумя русскими учеными в Италии, назван ими рисунком. Занимаясь этим вопросом, мы выяснили, что литография «Портрета графа Бутурлина» «была передана Музею истории города Обнинска в дар потомками Бутурлиных в Италии через журналиста И. Н. Бочарова»79. Что же это? третья копия, идентичная двум предыдущим? В ответе на наш запрос исторический отдел музея сообщил, что в действительности речь идет о литографии, выполненной в начале XIX века и полученной в дар от Джорджо Бутурлина-Янга, одного из потомков этой русско-флорентийской династии. Следовательно, разрешить эту запутанную проблему можно, только предположив, что оригинал портрета, созданный Натальей Ивановой в 1818 году в России, остался у де Местров, но с этого рисунка, очень понравившегося Петру Дмитриевичу, была сделана литография, которая отправилась вместе с ним в Италию, впоследствии перешла к его потомкам, считавшим ее рисунком Кипренского, и недавно именно она и была передана российскому музею.
Начиная с 1818 года в письмах Кипренского появляется имя некоего Пьетро Деликати, который неоднократно информировал Лонгинова о делах Кипренского. Несмотря на то что суждения Деликати в этот период были для Кипренского очень лестными, в 1824 году в письме к Гальбергу художник упомянул его среди своих врагов (I: 150): это свидетельствует о том, что между ними произошел какой-то разлад.
Речь идет о композиторе и учителе музыки Пьетро Деликати родом из города Лорето80. В апреле 1803‐го он приехал в Петербург с рекомендательным письмом кардинала Эрколе Консальви вместе с семейством своей юной ученицы княжны Марии Яковлевны Лобановой-Ростовской81. В России Деликати провел около десяти лет, работая учителем музыки и завязав близкие дружеские отношения в том числе с секретарем императрицы Николаем Михайловичем Лонгиновым и публицистом Александром Ивановичем Тургеневым82 (не исключено и то, что он уже в Петербурге познакомился с Кипренским). Согласно его свидетельству (автограф, представляющий собой что-то вроде краткого жизнеописания автора, недавно обнаруженный его потомком, композитором Карло Деликати)83, он сопровождал графа Карла Васильевича Нессельроде на Венский конгресс – но эта деталь заставляет усомниться в достоверности сведений, изложенных в манускрипте: хотя пребывание Деликати в Вене в 1814 году подтверждено письмом Доротеи Шлегель к сыну, художнику Йонасу Фейту, который в это время находился в Риме, нам не удалось обнаружить имени Деликати в бумагах Нессельроде84.
В начале 1815 года Деликати вернулся в Рим, где в течение тридцати лет поддерживал постоянные отношения не только с Кипренским, но и со многими представителями русской колонии в Риме, часто играя роль их посредника: среди них были Самуил Иванович Гальберг, граф Александр Иванович Остерман-Толстой, пейзажист Сильвестр Феодосиевич Щедрин, бывшая его ученицей Мария Яковлевна Лобанова-Ростовская, в 1808‐м вышедшая замуж за Кирилла Александровича Нарышкина, сына вышеупомянутого директора Императорских театров85; наконец, Григорий Иванович Гагарин, по поручению которого Деликати организовал аукционную распродажу книг, оставленных Гагариным в Риме после того, как он был назначен посланником при баварском дворе86, а также Федор Александрович Голицын, который в 1839 году воспользовался услугами Деликати при покупке недвижимости, ныне известной как Палаццо Арагона Гонзага (или Негрони, или еще Балами Голицын)87.
Беглую характеристику этого человека набросала в своем письме из Рима от 30 марта 1838 года княгиня Зинаида Александровна Волконская – фрагмент этого письма заслуживает цитации:
Со времен Гагарина г. Деликати, прежде бывший учителем музыки в России, весьма честный человек, с множеством респектабельных знакомств, много раз оказывался полезным в разных обстоятельствах и всегда давал доказательства своей порядочности. Граф Гурьев <…> доверил ему управление польским костелом Святого Станислава и прилегающими зданиями88.
Это последнее сообщение позволяет также установить связь между Деликати и аббатом Антонио Сартори, рисованный портрет которого Кипренский создал в начале 1820‐х; Сартори был сначала вице-ректором, а затем – ректором именно костела Святого Станислава на Виа делле Боттеге Оскуре89. Существует и другой портрет этого священнослужителя, в акварели архитектора Николая Ефимовича Ефимова и Карла Павловича Брюллова «Зрительный зал театра в доме князя Г. И. Гагарина в Риме» (1830, ГИМ), запечатлевшей представление, организованное князем Гагариным в Галерее Кортона в Палаццо Памфили в феврале 1830 года90: в глубине акварели – сцена, на которой идет представление водевиля «Медведь и паша», а слева на переднем плане присутствуют княгиня З. А. Волконская и аббат Сартори, пожилой и корпулентный – очень похожий на персонажа рисунка Кипренского (см. ил. 9 и 10)91.
Здесь необходимо заметить, что Пьетро Деликати был тезкой профессора геометрии, перспективы и оптики Академии Святого Луки – в результате этих людей, живших и работавших в Риме в одно и то же время, периодически путают92. Например, в феврале 1821 года от имени интересующего нас Деликати был направлен запрос относительно возможности вывоза в Россию двенадцати картин современных художников93. Заказанные тайным советником Петром Львовичем Давыдовым, картины этих «славных пейзажистов», среди которых был Ф. М. Матвеев, были выставлены в римском доме Деликати – в Палаццо Потенциани, № 24 по Виа деи Луккези. И тут же в следующем году состоялась еще одна маленькая выставка94 – на этот раз картины были заказаны Николаем Дмитриевичем Гурьевым, будущим российским посланником в Риме; для их вывоза Деликати запросил другое разрешение. Это подтверждается тем фактом, что и несколько лет спустя наш «светлейший синьор Пьетро Деликати» проживал по этому же адресу95, между тем как в начале 1820‐х профессор Академии Пьетро Деликати имел местожительство на Виа Ларга алла Кьеза Нуова, № 21.
Наверное, мы никогда не узнаем, чем Деликати досадил Кипренскому в 1824 году, но восемь лет спустя, будучи в Риме, вышеупомянутый А. И. Тургенев оставил в дневнике запись об утренних часах, проведенных в обществе их обоих (III: 462): вероятно, с течением времени эмоции остыли, и художник не сохранил неприязни к Деликати.
Вот уже много лет идентификация личности человека, изображенного на «Портрете князя А. М. Голицына» – шедевре Кипренского, традиционно датируемом 1819 годом, является спорной96. Сомнение в атрибуции персонажа, обычно считавшегося коллекционером и страстным любителем искусства Александром Михайловичем из ветви Голицыных-Михайловичей (род. в 1772‐м), породило одно из писем С. Ф. Щедрина: 5 марта 1819 года он сообщал родителям, что встретился в Риме с «молодым мне знакомым Галицином»97: возможно ли, чтобы сорокасемилетний человек был назван «молодым»? Недавно, в качестве альтернативы, было высказано предположение, что речь может идти о его тезке из ветви Голицыных-Алексеевичей (1798 года рождения)98. И это еще одно запутанное обстоятельство, требующее своего прояснения.
Обратимся к точному факту: человек, изображенный на интересующем нас портрете, – несомненно, отец братьев Федора Александровича и Михаила Александровича Голицыных: это становится очевидно, если сравнить портрет Кипренского с другим миниатюрным портретом, созданным немногими годами ранее французским художником Даниэлем Сеном (Государственный музей А. С. Пушкина). Его присутствие в Италии в 1819 году исчерпывающе документировано, например, М. Д. Бутурлиным, который засвидетельствовал свою встречу во Флоренции с князем А. М. Голицыным, «покупателем драгоценных картин и разных редкостей»99. Этого более чем достаточно, чтобы отличить его от его тезки, который никогда не проявлял специальной страсти к произведениям искусства и тем более не был в это время за границей.
Другое доказательство предложенной атрибуции можно обнаружить в мемуарах французского писателя Ипполита Николя Огюста Оже, который описывает различные встречи с князем в Париже в период конца 1819–1820 годов, упоминая также его прозвище «prince-cheval» (князь-лошадь), которым его обладатель был обязан своему длинному лицу, подобному тому, которое мы видим на вышеупомянутых портретах100. Оже сообщает также и о том, что, прежде чем приехать в Париж, А. М. Голицын жил в Неаполе; этот же факт подтверждают и несколько писем С. Ф. Щедрина, написанные между июнем и ноябрем 1819 года101. Возможно, что князь находился в Королевстве Обеих Сицилий с лета 1818-го, поскольку он отправился туда вместе с художником Францем Кателем102. Наконец, еще одно письмо, написанное из Неаполя, а именно – письмо К. Н. Батюшкова к А. И. Тургеневу от 3 октября 1819 года, – сообщает о скором отъезде князя А. М. Голицына из этого города: будучи «влюбленным в Неаполь, [он] решился покинуть свою арену и отправляется в Париж»103.
Отсюда следует очень вероятное предположение, что портрет Голицына был создан Кипренским не позже октября 1819-го: присутствие А. М. Голицына в Риме в это время подтверждается воспоминаниями С. И. Гальберга104. И, прибавим, фон портрета, вероятно, был написан за очень короткое время, поскольку купол собора Святого Петра в Ватикане выглядит несколько несообразно: ему недостает яблока и креста, венчающих лантерну, – это можно объяснить только определенной торопливостью художника в данном случае.
А кто же этот «молодой Галицин»? Возможно, что на самом деле Щедрин имел в виду другого побывавшего в Риме весной этого года отпрыска многочисленной династии Голицыных105.
К первому итальянскому периоду относится написанный Кипренским «Портрет художника Грегорио Фиданца», приобретенный Министерством культуры на аукционе в 1991 году. Грегорио Фиданца принадлежал к семье художников, он был пейзажистом, реставратором, коллекционером, торговцем и непревзойденным имитатором. О нем граф Григорий Владимирович Орлов, чей литографированный портрет Кипренский создал в 1822 году, оставил следующие воспоминания:
В области второстепенной живописи Рим обладает знаменитым пейзажистом в лице кавалера Фиданца, родившегося и образовавшегося в Риме <…>. Величайшая легкость, прекрасный колорит, смелая кисть, отличное знание перспективы – таковы блестящие достоинства Фиданца, который прибавил к ним искусство подражания самым знаменитым пейзажистам; он пишет свои картины с таким сходством, что даже самые опытные знатоки ошибаются, принимая полотна этого художника за картины мастеров, которым он хотел подражать. <…> Его легкая кисть и долгая, исполненная трудов жизнь переполнили Рим, Италию и всю Европу огромным количеством его полотен106.
Тесно связанный с польской колонией в Риме107, член Академии в Риме, Флоренции, Болонье и Парме, Фиданца пользовался и сомнительной славой фальсификатора108.
В письме Кипренского к Гальбергу от 26 июля (ст. ст.) 1827 года находим упоминание о человеке по имени Фиданца, которого, как пишет художник, невозможно встретить «без косы» и «опрятно одетым» (I: 167). Вероятно, русский художник не знал о смерти коллеги – Грегорио Фиданца умер в Риме в январе 1823-го, но принимая во внимание то, что человек на «Портрете Грегорио Фиданца» изображен без неотъемлемой косы и не так чтобы плохо одет, возможно, что в письме Кипренского говорится об одном из сыновей Фиданца, Джованни или Антонио, которых в Риме в 1811 году знавал будущий декабрист Николай Иванович Тургенев, охарактеризовавший их как хороших музыкантов109:
По вечеру <…> ходили к одному рещику, у кот[орого] вчера были, слушать музыку. Играл Поляк Билькевичь на Фортопианах и Фиданца сын на скрыпке, и третий на виолончеле. Все очень хороши. Я много говорил с отцем Фиданца110.
Из двух кандидатов на наличие отношений с Кипренским предпочтительнее, конечно, Джованни, который в это время продолжал жить в Риме: известно, что впоследствии он был помещен в психиатрическую лечебницу, а в 1837‐м был официально признан душевнобольным111 – его личность лучше вписывается в характеристику эксцентричного Фиданца, оставленную Кипренским. Его брат, напротив, впоследствии переселился в Милан, где работал в качестве реставратора и снискал известность как не заслуживающий доверия торговец произведениями искусства112.
В музее Торвальдсена в Копенгагене находится портрет работы Кипренского, который тоже заслуживает нашего внимания. В одном эссе XIX века читаем:
Надо думать, что Торвальдсен высоко ценил талант Кипренского. Это мы заключаем из того, что в числе картин, доставшихся музею от художника, и вообще отличающихся довольно строгим выбором, есть также и другая работа Кипренского, великолепный эскиз, портрет какого-то армянского священника. Кипренский, единственный представитель русского искусства в Торвальдсеновом музее113.
Уже в рукописной описи живописной коллекции Торвальдсена, относящейся к 1830‐м годам, под № 12 значится картина, описанная как «En Armener af Kribrinshij»114 (Армянин Крибринского). Вероятно, произведение, ныне известное под названием «Портрет армянского священника»115, было подарено или продано датскому скульптору между 1832 и 1833 годами, когда Кипренский написал «Портрет Бертеля Торвальдсена». К сожалению, ни в архиве датского скульптора, ни в мемуарах о нем, ни в посвященных его биографии исследованиях имя Кипренского не встречается больше ни разу.
Пытаясь выяснить, кто же изображен на портрете армянского священника, мы обратились за консультацией к библиотекарям армянского монастыря мхитаристов Сан-Ладзаро дельи Армени в Венеции, которые сообщили нам, что по соматическим характеристикам и особенно по греческой камилавке на голове изображенного священнослужителя, его принадлежность к армянской нации в высшей степени маловероятна. Архиепископ православной архиепископии Италии и Мальты, к которому мы обратились за дальнейшими разъяснениями, подтвердил, что на портрете почти безусловно запечатлен священнослужитель греческой православной церкви.
Достойная внимания идентификация модели в этом случае очень затруднительна – за счет скудости иконографических материалов для сравнения и некоторого однообразия лиц: в большинстве случаев это изображения почтенных мужчин, заросших густыми окладистыми бородами, которые не позволяют достаточно хорошо рассмотреть характерные черты лиц. Тем не менее речь может идти только о священнике, жившем или бывавшем в Риме или других итальянских городах. На наш взгляд, подходящим кандидатом в модели Кипренского для этого портрета вероятнее других мог бы быть отец Джоакино Валамонте, уроженец Ионических островов и приходский священник греческой православной церкви Святейшей Троицы в Ливорно с 1810 по 1851 год116. Вплоть до 1823 года – времени учреждения православной церкви при русской дипломатической миссии во Флоренции117 – Валамонте отправлял службы у Бутурлиных в их крошечной домашней часовне, устроенной в начале 1818-го. В мемуарах М. Д. Бутурлина его имя часто встречается. Здесь уместно привести описание его внешности:
Это был высокий и весьма красивый мужчина чисто-Греческого типа, но уже с легкой проседью. Родина его была остров Санта-Мавро118, а фамилия Валламонте, чисто-Итальянская, как почти все фамилии уроженцев Ионических островов, находившихся долго под Венецианской республикой <…>. Так как церковная служба на непонятном для нас Греческом языке была немалым неудобством, то добрейший наш падре Джиовакино принялся трудиться до поту лица (самоучкой, вероятно) над Славянской литургею, хотя не понимал ни слова из нее. <…> Отец Джиоваки[н]о, как и все Греческие священники, проживающие в Италии, сохранял одежду священного сана, бороду и камилавку (черную) с выгибами119.
Излишне уточнять, насколько хорошо это описание соответствует портрету так называемого армянского священника.
Если Валамонте действительно является тем человеком, который запечатлен на копенгагенском портрете, естественно задаться вопросом о том, когда и где Кипренский мог написать его портрет. Что касается «когда»: принимая во внимание тот факт, что священник родился около 1776 года120, предположение, что его портрет должен был быть создан в первый период пребывания Кипренского в Италии, является вполне логичным: человеку на портрете явно около сорока лет – если бы это было начало 1830‐х, ему должно было бы быть за пятьдесят. Относительно «где»: безусловно, из ответа на этот вопрос следует исключить Флоренцию, поскольку в мемуарах Бутурлина нет ни одного упоминания о портрете Валамонте. Возможным ответом был бы Ливорно – город, из которого часто отплывали корабли, доставлявшие в Россию произведения русских художников, временно проживавших в Италии. Однако наиболее правдоподобный вариант – это, конечно, Рим: уже начиная с XVIII века русские императоры взяли под свое покровительство ливорнскую церковь Святейшей Троицы, получавшую благотворительные взносы, дары и финансирование от русского двора. Взамен, как мы это уже видели, православные священники из Ливорно были к услугам русских, живущих в Италии: например, в мае 1818 года Валамонте специально приезжал в Рим, чтобы крестить Льва Григорьевича Гагарина, третьего сына князя Григория Ивановича121, с которым Кипренский был очень близок – приветы и похвалы князю Григорию Ивановичу очень часты в письмах Кипренского к С. И. Гальбергу после возвращения художника в Россию (I: 150, 156, 166, 169).
Другой портрет Валамонте, обнаруженный в результате долгих поисков – к сожалению, имя и время жизни создавшего его художника неизвестны, – изображает священника уже в пожилые годы; но он также облачен в рясу122. И хотя качество репродукции оставляет желать лучшего, а поседевшая и разросшаяся борода еще больше скрывает черты лица, это все же не может поколебать нашей почти уверенности в том, что оригинал этого портрета очень похож на модель Кипренского своим орлиным носом и профилем (см. ил. 7 и 8).
Наше предположение имеет гипотетический характер, но поскольку мы не располагаем сравнительным материалом, позволяющим точно атрибутировать личность человека, запечатленного на этом портрете, нельзя исключить и другие возможные варианты его идентификации. Кроме того, в воздухе повисает еще один необходимый вопрос: если наше предположение справедливо, то где именно все эти годы хранилась картина – на наш взгляд, одна из лучших работ Кипренского – после его отъезда из Рима в 1822 году?
3. Римские натурщики
Средой, в которую Кипренский был вхож в Риме по понятным причинам, были натурщики. На эскизе, который собственноручно подписан художником «1821 июнь 18. М.ме Скачи и Марьюча», женщина, изображенная рядом с Мариуччей, весьма вероятно имеет отношение к натурщику Скачи, упомянутому Кипренским в двух письмах 1824 и 1825 годов (I: 151 и 160).
Один из документов Академии Святого Луки, относящийся к 1830‐м, озаглавлен: «Giubilazione del modello Giacomo De Rossi, e nomina di Saverio Di Girolamo detto Scaccetta»123 («Уход на пенсию натурщика Джакомо Де Росси и назначение Саверио Ди Джироламо, по прозванию Скаччетта»). Имя Саверио подсказывает более чем возможную идентификацию с личностью натурщика, высоко ценимого назарейцами в начале 1810‐х (в то время он был еще подростком)124. В разных документах эпохи его называют излюбленной моделью многих художников, в том числе Кановы:
Саверио Скачча, натурщик, которого особенно предпочитает Канова, – истинный денди среди натурщиков; он сам гордится своей красотой и свободой, с которой может принимать любое выражение и позу. Он хороший муж и отец, а в своей профессии любезен и усерден125.
Прозвище этого Саверио известно в самых разных транскрипциях: Скача, Скачча, Скаччетта, Скаччетто. Между 1814 и 1816 годами оно часто фигурирует в римском дневнике датского художника Кристофера Вильгельма Эккерсберга126, который был близко знаком со своим знаменитым соотечественником Бертелем Торвальдсеном. Рядом с именем Скачча упоминается и имя натурщицы Нены – то есть Маддалены, подруги Эккерсберга в то время127; после отъезда Эккерсберга из Рима, возможно, она стала подругой Кипренского, который в 1825‐м намекнул на свою прежнюю натурщицу и предмет его нежных чувств, назвав ее тем же уменьшительным именем Нена (I: 160).
В 1835 году Томмазо Минарди запечатлел Саверио на рисунке «Два знаменитых римских натурщика Джакомо и Скаччетта»128, а биографу художника из Фаэнцы мы обязаны этими строками:
И старые натурщики, помнящие о своих лучших временах, невольно способствовали тому, что в практику школы обнаженной натуры вошли некоторые форсированные положения рук и ног. Среди этих старых остатков былых статуй достойны памяти натурщик по прозванию Мачеллайо, обладавший атлетическими формами, и изящно сложенный Скачча <…>. Они были настоящими моделями, пунктуальными, почтительными, способными держать любую позу добрых два часа – и часто при конце сеанса можно было услышать от них такую реплику на римском диалекте романеско: «Если вам от меня еще что-то нужно, вперед! я могу корячиться сколько вам угодно»129.
Но еще более занятен и забавен рассказ анконского художника Франческо Подести:
В Академии чередовались двое натурщиков, один крепкого сложения, другой грациозный. Но поскольку последний слишком растолстел, то перестал нравиться молодым студентам, которые обратились к президенту, сменившемуся в начале нового школьного года, и предложили ему более красивого натурщика, <…> некоего Скаччетту. Но президент не стал слишком заботиться об этом деле. Посему прежде чем открылась школа, студенты сошлись на тайное сборище, на коем один из них, соединявший большое дарование с характером забавника, предложил молчаливую, но решительную демонстрацию: предоставить ненавистному натурщику принять позу, а потом по данному знаку сложить все листы бумаги в папки, потушить все светильники и удалиться. Предложение было встречено рукоплесканиями. <…> Но акция имела последствия, о которых бунтари не подумали. Натурщик, оказавшийся в почти полной устрашающей темноте, кувыркнулся со скамьи, старый сторож стал звать на помощь, а гвардеец у дверей поднял тревогу130.
Суматоха, которая воспоследовала, сначала была принята за предвестие политического мятежа, и участники акции только чудом остались невредимы, отделавшись парой ночей, проведенных в камере предварительного заключения.
В письме 1824 года Кипренский называет еще одного натурщика, некоего Антонио. Вне всякого сомнения, это тот самый человек, которого в начале 1820‐х описал маркиз Массимо Д’Адзельо:
После обеда я пошел в класс обнаженной натуры, который содержал Антонио, натурщик, хорошо известный всем немолодым художникам. Некрасивый лицом, он был великолепно сложен – истинный образец той античной расы, которая населяет барельефы колонны Траяна. Антонио был добрейшим человеком, интересовался искусством; он давал кредит малоимущим молодым ученикам, и даже иногда помогал им своими деньгами <…>. Но правда и то, что под горячую руку он убил своего брата. Нет в мире совершенства!131
И этот натурщик неоднократно упоминается в дневнике Эккерсберга в то же время, что и Скачча, и его имя связано с другими художниками эпохи: такими, например, как туринский исторический живописец Луиджи Барне, стипендиат Академии Святого Луки, и Дэвид Скотт, шотландский исторический живописец132. В воспоминаниях Подести утверждается, что Антонио и Мачеллайо, упомянутый биографом Минарди, – это одно и то же лицо (возможно, что прозвище Мачеллайо – мясник – было спровоцировано именно совершенным им преступлением). Свидетельство Подести относится к лету 1836 года, когда в Риме появились первые признаки той эпидемии холеры, которая поразила Вечный город в следующем году:
<…> однажды, когда [он] был у некоего Антонио по прозвищу Мачеллайо, он спросил его в шутку: что ты скажешь о холере? ты ее боишься? – Я боюсь? ответил он; я не боюсь и самого дьявола. – Он и вправду был отважнейшим человеком, римлянином античных времен, сильным, как гладиатор133.
Не стоит говорить, что через день Подести узнал, что натурщик умер от этой страшной болезни…
4. Международная колония художников
Обратимся теперь к русским художникам, которые в конце XVIII – начале XIX века жили в Риме. Если говорить о первых двух годах пребывания Кипренского в Италии, то в соответствующей литературе, как правило, упоминается только сравнительно немолодой пейзажист Ф. М. Матвеев (жил в Риме уже с 1779-го). По словам С. И. Гальберга, отношения между Кипренским и Матвеевым, которого подозревали в том, что он по поручению А. Я. Италинского шпионил за стипендиатами Академии, были не очень-то дружескими134. Но теперь мы можем дополнить скупые сведения о жизни Матвеева в Риме несколькими интересными и ранее неизвестными фактами.
Известно, что Матвеев имел семью135, однако он предпочитал скрывать тот факт, что в 1795 году он женился на римской девушке Виттории Кадес, дочери резчика камей Алессандро Кадеса и племяннице Джузеппе Кадеса, исторического живописца, автора утраченного иконостаса для Церкви Святой Марии Магдалины в Павловске136. Поскольку, как это засвидетельствовал в свое время Ф. И. Иордан, «в Папской области <…> иноверца, не принявшего католическую веру, не женят на католичке»137, из самого факта его женитьбы следует, что Матвеев принял католическое вероисповедание. Не случайно, что уже упомянутый выше Н. И. Тургенев, который во время своего пребывания в Риме в ноябре–декабре 1811 года неоднократно встречался с пейзажистом138, не оставил ни одного свидетельства ни о его семье, ни о его обращении в католичество, выражая в своих письмах исключительно восхищение художником и дружеские чувства к нему. О Виттории и ее жизни в браке с Матвеевым мы не знаем почти ничего, за исключением того, что она названа «распутной» в списке художников, относящемся к 1798–1799 годам и составленном шведским ориенталистом Йоханом Давидом Окербладом, который меньше чем через 20 лет станет большим приятелем А. Я. Италинского – и если бы не скоропостижная смерть Окерблада в феврале 1819-го, он стал бы гидом великого князя Михаила Павловича во время пребывания последнего в Риме; к этому мы еще вернемся несколько позже139.
В фонде капитолийского нотариата в Государственном архиве Рима хранится завещание Матвеева, составленное за несколько дней до его смерти в августе 1826 года140. Документ, датированный 31 июля, не содержит каких-либо особенно значительных сведений, кроме подтверждения того, что Матвеев умер католиком, – в нем выражено желание Матвеева быть похороненным в церкви Сант-Адриано, в приходе которой он тогда жил, и назначения его жены Виттории единственной наследницей всего его имущества141. Несмотря на то что это имущество в завещании не описано подробно, из него все же следует, что художник не был таким неимущим, как за восемь лет до того, когда император Александр I, осведомленный о его материальных затруднениях, распорядился назначить ему пожизненную ренту142. Но нам не удалось найти следов захоронения Матвеева – несомненно только то, что он не был похоронен на некатолическом кладбище Тестаччо.
Однако в действительности, кроме Матвеева, в Италии в первые десятилетия XIX века проживали и другие художники, подданные Российской империи, следовательно, русские с точки зрения если не этнической, то геополитической: прибалтийские художники Эдуард Шмидт фон дер Лауниц, Густав Фомич Гиппиус, Иван Егорович Эггинк, Август Иванович Пецольд, Отто Фридрих Игнациус, Йоганн Якоб Мюллер и Василий Федорович Бинеман, прибывшие в Рим в 1817 году143. Кроме них, следует назвать барона Отто Магнуса фон Штакельберга, археолога и живописца, посетившего Рим во второй раз в 1816‐м, и рижского художника Э. Г. Боссе, прибывшего в Рим из Дрездена в том же году144. Неудивительно, что эти художники были культурными космополитами – возможно, они были более близки немецкой колонии, чем русской, хотя впоследствии стала совершенно обычной презентация человека соответственно «официальной» национальной принадлежности: так, например, Игнациус был отрекомендован датскому скульптору Торвальдсену как «русский художник», и в списке почетных членов Академии Святого Луки художник Бинеман тоже назван «русским»145.
В апреле 1819 года все они приняли участие в экстраординарном для Рима тех лет событии, о котором подробнее мы скажем позже: выставке работ немецких художников, организованной в резиденции прусского посольства Палаццо Каффарелли по случаю визита австрийского императора Франца I. Здесь необходимо только заметить, что единственным исключением из общего немецкого состава экспонентов (немецкого в широком смысле слова, поскольку в выставке участвовали швейцарские, австрийские, бельгийские, голландские, шведские, датские и прибалтийские художники – этих последних Фридрих Шлегель симптоматично назвал выходцами «из тевтонских провинций Российской империи»)146 были итальянец Пьетро Тенерани и наш Кипренский.
В любом случае с конца 1818 года и русские коллеги Кипренского, хорошо известные искусствоведам, приезжали в Рим совершенствовать свое мастерство147: живописцы Сильвестр Феодосиевич Щедрин и Василий Кондратьевич Сазонов (приехавший на средства графа Николая Петровича Румянцева), скульпторы Михаил Григорьевич Крылов, Самуил Иванович Гальберг и Василий Алексеевич Глинка. Во время карнавала 1819 года в Риме находился поэт Константин Николаевич Батюшков148, прибывший 5 февраля вместе с Филиппом Федоровичем Эльсоном, а в конце этого года к ним присоединились исторический живописец Петр Васильевич Басин и Константин Андреевич Тон; в марте 1820 года, после остановки в Милане, в Вечный город вслед за покровительствующей ему княгиней Зинаидой Александровной Волконской приехал Федор Антонович Бруни149. Наконец, в 1821‐м в Италию за свой счет прибыл исторический живописец Иосиф Иванович Габерцеттель, есть свидетельство пребывания в Риме в это же время пейзажиста Филипсона (имя и отчество его неизвестны, но возможно, что это «великолепный пейзажист» из Лифляндии Филипсен, упомянутый немецким искусствоведом Георгом Каспаром Наглером)150. С одними Кипренского связывали тесные дружеские отношения, с другими – спорадические и поверхностные, но многим, не имеющим собственных возможностей, он помогал найти квартиру или обеспечивал заказы.
В Риме в это время были и поляки. Любопытна, в частности, заметка в дневнике художника Войцеха Статлера, жившего в Вечном городе с середины октября 1818 года. 13 января 1819‐го он описал визит к своему соотечественнику, архитектору Каролю Подчашиньскому, в день православного Нового года:
<…> застали у него всех российских пенсионеров, которые поцеловались с ним и по очереди с нами. Это были зрелые и просвещенные люди, отличные художники. Щедрин – пейзажист, обожаемый в Риме, архитектор Глинка из Смоленска, два скульптора – Крылов и Гальберг – очень образованный! и Сазонов, пенсионер князя Румянцева151.
Отсутствие Кипренского на этом празднике можно объяснить, обратившись к его письму к А. Н. Оленину от 3 июня 1819 года: здесь художник пишет, что незадолго до приезда в Рим великого князя Михаила Павловича в начале февраля 1819‐го он, «рисуя Амазонку, простудился зимою в Ватикане и был 5 недель болен» (I: 142). Однако, даже учитывая то, что Кипренский не мог посетить этот праздник из‐за болезни, все же бросается в глаза отсутствие каких-либо упоминаний его имени в дневнике Статлера.
Что же касается французских художников, то, кроме установленного нами знакомства Кипренского с Ж. Б. Викаром, среди многих французских стипендиатов, обосновавшихся в исторической Французской академии на вилле Медичи, в письмах русского художника документировано только знакомство с живописцем Жаном Виктором Шнетцем. В эпистолярии Кипренского, однако, встречаются имена художников других национальностей: им упомянуты датчанин Торвальдсен152, швейцарцы Луи Леопольд Робер и Самуэль Амслер, живописец и гравер, соответственно. Из числа английских коллег Кипренский называет шотландского скульптора Томаса Кэмпбелла, который в 1820‐м поселился, как и Кипренский, в апартаментах на улице Сант-Исидоро153. И, возвращаясь к немцам, отметим, что в том же году соседом Кипренского был художник Иоганн Фридрих Гельмсдорф, который через какое-то время покинул Рим после трехлетнего в нем пребывания. К этим именам можно добавить имена тех людей, которым Кипренский в письме 1825 года передавал приветы: это живописцы Фридрих Овербек и Франц Катель, скульптор и живописец Конрад Эберхард и гравер Карл Барт154.
К сожалению, за этот первый период пребывания Кипренского в Италии нет прямых свидетельств знакомства русского художника с Карлом Христианом Фогель фон Фогельштейном, который 28 июля 1823 года создал в Дрездене портрет Кипренского (Купферштих-Кабинет, Дрезден; см. ил. 11). Но Фогель, живший в Петербурге между 1808 и 1812 годами, впоследствии переселился в Рим и оставался в Вечном городе до 1820-го, после чего отправился в Дрезден, чтобы вступить в должность профессора Дрезденской академии изящных искусств155. И поскольку он жил в доме № 64 по Виа Систина, близ улицы Сант-Исидоро, вполне возможно предположить, что Кипренский с ним встречался. 29 апреля 1818 года Фогель присутствовал на празднике, данном немецкими художниками в честь короля Людвига I Баварского, в котором участвовали почти все вышеупомянутые деятели искусства, а также и другие, о которых будет сказано ниже156. Кипренского не было на празднике и в этом случае: в следующей главе мы попытаемся прояснить причины его отсутствия.
И вот, наконец, последнее идентифицированное нами знакомство, о котором необходимо упомянуть в том числе и потому, что этот человек нам еще встретится. В самом начале второго письма к Гальбергу из Флоренции от февраля 1822 года Кипренский пишет со своим обычным альтруизмом:
Податель сего разузорочного письма есть некто Голлан[д]ец из Амстердама, метящий <…> в Исторические живописцы <…>. Нет ли у Масучия ателье для него, в противном случае посоветуйте ему потолкаться поискать у quatro Fontana, там, кажется, весьма порядочное место для трудолюбивого человека (I: 145).
Есть самые серьезные основания полагать, что здесь речь идет о Корнелисе Круземане, единственном историческом живописце из Амстердама, который в тот момент находился во Флоренции. Круземан описывает Флоренцию в дневниковой записи от 11 февраля и замечает, что, прибыв через два дня в Рим, он нанял квартиру на Страда Феличе (в настоящее время – часть Виа Систина)157 – то есть как раз в районе Пьяцца делле Куаттро Фонтане, именно там, где и советовал Кипренский. Несмотря на то, что в дневнике Круземана Кипренский не упомянут, очень вероятно, что они встретились во Флоренции и что, следовательно, письмо Кипренского можно датировать более точно – скорее всего, оно написано между 10 и 12 февраля 1822 года.
В заключение можно сказать, что в течение первого пребывания Кипренского в Италии его общение с художниками немецкой колонии было более тесным и интенсивным – может быть, даже более, чем с итальянскими. Хотя Кипренский в этот период и написал портрет Грегорио Фиданца, в его письмах имена итальянских мастеров, среди которых особенно значимы Антонио Канова и Анджело Тозелли, все же названы вскользь, случайно, – как, например имена скульптора Пьетро Тенерани, живописцев Пьетро и Винченцо Камуччини и гравера Бартоломео Пинелли. И, что вполне согласуется с историческими фактами, теперь частично дополненными158, многочисленность колонии немецких художников в Риме удостоверена документами эпохи: в каталоге выставки 1819 года в Палаццо Каффарелли мы находим более 40 немецких имен, а в статье 1820-го – около трех десятков159.
Итак, совершенно не случайно 1 февраля (ст. ст.) 1824 года Кипренский писал Гальбергу из Петербурга: «Кланяюсь <…> всем любезным немцам, коих я очень почитаю за их привязанность к художествам и добрые нравы» (I: 151). Не забудем и о том, что сам русский художник имел немецкую фамилию Швальбе и был рожден на границе Санкт-Петербургской губернии, исторически именовавшейся Ингерманландией. И бесконечно жаль, что в опубликованных дневниках, письмах и мемуарах о том времени, которые оставили многие немецкие художники, имя Кипренского не всплывает ни разу.
Приехав в Италию уже сформировавшимся мастером по сравнению с соотечественниками, которые последовали за ним, Кипренский не стал почивать на лаврах. С одной стороны, он воспользовался своим бóльшим опытом, чтобы сразу взяться за работу, с другой – не пренебрег и тем, чтобы, так сказать, включиться в игру, пройдя сразу после приезда в Рим ответственный курс перспективы у Тозелли160. Это обстоятельство плохо согласуется с представлением о Кипренском как о тщеславном художнике, да и энтузиазм, с которым отозвался о русском мастере Викар в письме к Канове, удостоверяет истину тех шутливых гиперболических самохарактеристик Кипренского, которые, будучи трактованы неблагосклонно, могут показаться бравадой – и в некоторых случаях так и интерпретируются.
Если выйти за пределы исключительно русской оптики, временами чрезмерно пристрастной, а также более внимательно присмотреться к кругу знакомств и связей Кипренского в свете вводимых здесь в научный оборот материалов, мы увидим лицо человека, более близкого к той мультикультурной интернациональной среде, в которой он вращался, лицо, более соответствующее сердечному и открытому характеру русского художника, который, может быть, недооценен его биографами.
И хотя в целом вырисовывающаяся картина является довольно сложной и насыщенной, в ней все еще остаются темные места, двусмысленности и монохромные пятна, препятствующие простой хронике стать биографией в полном и лучшем смысле этого слова. Наиболее неясные (и наиболее значительные) фрагменты этой картины мы попытаемся конкретизировать, представив в последующих главах ряд документов, которые, как нам кажется, позволят придать ей больше глубины и колорита.
Глава 2
«О нем рассказывали ужасную историю»: происшествия 1818 года
После долгих и безуспешных разысканий, прежде всего в фондах Главного управления полиции в Государственном архиве Рима и далее – в других собраниях документов, наши усилия, имеющие целью пролить свет на легенду о смерти некой натурщицы в римской мастерской Кипренского, наконец-то увенчались успехом. В одной из рубрик Трибунала правительства Рима161 за 1818 год, под литерой «C» и с протокольным номером 5608, нам удалось идентифицировать подшивку материалов, озаглавленную «Chiprerc Oreste» и касающуюся этого происшествия (см. ил. 1). Искажение фамилии художника в различных документах эпохи и в газетах того времени, как мы уже имели возможность отметить, не было исключительным фактом, но в данном случае и дата архивного дела не соответствует тому, что было известно об этом происшествии до настоящего времени.
Но сначала бросим беглый взгляд на литературную историю этого трагического события. На самом деле единственное и основное свидетельство о нем оставлено Ф. И. Иорданом; теоретически рассуждая, оно должно быть основано на признании, которое Кипренский сделал ему много лет спустя (русский гравер приехал в Рим только в апреле 1835-го)162.
В биографическом же очерке, напечатанном в «Художественной газете» в 1840 году, есть лишь неопределенный намек на эту трагедию, относимую, как это следует из приведенной ниже цитаты, к 1830‐м:
В 1828 году он вторично отправился за границу и уже более не возвращался. Последнее время пребывания его в Италии было отравлено одним очень неприятным обстоятельством, имевшим влияние и на талант, и на самую жизнь его. Умолчим о нем, чтобы по крайней мере не отравлять памяти человека163.
Однако С. И. Гальберг в воспоминаниях, приводимых в этом же очерке, относит это «обстоятельство» к первому периоду жизни Кипренского в Италии, но и он делает это очень сдержанно и осторожно:
В первое время пребывания его в Риме <…> несчастное приключение вдруг всех от него отдалило, и я не берусь оправдать его в этой истории – а можно. Общее мнение было против него до такой степени, что долго не смел он один по улице пройти. Очень вероятно, что это имело влияние на последующие его работы164.
Подробнее всех рассказал об интересующем нас событии Иордан, тоже отнеся его к первому итальянскому периоду в жизни Кипренского:
О нем рассказывали ужасную историю: будто он имел на содержании одну женщину, которая его заразила, и будто болезнь и неблагодарность этой женщины привели его в исступление, так что однажды он приготовил ветошку, пропитанную скипидаром… (наложил на нее) и зажег. Она в сильных мучениях умерла. Зная мягкий характер Кипренского, я не мог верить, чтобы он мог сделать столь бесчеловечный поступок, разве под влиянием вина, будучи не в своем виде. Однажды я воспользовался случаем и, оставшись один с Кипренским, решился спросить его об этой ужасной истории. Он прехладнокровно ответил мне, что это варварство было делом его прислуги. Она его (т. е. слугу) заразила, и что он, этот слуга, умер от сифилиса в больнице, почему и не могли судом его [Кипренского] оправдать, а прислугу наказать. После этого происшествия Кипренский отправился с целью рассеяться от угрызений совести в Париж165.
Необходимо сравнить эти свидетельства с версией, изложенной в биографическом очерке В. В. Толбина, поскольку он явился хронологически первой публикацией в этом ряду, сообщающей о подробностях события, и даже с упоминанием о «жестоких истязаниях ближнего». И если Иордан и Гальберг согласны в том, что «ужасная история» относилась к первому итальянскому периоду, то Толбин датировал его последним годом жизни Кипренского, совершенно очевидно ориентируясь при этом на биографический очерк 1840 года, первый фрагмент которого он воспроизвел с почти цитатной точностью:
Последний год пребывания Кипренского в Риме был омрачен одним странным, неприятным происшествием, имевшим сильное влияние не только на его талант, но и на самую жизнь <…>. Все отдалились от него, и общее мнение так сильно заговорило не в его пользу, что Кипренский долго после той несчастной истории, которой вину он, кажется, принял на себя, желая избавить от преследования своего слугу, умершего впоследствии в больнице, не решился ходить один по улицам Рима166.
Совершенно очевидно, что в этом тексте сконтаминированы фрагменты воспоминаний Гальберга и Иордана. В сущности, можно сказать, что Толбин сделал просто довольно дерзкий монтаж отрывков из других зафиксированных свидетельств. В последующих обращениях к этой истории в литературе о Кипренском, не исключая и рассказ К. Г. Паустовского167, также перефразированы или пересказаны подробности, приведенные в биографическом очерке, напечатанном в «Художественной газете», в воспоминаниях Иордана и в статье Толбина.
К этим версиям происшествия, давшим начало столь долго живущей – вплоть до наших дней – биографической легенде, мы можем прибавить сегодня как минимум одно итальянское свидетельство, которое нашло отражение во французской периодике. В римской печати это происшествие не оставило никаких следов, хотя именно к ней восходит хроникальная заметка о прачке, заснувшей «рядом с жаровней, в результате чего сгорела в жестоком пожаре»168. Но его отзвук очевиден в отрывке, который поэт-импровизатор Луиджи Чиккони169, уроженец Марке, посвятил жизни художников в Риме. В диалоге двух римских натурщиц (возможно, вымышленном) одна из них описывает русских художников весьма нелестным образом:
Не говорите мне об этих бешеных распутниках. Они думают только о том, чтобы удовлетворить свои страсти. Разврат они предпочитают живописи. <…> [Эта] несчастная [женщина], которую нашли сожженной в огне камина русского художника!..170
Мы еще вернемся к этому репортажу, опубликованному через два года после смерти Кипренского. Но два момента необходимо отметить уже сейчас: во-первых, то, что это событие по прошествии двадцати лет все еще было свежо в памяти современников, во-вторых, то, что импровизация Чиккони явилась самым первым печатным сообщением о нем, поскольку она на два года опережает публикацию биографического очерка о Кипренском в «Художественной газете» и почти на 35 лет – воспоминания Иордана.
Теперь обратимся к делу, к которому отсылает номер архивного протокола. Дело было открыто по поводу преднамеренного убийства171 против Одоардо Северини, отдавшегося в руки правосудия, и Ореста Кипренского, относительно которого в названии дела есть уточнение: «non molestato» (не привлекался)172. Следствие осуществляли наместник, обладавший полномочиями судьи, и заместитель прокурора. Дело насчитывает почти 200 листов – изложение содержания этого колоссального количества материалов мы постарались свести к разумным объемам.
Начнем с рапорта Президентуры района Колонна, то есть префектуры, в функции которой входило поддержание порядка на территории квартала173. Документ датирован 1 апреля 1818 года. Это первый и единственный официальный отчет о происшествии, поэтому приводим его практически полностью:
На протяжении почти трех месяцев Маргерита, жена <…> пекаря Антонио Маньи, жительствующая в доме № 15 по Виа Сант-Исидоро, имела предосудительные отношения и спала по ночам с Одоардо Северини, уроженцем Марке, проживающим в соседнем доме и состоящим в услужении у Ореста Кипринского, русского художника-пенсионера. Женщина сия, поднимаясь на кровлю своего жилища и переходя с нее на кровлю дома своего любовника, проникала через люк в спальню поименованного Одоардо и таким же способом возвращалась в свое жилище.
Чрез несколько времени связь сия была разорвана мужчиной, коего женщина сия наделила известной болезнью, за что он ее избил и почел наилучшим заделать люк в кровле. Жадная до удовольствий женщина, вооружившись свечою и жаровнею, вознамерилась прошедшею ночью вернуться тою же дорогою, дабы вновь предаться любовным утехам со своим другом, но найдя закрытым прежний путь, проделала в кровле новое отверстие. Когда она пролезла в сие отверстие, дабы оказаться на чердаке, огонь свечи опалил ее платье, и не будучи в силах справиться с ним сама, она закричала, на каковые ее крики прибежал ее любовник, коему удалось спасти ее от пламени, сорвав с нее горящее платье и при этом немало повредив себе руки. Причиненные им обоим страдания от ожогов вызвали у них чрезвычайные вопли, кои заставили сбежаться соседей, нашедших нагую женщину обезумевшей от страдания, и мужчину, мечущегося равным образом. Им была оказана немедленная помощь, после чего они были отправлены в госпиталь Делла Консолационе.
Происшествие случилось в седьмом часу прошедшею ночью. Подробности известны благодаря обследованию места и опросу сведущих лиц.
Здесь важно сделать одно уточнение: в те времена двадцать четыре часа суток отсчитывались согласно «итальянскому времени», то есть начиная с момента заката солнца (если более точно, нулевой час суток начинался примерно через тридцать минут после захода солнца за линию морского горизонта)174. Поскольку 31 марта 1818 года солнце село около 18.30, мы можем считать, что седьмой час соответствует двум часам ночи.
1 апреля хирург госпиталя Делла Консолационе Алессандро Костанти приступил к лечению Маргериты от ожога третьей степени всей нижней части тела, полученного «в результате преступления и с риском для жизни».
Затем женщину допросил чиновник префектуры Колонна, причем она показала, что ей двадцать два года и что она замужем за пекарем. Поскольку муж никогда не ночевал дома, молодая женщина близко подружилась с Одоардо Северини, который впоследствии часто навещал ее в ее доме. Балкон Маргериты выходил на крышу соседнего дома, где жили Кипренский и его слуга. Дружба вскоре переросла в сексуальную связь, и оба любовника сошлись на том, что Маргерита ночами будет украдкой проскальзывать в комнату слуги. В ту ночь, когда произошел фатальный инцидент, женщина, как обычно, перелезла на крышу и постучала, чтобы привлечь внимание Одоардо, который ей ответил. Далее, люк на крыше был открыт, но любовник предупредил Маргериту, что его господин догадался об их связи и, будучи недоволен этим, пригрозил ему расчетом. Маргерита не придала этому значения, но, спускаясь вниз, она услышала
<…> звук открываемой двери и топот, и сразу вслед за этим увидела себя в огне, не ведая, как то могло случиться, поелику половина тела моего была еще на кровле, и могу только сказать, что тот чердак, на каковой я спускалась, был темен, а потом Одоардо затащил меня туда и потушил горящее платье, <…> [и что он] держал зажженную лампаду.
На ее крики боли прибежали двое соседей – шляпник и некто Анджелика. Эта последняя была осведомлена об их любовной связи и к тому же накануне вечером узнала, что Маргерита собиралась посетить Одоардо. Потом Маргерита призналась, что, прежде чем прибежали другие, Кипренский заглянул на чердак и спросил, не знает ли она, почему загорелась ее одежда.
Ее спросили, откуда шел шум, который она слышала, и Маргерита ответила, что она «была удивлена и не поняла, была ли это дверь хозяина или другая», и в заключение сообщила, что «муж ничего не знал, а между мной и Одоардо не было никакой ссоры».
На следующий день, 2 апреля 1818 года, этот же хирург посетил Одоардо и констатировал наличие ожогов обеих рук175. Одоардо тоже был допрошен, но в некоторых деталях его версия событий существенно отличалась от показаний Маргериты. Бывший сапожник, Одоардо Северини, находившийся в услужении у Кипренского, вступил в связь с Маргеритой приблизительно за четыре месяца до того, как случилась трагедия. Через месяц он понял, что заразился гонореей, от которой, по его уверению, он до сих пор не излечился. С того момента, как Одоардо решил прекратить эту связь, Маргерита взяла привычку перелезать по крышам и, проделав отверстие в кровле, проникать на чердак, прилегающий к его спальне. Неоднократно изгнанная бывшим любовником, в ночь происшествия она вновь попыталась пробраться в его комнату, и мужчину разбудили ее крики о помощи. Добравшись до нее в полной темноте, он нашел ее в охваченной огнем одежде и тщетно попытался сорвать с женщины платье. Спустившись за парой кувшинов воды, он увидел «хозяина, выходящего из своей комнаты, каковой спросил, что случилось, и вместе со мной поднялся на тот чердак», где, наконец, удалось погасить пожар. Позже прибежали соседки Маргериты, а также хозяин недвижимости Филиппо Барбиеллини и живущая по соседству испанка со своей горничной, а Одоардо, оставив их с пострадавшей, побежал в госпиталь, чтобы получить помощь.
3 апреля хирург зарегистрировал смерть Маргериты, последовавшую днем раньше около шестнадцати часов в результате вышеупомянутых ожогов176. По распоряжению следователя было произведено вскрытие
<…> трупа женщины, имевшей около 24 лет, каковой возраст был определен по ее виду, росту более невысокого, черноволосой <…>, поверхностный осмотр какового трупа показал, что скончалась она от ожогов 3 степени нижних конечностей и низа живота, кои, по мнению господина хирурга, представляли опасность для жизни. Произведенное по моему указанию вскрытие низа живота открыло гангрену во всей кишечной трубе, по поднятии коей была обнаружена матка сравнительно бóльших размеров; а по вскрытии оной найден был маленький зародыш, примерно двухмесячный, каковое обстоятельство отвлекло на себя отправление большей части естественных функций, хотя смерть впрочем последовала в результате обширного ожога.
4 апреля князь Филиппо Альбани, бывший в то время префектом района Треви, направил римскому губернатору монсиньору Тиберио Пакка собственное донесение:
Сообразно с имеющимися мнениями о том, что на останках несчастной Аннунциаты177 <…>, скончавшейся в госпитале Делла Консолационе от ожогов, полученных при пожаре в доме № 18 по Виа Сант-Исидоро в квартире прусского художника Ореста Рипринкого, найдены следы горючей материи, направлен мною дознаватель178 для разыскания остатков платья оной, и поелику они найдены, то и отправляю их к Вашему Высокопреосвященству, дабы извлечь из сих обстоятельств надлежащие выводы.
Эта короткая записка представляет особенный интерес, поскольку из нее явствует, что кое-кто вскоре начал или подозревать в происшествии не столько несчастный случай, сколько преднамеренно совершенное преступление, или сделал попытку придать ему видимость такового. Однако далее мы увидим, что одежда Маргериты была подробно исследована только спустя почти месяц после ее смерти.
18 апреля 1818 года Одоардо по выходе из госпиталя добровольно сдался карабинерам и снова был допрошен. Он сообщил, что ему 21 год и что он приехал в Рим восемнадцать месяцев назад, в октябре 1816 года, из своего родного города Сан-Джинезио, что в Марке. После безуспешных попыток заниматься своим ремеслом сапожника и каменщика он показал, что однажды,
<…> остановившись в обеденный час перекусить с другими каменщиками на улице Кондотти, встретил иностранца, каковой, как он узнал впоследствии, был русским художником по имени Орест Кипреск; сей последний, оглядев меня вблизи, одобрил мое лицо и телосложение и пожелал немедленно отвести меня к себе домой, <…> где велел раздеться, и поелику я ему понравился, решил взять меня в услужение натурщиком для упражнений своих в живописи, <…> но только несколько раз списывал меня в своих картинах, а чаще использовал как слугу и камердинера, уплачивая по девяти скудо в месяц, давая постель в своем доме, но не давая пропитания: как он был одиноким мужчиной, то и ходил часто обедать в трактир.
Далее Одоардо добавил несколько интересных подробностей о своем знакомстве с Маргеритой, сообщив, что их связь началась после того, как женщина предложила стирать его одежду, что тогда с ней вместе проживала некая Анна-Мария, и прежде всего то, что он часто давал Маргерите деньги, как любой проститутке.
Несмотря на то что через месяц Одоардо прервал с ней всяческие отношения, однажды ночью он снова обнаружил ее в своей комнате и прогнал, позаботившись на следующее утро починить разломанную ею черепицу на крыше; но Маргерита этим не смутилась и снова воспользовалась удобным случаем, а Одоардо, разъяренный из‐за подхваченной им гонореи и испуганный перспективой быть уволенным своим хозяином, снова грубо выгнал ее, причем она больно ударилась коленом об дверь. Но вот пришла роковая ночь:
Тем вечером я как обычно оставался в доме моего хозяина в его ожидании, поелику я с ним не ходил; он вернулся один в пять часов, затем я помог ему раздеться и лечь в постель и около шести часов отправился спать в свою комнату наверху, коя граничила с чердаком. Я уже заснул, но был пробужден неким криком, исходящим со стороны чердака, и по голосу узнал, что то была помянутая Маргерита, кричащая «Помоги мне, мой Одоардо, я горю». Тот же час выпрыгнув из постели полуголым и открыв ключом дверь чердака, нашел сказанную Маргериту пришедшей с кровли чрез то отверстие, кое я заделал ранее, в охваченной огнем одежде. При этом виде усиливался быстро сорвать с нее руками горящее платье и при сем сильно ожегся. И не преуспев сорвать с нее платье, быстро побежал в лоджию взять два кувшина воды, дабы погасить огонь, взывая при том о помощи, и со всевозможным усердием вернулся на чердак и вылил на Маргериту помянутую воду, и так мне удалось потушить огонь. На крики мои и Маргериты явился наверх мой хозяин дабы узнать, что случилось.
Следовательно, в роковую ночь Маргерита попыталась в третий раз проникнуть в комнату Одоардо через крышу. Но последний продолжал настаивать на том, что ему неизвестно, откуда взялся огонь, однако предположил, что Маргерита сама случайно подожгла свое платье, поскольку
<…> день спустя, будучи в госпитале Делла Консолационе, проведал я слух о том, что на кровле, через кою она проникла на чердак, найдена была жаровня с огнем, и посему могла она сама поджечь свое платье; хотя тем вечером я не видел жаровни, не сомневаюсь в том, что она у нее была, поелику два другие раза, когда она приходила по кровле дабы проникнуть ко мне в комнату, имела с собою жаровню с углями и горящую свечу.
22 апреля Одоардо подвергся третьему допросу. На этот раз обвинитель предъявил ему противоречия в его показаниях и показаниях Маргериты, утверждая, что или женщина попыталась к нему проникнуть с его согласия, или, если она действительно сделала это против его воли, тот факт, что она заразила его гонореей, является достаточным мотивом преступления. Одоардо еще раз подтвердил свои показания и добавил, что, если бы он захотел еще раз увидеться с Маргеритой, он бы сам пошел в дом к молодой женщине, чтобы не подвергать ее опасности карабкаться по крышам. Он категорически отрицал, что говорил с Маргеритой до того, как она проникла на чердак, но обвинитель настаивал, что
Та женщина увидела горящим свое платье; хотя и не могла знать, кто в том повинен, справедливо думать надлежит о поименованном мужчине, как наиболее к ней близком, и посему прокурор может полагать его главным виновником, или же, коли сие преступление совершил его хозяин <…>, возможно счесть сего хозяина сообщником и осведомленным о том умышленном убийстве, кое обнаружено было при судебном освидетельствовании трупа сказанной Маргериты, в матке коей нашелся также зародыш двух месяцев.
Одоардо защищался, утверждая, что он ни в чем не упрекал Маргериту в ту ночь, когда случилось несчастье, но в двух предшествующих случаях, когда женщина являлась к нему, он говорил ей о своем страхе быть уволенным. И, в частности, он отрицал, что его хозяин угрожал Маргерите; он только приказал слуге сообщить о ее поведении районному префекту в том случае, если она будет настойчива в своих попытках возобновить отношения, но при этом не ставить в известность ее мужа, который мог бы с ней плохо обойтись.
Следующий вопрос возник в связи с возможными отношениями Маргериты и Кипренского:
Прежде чем я стал спать с помянутой Маргеритой, она имела таковую же связь с моим хозяином, и трижды видел я ее приходящей к нему домой: он употреблял ее как натурщицу и для утех179, но прежде чем я с нею стал спать, прошло уже пятнадцать дней с тех пор, как хозяин перестал с нею встречаться, или же она более не приходила к нему в дом; мне неведомо, ходил ли он к ней, и вот что я могу истинно утверждать: пожаловавшись Маргерите на болезнь, коей она меня заразила, и желая знать, от кого она ее поимела, я услыхал от нее, что она заразилась сею болезнью от хозяина, коему я о том сообщил, а он велел мне привести в дом сию женщину, дабы это опровергнуть. Я сказал о том Маргерите, но она не желала прийти, поелику не он заразил ее, и конечно это произошло от кого-то другого, и случилось это за три месяца до того, как помянутая Маргерита претерпела сие несчастье быть мною отвергнутою.
В ответ на следующий заданный вопрос Одоардо описал расположенную на чердаке комнату, в которой он спал:
<…> как с этой стороны, где спал я, так и из другой двери, ведущей в квартиру внизу, можно пройти на тот чердак, и обе двери, кои из покоев ведут в него, обыкновенно бывают открыты, и нельзя к ним приблизиться иначе как пройдя из покоев, в коих обитает мой хозяин.
Наконец, Одоардо подтвердил, что в ночь происшествия в доме находились только он и Кипренский.
Теперь перейдем к показаниям Джованни Мазуччи, который 26 апреля 1818 года сообщил, что он проживает по Виа ди Сант-Исидоро, в доме № 18, арендованном за четыре года до этого у книготорговца Филиппо Барбиеллини. В семь часов ночи рокового происшествия его разбудил его жилец Кипренский, сообщивший ему о несчастье. Услышав о пожаре, он был испуган, поскольку знал, что
<…> в комнатах вышесказанного русского содержалось внимания достойное собрание ценных картин, а посему быстро выскочил из постели, завернулся в плащ и совместно с помянутым русским, дабы посмотреть, что случилось, пошел на чердак, где и нашел знакомую ему с виду женщину, обитавшую в соседнем доме, о коей он знал, что состоит в предосудительной связи с Одоардо. Сия была охвачена огнем и громко вопила от боли, кою испытывала, и Одоардо кричал подобным же образом, поелику сильно обжег руки, усиливаясь подать той женщине помощь.
В ту пору, как сей сказанный Мазуччи поднялся на чердак вместе с помянутым русским, увидел он, что там уже были прибежавшие на шум синьор Филиппо Барбиеллини со своей соседкой-испанкой и ее горничной, имен коих он впрочем не знает, и некая Анджелика, коей прозвания он такоже не знает, но после понял, что она обитала совместно со сгоревшей женщиной.
Никто не мог ему сказать, как могло случиться подобное происшествие. Через день он пошел известить о нем префектуру Колонна, в которой, впрочем, были уже осведомлены о событии.
Далее Мазуччи добавил две любопытные подробности: во-первых, ему уже и раньше сообщали, что кто-то видел Одоардо идущим по крышам, а во-вторых – что француженка, снимавшая квартиру в соседнем доме, должна была хорошо знать об этой ночной трагедии, поскольку услышала шум прежде всех остальных. И заключаются его показания следующим образом:
Сказанный московит уже почти год проживает в доме сего помянутого Мазуччи, и по мнению сего последнего он есть господин добропорядочный, коего ему не в чем упрекнуть, и водит он дружбу с почтенными людьми, кои его посещают; об Одоардо же, слуге его, напротив того, не может он сказать ничего хорошего, и доброе имя ему не пристало.
28 апреля 1818 года на допрос была вызвана двадцатитрехлетняя Анджелика Лонги, подруга и наперсница Маргериты. В ее свидетельских показаниях присутствуют кое-какие важные детали: зная, что молодая женщина путешествует по крышам, она несколько раз предупреждала ее об опасности, которой она себя подвергает, но, по словам Анджелики, Маргерита ответила ей, что «хотя слуга и препятствовал ей пользоваться сим путем, она хотела проникнуть к нему против его воли». Две женщины вместе провели этот вечер, после чего Маргерита удалилась в свою комнату с полуторагодовалым сыном. Будучи разбужена среди ночи криками жертвы, Анджелика выглянула в окно и, увидев на улице зовущего на помощь Одоардо, бросилась со всех ног в его комнату. Кое-как прикрыв простынями нагую, истерзанную болью Маргериту, она сопроводила ее в госпиталь:
Когда помянутая Маргерита была в карете, ожидая прихода хирурга <…>, она захотела сесть, и когда я помогла ей опереться спиной на носилки, поелику она так пожелала, я попросила ее удовлетворить мое любопытство и сказать, как случилось то, что она загорелась. Плача и моля о сострадании в той жестокой боли, от коей она мучилась, сказала она, что ее предали и что московит, хозяин Одоардо, сунул ей свечу под платье, почему оно и загорелось, присовокупив, что Одоардо, по всему похоже, пожаловался хозяину на самовольство, с коим она тщилась увидеться с ним, пройдя по кровле, <…> [и] обещала рассказать мне все остальное, когда я вновь к ней приду, потому как не могла тогда больше говорить, будучи в крайнем волнении. По приходе хирурга ее сразу уложили в постель, мне отдали две простыни и велели уходить <…>. Не имела я времени проведать сказанную Маргериту в госпитале по причине многих дел, отчего и не знаю более чем сказала, и не знаю, о чем обещала она мне поведать, говоря о несчастье, с нею приключившемся.
Будучи спрошена о жаровне, которую, по словам Одоардо, женщина приносила с собой, Анджелика ответила, что Маргерита, «довольно бедная» женщина, таковой не имела, и временами пользовалась жаровней Анджелики, чтобы согреться и приготовить обед сыну. Она рассказала также, что на следующий вечер после трагедии она встретила Винченцо, другого слугу Кипренского, который нес найденную на крыше жаровню в префектуру Колонна:
<…> он сказывал, что нашел жаровню на кровле, но не сказывал ничего о свече, и поелику ведаю я о том, что сия жаровня найдена была на кровле, то сдается мне, что сие весьма неправдоподобно по вышесказанной причине.
На вопрос, была ли она осведомлена о каких-либо угрозах Одоардо в адрес Маргериты по поводу ее неуместных визитов, Анджелика ответила, что никогда ничего такого от последней не слышала; тем не менее она призналась, что Маргерита говорила ей о запрете Одоардо приходить к нему, но она была не в силах забыть любовника.
Потом следствие перешло к мотивам, по которым Одоардо прекратил связь с Маргеритой – на него Анджелика не ответила, отговорившись незнанием. Но вот ее ответ на самый главный вопрос, а именно, почему Кипренский мог сжечь Маргериту:
Хотя сказанная Маргерита никогда не говорила мне того, что помимо Одоардо спала она и с его хозяином, здесь все люди знают, что она спала и с тем, и с другим, и обоих заразила, почему и думаю, что ярость от этой злой заразы подвигла московита сообща с Одоардо сгубить ее, давши ему огонь, но сказывая мне, что это хозяин сунул ей свечу под платье, как было уже говорено выше, она не винила в том Одоардо и не держала на него никакого зла кроме как за то, что он проговорился хозяину, что она сломала кровлю и пробралась в его дом.
29 апреля дал показания восемнадцатилетний Винченцо Кассар, мальтиец, родившийся в Чивитавеккии. Находясь более года в услужении у Кипренского и работая только днем в качестве растирателя красок, Винченцо вернулся к работе на следующее утро после происшествия, поскольку в течение пяти дней был болен. Он показал, что много раз видел Одоардо карабкающимся по крыше к Маргерите, что он знал от него о прекращении их связи вследствие появления у Одоардо симптомов гонореи и что дважды он лично был свидетелем тех обид, который этот последний наносил своей бывшей любовнице. Далее он утверждал, что Одоардо говорил ему,
<…> что хозяин тоже спал с нею, и он в этом почти уверен, поелику за три месяца до пожара Одоардо спросил хозяина, не подхватил ли он от Маргериты ту же злую болезнь, и хозяин, ответив, что Маргерита ничем его не заразила, не отрицал связи с нею, и как сказывал ему Одоардо, он сам привел Маргериту к хозяину, каковой хотел нарисовать ее голову, но утверждал сей Винченцо, что своими глазами никогда не видел поименованную женщину в доме своего хозяина.
Это странное на первый взгляд обстоятельство не покажется таким уж странным, поскольку из воспоминаний С. Ф. Щедрина нам известно, что первая жена Мазуччи была очень снисходительна к женщинам, которых принимали русские художники для того, чтобы успокоить кипящую кровь180.
Винченцо также сообщил, что о несчастном случае рассказал ему сам Кипренский:
<…> он сказывал во многих подробностях, как тою ночью он лег в постель в шесть с половиною часов, читал книгу лежа в постели и еще не спал, когда услышал крик <…>, подумал, что в доме воры, и посему встал, надел халат и ночные туфли и выходя из спальни встретил слугу Одоардо, каковой явился сообщить, что поименованная Маргерита охвачена огнем на чердаке, и уверился в том, поелику сам пошел посмотреть и нашел означенную Маргериту сидящей на лестнице в горящем платье, и в то время как Одоардо побежал взять два кувшина воды, дабы залить огонь, как он и сделал, и сей его хозяин пошел позвать Мазуччи, каковой и побежал сразу, и вернувшись вместе с ним, хозяин нашел на чердаке прибежавших прочих жильцов.
Еще сказывал хозяин, что он советовал Мазуччи поставить о том в известность полицию, но как час был уже поздний, то Мазуччи почел за благо призвать помощь и к женщине, и к слуге, каковой обжег себе руки. <…>
И еще он, поименованный хозяин, уверял, что это был подлинно несчастный случай, поелику женщина явилась с кровли на чердак, имея в руках горящую свечу, и то же сказывал ему тем самым утром помянутый Одоардо, что она случайно подожгла свое платье <…>.
Сказывал еще хозяин, что женщина кроме свечи принесла жаровню, кои обе – свеча и жаровня – были найдены на кровле синьором Барбиеллини тою самою ночью, но Одоардо, коего при этом не было, ничего не сказывал о жаровне, но только о свече.
Этим же утром Винченцо поднялся в комнату Одоардо и заметил на ступеньках лестницы пресловутую жаровню, но забыл предъявить ее инспектору префектуры Колонна, который вскоре явился для освидетельствования места происшествия.
Тем же днем 29 апреля была произведена экспертиза платья Маргериты, которое, как уже отмечалось, было передано следствию и предъявлено трибуналу 4 апреля:
С целью выяснить, не была ли причиною учиненного Маргерите Маньи возгорания какая-нибудь посторонняя материя, и более всего по причине распространившихся слухов об атласной воде181, к освидетельствованию частью сгоревшего, но частью и уцелевшего платья, принадлежавшего сказанной женщине и предъявленного в суде префектуры Треви, призваны были и явились два сведущих в химии человека, достопочтенный синьор Алессандро сын Пьетро Мария Конти и синьор Антонио, сын покойного Алесио Канестри из Нарни.
Касательно сих предъявленных остатков помянутого платья, со всевозможным тщанием ими осмотренного и многократно обнюханного, заключили и присудили, что в возгорании его не участвовала никакая посторонняя материя, и менее всего атласная вода, коей свойственно оставлять после себя сильное зловоние, никоим образом не обнаруженное на сказанных остатках.
Заметим в скобках, что профессор-фармацевт Алессандро Мария Конти, призванный в этом случае в качестве эксперта, был хорошо знаком с аббатом Феличиано Скарпеллини182, знаменитым астрономом, чей известный портрет Кипренский создал в первый период своего пребывания в Италии (24 февраля 1819 года великий князь Михаил Павлович посетил физический кабинет и обсерваторию, которыми заведовал Скарпеллини183).
30 апреля 1818 года в качестве свидетеля был допрошен книгопродавец Филиппо Барбиеллини, который осмотрел место происшествия сразу после события. Он показал, что видел еще тлеющие остатки платья и – на крыше – пресловутую жаровню, которая, впрочем, была холодной и, следовательно, не могла стать причиной пожара. Он уверял, что не видел больше ничего, а о жаровне говорил только с Винченцо. На вопрос, говорил ли он о происшествии с Кипренским, Барбиеллини дал положительный ответ и удостоверил тот факт, что художник был «весьма огорчен».
И у Барбиеллини тоже спрашивали, был ли разлад между Маргеритой и Одоардо или его хозяином, на что он ответил, что о Кипренском он не знает ничего, однако сам Одоардо заверял его в том, что он испытывает отвращение к Маргерите из‐за болезни, которой она его наградила, и добавил, что:
<…> за несколько дней до пожара, говоря не помню с кем, узнал, что на чердаке были слышны крики, почему французская синьора, коя имеет жительство в соседнем доме, снимая квартиру у Мазуччи, прибежала к нему с жалобами на таковые.
2 мая 1818 года Винченцо Кассар, заключенный в тюрьму по обвинению в даче ложных показаний во время предыдущего допроса, был призван в трибунал для нового дознания.
Подтвердив достоверность своих показаний и ходатайствуя об освобождении на этом основании, он добавил несколько новых подробностей, среди которых заслуживает внимания рассказ о том, как утром того дня, когда он вернулся к работе у Кипренского, он встретил «служанку советника немецкого министра, проживающего в соседнем доме» – то есть юриста Юстуса Кристофа Лейста, бывшего в то время советником ганноверской дипломатической миссии в Риме184, которая и рассказала ему о ночном происшествии. Далее он повторил то, что рассказал ему Кипренский: что художник
<…> в шесть часов ночи вернулся домой, полчаса провел, рисуя за рабочим столом, и как Одоардо, видя, что уже поздно, спросил, когда же он пойдет спать, хозяин упрекнул его за таковую вольность, но пошел ложиться, раздевшись, как обычно, с помощью помянутого Одоардо, но не уснул, а поставил свечу у постели и стал читать книгу о фламандских живописцах185.
Далее, как это следует из вторых показаний Винченцо, данных им со слов Кипренского, услышав крики, художник вышел на лестницу и встретил Одоардо, который спустился за водой. Поднявшись на чердак, Кипренский увидел Маргериту в охваченной огнем одежде и быстро побежал к Мазуччи; вернувшись вместе с ним на чердак, он посоветовал домовладельцу сразу же сообщить о происшествии в районную префектуру. Однако Мазуччи ответил ему, что уже слишком поздно и что важнее всего оказать помощь женщине и Одоардо,
<…> после чего помянутый хозяин мой вернулся в спальню, и добавил еще <…>, что Одоардо его уверил, будто Маргерита загорелась от свечи. <…> и сим же утром синьор Барбиеллини, с коим я говорил, удостоверил, что на кровле была найдена сальная свеча ценою в половину байокко186 и жаровня, впрочем, холодная.
Под конец Винченцо коротко изложил результаты первого осмотра места происшествия, осуществленного инспектором района Колонна, – странно, однако, что в качестве вещественных доказательств первоначально фигурировал только башмак. Жаровня, о которой, как мы видели, Винченцо в первый момент забыл, в тот же вечер была доставлена им в префектуру Колонна, где он дал первые показания, в деле не сохранившиеся. Он сообщил также о втором следствии, произведенном инспектором района Треви Николой Спада, в результате которого к вещественным доказательствам были приобщены остатки полусгоревшей одежды Маргериты.
Далее следует подробное изложение того, как Винченцо были предъявлены для опознания вещественные доказательства. Настоятельно возник вопрос о свече, и его спросили, признает ли он правдивой версию Одоардо и Кипренского, а именно то, что женщина загорелась случайно. Свидетель подтвердил, что о свече он узнал от Барбиеллини, и признал, что изложенная двумя другими свидетелями гипотеза происшествия представляется ему очень правдоподобной. Однако в этот момент Винченцо был прижат к стенке, поскольку предполагалось, что он «был хорошо осведомлен о причинах пожара, в коем пострадала женщина, и был пожар сей не случайным, как он то хотел заставить думать, но конечно преступным деянием». Тем не менее Винченцо держался твердо и очень был удивлен тому, что Барбиеллини ничего не сказал о свече. Ему было предъявлено также свидетельство Анджелики о жаровне – на этом основании следственная комиссия пыталась доказать, что подробность с жаровней «намеренно была вымышлена или его хозяином, или Одоардо, дабы замутить воду» и что Винченцо, доставивший жаровню в префектуру, об этом знал. Но Винченцо не сдавался и вернулся к проблеме возможных причин разлада между Маргеритой и Кипренским или Одоардо, добавив, что
<…> около полутора месяцев прошло с того времени, как сказанная Маргерита, заразившая Одоардо, была им оставлена, но быв безумно страстна к нему, желала против его воли продолжить спать с ним и ночами ходила через кровлю на чердак, что ей Одоардо воспретил, и за десять или двенадцать ночей до того как сгореть, помянутая Маргерита приходила по обыкновению к Одоардо, каковой закатил ей оплеуху и сломал гребень, носимый ею в волосах, а когда помянутая Маргерита закричала, еще и потому, что ушибла коленку выходя из двери, как мне о том сказывал сам Одоардо, о том стало известно всем соседям, поелику жаловалась об этом одна француженка, по соседству с сим чердаком живущая, и хозяин о том проведал.
Но относительно реакции Кипренского на известие о любовной связи Маргериты и Одоардо версия Винченцо несколько отличается от показаний Одоардо:
Хозяин сроду не говорил со мной о таких делах, но, как сказывал мне Одоардо о том, что он поведал хозяину, как Маргерита явилась на чердак и как он ей нанес побои, то хозяин велел ему о том поведении ее известить Мазуччи и сказывал, что он плохо поступил, побив ее, <…> и что таковых явлений в свой дом он не желает.
Но Одоардо не внял предупреждению Кипренского – возможно, в противном случае это предотвратило бы роковой финал истории. Винченцо уточнил также, что, по его мнению, Кипренский был очень раздосадован безрассудством Маргериты отчасти и потому, что оно вело к нежелательной огласке и было чревато могущими последовать на него жалобами соседей. В отличие от утверждений Одоардо о том, что Кипренский использовал Маргериту в качестве натурщицы и сам имел с ней связь, тоже заразившись от нее гонореей, Винченцо упорно настаивал на том, что он никогда не видел Маргериту в доме Кипренского, и еще раз подтвердил, что, по словам самого Одоардо, художник заражен не был. Относительно реакции соседей на происшедшее он сообщил следующее:
Речей о сем событии было весьма много, среди коих и такие, что явно приписывали злой умысел и хозяину, и Одоардо <…> и не устану повторять, что буде мне было бы ведомо нечто против как одного, так и другого, не преминул бы о том сообщить, поелику владею ремеслом и не затруднюсь найти работу коли не у московита, то у кого другого.
Так завершился последний допрос единственного не присутствовавшего на месте происшествия свидетеля, и учитывая имеющиеся сведения о том, что первый допрос Винченцо состоялся 1 апреля, но его протокол не был приобщен к делу, нелишне уточнить, что он четырежды призывался к ответу.
3 мая 1818 года был допрошен Антонио Маньи из Камерино, супруг жертвы. Состоя в браке с Маргеритой в течение трех лет, он поселился на Виа Сант-Исидоро в октябре 1817-го. Мужчина подтвердил, что его жена стирала одежду Одоардо, но настаивал на том, что он узнал об их связи только после случившейся трагедии. Посещая Маргериту в госпитале, он
<…> от нее самой ничего не мог узнать, как она была очень плоха, успев только жалобно простонать прощай и попросить прощения, но слышал от других гласно сказываемое, что ее погубил в огне или слуга, или хозяин.
Далее он сообщил, что у его жены была жаровня, на которую он, впрочем, никогда не обращал внимания. Антонио еще раз был выслушан 5 июня, но настаивал на том, что больше уже сказанного он не знает. Снова возник вопрос о пресловутой исчезнувшей из дома жаровне, судьба которой, по словам Антонио, осталась ему неизвестна. Его спросили, какие горючие вещества жена держала дома, и он вспомнил о небольшом запасе угля, который тоже исчез.
6 июня 1818‐го следствие наконец добралось до неоднократно упоминавшейся в разных показаниях испанки, некой Марии Антонии Бермудес де Кастро, проживающей на втором этаже прямо под комнатой слуги Кипренского; она в очередной раз вкратце описала события роковой ночи. Приведем ее единственное представляющее интерес свидетельство:
<…> синьор Барбиеллини, залив водой еще горевшее платье сказанной женщины, отправился осмотреться, и сия свидетельница видела в руках у него обыкновенную глиняную жаровню, каковую, по его словам, он нашел на крыше остывшей и без огня.
В хронологическом порядке свидетельство испанки завершает подшивку документов. Как положено, слева внизу на титульном листе записан приговор трибунала:
<…> сего июля 10‐го дня 1818 отпущен Одоардо Северини, <…> повелено ему быть на три года изгнанным из Рима и его окрестностей под угрозой наказания принудительными работами, и будет сопровождаем [до самой границы].
Согласно соответствующему протоколу от 22 апреля, после нескольких дней в Капитолийской тюрьме Одоардо был переведен в Карчери Нуове на Виа Джулия, главную тюрьму Папской области187, будучи обвинен в «предполагаемом» убийстве. Просидев до 11 мая в изоляторе и проведя два с половиной месяца в заключении обычного режима, 25 июля он по предписанию суда был передан карабинерам, которые конвоировали его в изгнание188.
К сожалению, в деле или отсутствует, или не сохранилось более подробное изложение приговора, откуда явствовали бы выводы, к которым пришло следствие, и основания вынесенного судом решения об избранной для Одоардо мере пресечения.
Глава 3
Расёмон по-римски
Вкратце резюмируем факты. Есть несколько пунктов, по которым показания сходятся: Одоардо и заброшенная мужем Маргерита завязали любовные отношения приблизительно в начале 1818 года. В ночь на 1 апреля Маргерита получила тяжелые ожоги в доме Кипренского, где ей пришли на помощь сам Одоардо и соседи, которые обнаружили на месте происшествия холодную жаровню и остатки одежды женщины. Помещенная в госпиталь Маргерита умерла на следующий день; в результате вскрытия выяснилось еще и то, что она была беременна на втором месяце. Одоардо оставался в госпитале, где лечил обожженные руки, до 18 апреля: в этот день он был выписан и предстал перед судом. И вскоре в квартале поползли слухи о причастности Кипренского к этой трагедии.
Во всем остальном, относится ли это к отдельным эпизодам или подробностям происшествия, показания расходятся, а порой и противоречат друг другу. Прежде всего, это касается разрыва любовной связи и его возможных причин: интрижка была известна многим людям, но в какой-то момент Одоардо ее прекратил, утверждая, что причиной разрыва стала гонорея, которой Маргерита его заразила; однако в своих показаниях она сама ни словом не обмолвилась о болезни. Одоардо и подруга Маргериты Анджелика (эта последняя – на основании сплетен, слышанных от соседей) настаивали на том, что Кипренский тоже имел связь с жертвой, но их показания в этом пункте другие свидетели были не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть. Маргерита отрицала разрыв связи, но женщина, жившая с ней в одной квартире, засвидетельствовала слова самой Маргериты, что любовник запретил ей приходить к нему. Что же касается встреч, то Одоардо показал, что Маргерита начала использовать проход с крыши на чердак только после разрыва их связи, тогда как Маргерита и Анджелика настаивали на том, что это был обычный способ сношения любовников.
По поводу деталей рокового вечера Маргерита утверждала, что она постучала в дверь чердака и услышала ответ Одоардо, прежде чем начала спускаться к нему, тогда как он показал, что вышел на чердак только после того, как услышал крики о помощи. По словам женщины, любовник предупреждал ее, что Кипренский не намерен терпеть ее наглость. Одоардо оправдывался тем, что действительно передал ей содержание одного своего разговора с Кипренским, но что это случилось во время предшествующей попытки женщины проникнуть в его комнату: он сообщил ей тогда, что художник пригрозил уволить его со службы, если слуга не положит конец этим неуместным визитам. Во время допроса в госпитале женщина утверждала, что не могла видеть злоумышленника, потому что было темно. Анджелика, напротив, сообщила о своем разговоре с жертвой вскоре после ее госпитализации, в котором Маргерита открыто обвиняла Кипренского и выгораживала Одоардо. Но, к несчастью, Маргерита умерла раньше, чем успела рассказать о происшествии более подробно.
Наконец, показания расходятся и в том, что касается свечи и жаровни, которые имела (или не имела) при себе молодая женщина. Анджелика засвидетельствовала, что Маргерита тем вечером провела несколько часов в ее обществе, и уверенно сообщила, что Маргерита не имела жаровни, тогда как муж последней Антонио показал, что жаровня в доме была. Следователи выбились из сил в безуспешных попытках выяснить, была ли жаровня оставлена на крыше самой Маргеритой или же после всего происшедшего ее подкинул туда кто-то другой с целью придать убедительность выдвинутой версии причин трагедии. Поскольку жаровня была найдена уже остывшей, возможность увидеть в ней причину возгорания одежды Маргериты в любом случае следует исключить. Осмотр тела жертвы недвусмысленно свидетельствует о том, что огонь охватил ее снизу, поскольку ожоги покрывали нижнюю часть тела вплоть до низа живота, и этому могут быть только два правдоподобных объяснения: или кто-то поджег ее одежду, когда она спускалась с крыши на чердак, или она сама случайно уронила на себя огонь. Применение воспламеняющихся веществ (в частности, скипидара)189 было исключено экспертами.
Попробуем высказать некоторые предположения, отталкиваясь от этого последнего факта. Кажется довольно странным то, что в документах дела возможное использование «горючей материи» упомянуто только дважды: в отчете районного префекта Треви от 4 апреля и в докладной записке экспертов, обследовавших остатки одежды Маргериты; между тем это обстоятельство вполне согласуется с версией, выдвинутой Ф. И. Иорданом. И в обоих этих упоминаниях говорится о «слухах»: отсюда можно сделать вывод о том, что сразу же после трагедии соседи, обсуждая происшествие, начали расцвечивать его подробностями, возможно, вымышленными. К тому же, если действительно была бы использована легковоспламеняющаяся субстанция, маловероятно, что огонь можно было бы загасить так быстро, что он успел повредить только нижнюю часть тела жертвы: он распространился бы и вверх со значительной силой и скоростью и охватил бы все тело.
И возможно ли предположить, что Маргерита карабкалась темной ночью по крышам, не имея при себе источника света? Анджелика показала, что Маргерита не обратила внимания на ее предупреждение об опасности такого способа и не придала значения возможному риску. Допустим, что речь шла о светлой и безветренной ночи, но на чердаке было темно; а что, если Одоардо солгал и связь его с Маргеритой разорвана не была (не забудем упреки Кипренского в том, что слуга позволил себе спросить, когда же хозяин пойдет, наконец, спать и освободит его)? В этом случае он, несомненно, предпочел бы ждать, когда любовница подаст ему знак, в своей комнате, а не на темном чердаке.
Во всяком случае, Маргерита, которая не могла объективно оценить обстановку, потому что она не до конца спустилась на чердак и по грудь находилась еще на крыше, в своих показаниях не обвиняет открытым текстом ни Одоардо, ни Кипренского, намекая только на угрозы художника и на звук открывающейся двери и шагов за несколько мгновений до того, как ее охватило огнем. Напротив, Анджелика обвинила хозяина Одоардо, передавая своими словами то, что было сказано жертвой. Впоследствии и муж Маргериты сообщил, что общественное мнение возлагает вину на одного из них, и именно на этом основании слухов и сплетен полиция сочла необходимым более детальное расследование.
Некоторые сомнения внушает, в частности, одна подробность: несмотря на то что заглавие подшивки документов дела, открытого по поводу смерти Маргериты против Одоардо, содержит и имя Кипренского, указание «не привлекался» согласуется с ее содержимым, из которого следует, что художник ни разу не был допрошен ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля. Это обстоятельство можно объяснять по-разному, но безусловно не тем, что Кипренский в это время отлучился из Рима, как это утверждает Иордан190. Даже если не принимать во внимание того, что факт отлучки Кипренского никак не отмечен ни в одном из изученных нами документов, в том числе и не относящихся к этому делу, следует признать, что такая отлучка должна была оставить в судебном деле какой-то след: если бы он не явился к допросу, он был бы обвинен заочно и строго осужден по его возвращении в Папскую область.
Вполне возможно, что представители власти имели достаточные, пусть и не зафиксированные, основания для того, чтобы не привлекать художника к следствию – и это представляется довольно странным в свете обвинений жертвы и неблагоприятных для него показаний отдельных свидетелей. С некоторой осторожностью можно также предположить, что за Кипренского заступилось некое значительное лицо. Хотя русский художник и жил в Риме всего полтора года, он уже был знаком с людьми масштаба Кановы и Ж.-Б. Викара, а, по свидетельству Мазуччи, его по-дружески посещали «почтенные люди». И несмотря на то что Кипренский был чем-то вроде отщепенца – художником, иностранцем и иноверцем, – нигде не сказано, что на его причастность к делу посмотрели сквозь пальцы. Впрочем, дело это подпадало под категорию общественного скандала, и подобная снисходительность по отношению к художнику была бы чрезмерной, несмотря даже на то, что жертвой несчастья стала женщина сомнительной репутации.
В этой связи нелишне уточнить, что в Риме в начале XIX века свидетельства соседей о добропорядочности женщины нередко бывали спровоцированы предрассудками дискриминационного характера. Как это отмечено специалистами,
Подозрения соседей питались подсматриванием и подслушиванием. Репутация складывалась из различного рода косвенных фактов, которые повторялись более или менее часто, смотря по тому, была ли обсуждаемая персона мужчиной или женщиной191.
В сущности, поскольку женщину скомпрометировать было проще, дурная репутация Маргериты могла быть основана столько же на ее реальных супружеских изменах, сколько на преувеличениях или злословии глупцов.
Возвращаясь к факту непривлечения Кипренского к следствию, заметим напоследок, что ему есть еще одно весьма вероятное объяснение: мы не можем пренебречь соображением о том, что это явилось результатом нежелания спровоцировать дипломатический конфликт с Россией, поскольку после Венского конгресса официальное российское присутствие при Святом Престоле было восстановлено лишь за год до прискорбного происшествия, и сам факт наличия дипломатических отношений был призван продемонстрировать прочные связи между двумя государствами.
Несмотря на то что мы не располагаем никакими автобиографическими данными об этом периоде жизни Кипренского, некоторые детали, извлеченные из свидетельств современников, представляются важными: за три месяца до трагических событий уже упоминавшийся ранее Пьетро Деликати в письме к Н. М. Лонгинову от 15 января сообщал, что художник
<…> трудится неустанно, так что и римские, и живущие здесь иностранные художники, невзирая на естественную зависть, не могут не давать ему справедливость и не хвалить его: <…> Кипренский своим талантом и добрым поведением делает честь своему Отечеству192.
Известно еще одно письмо Деликати к Лонгинову, относящееся к началу апреля 1818 года193, где Деликати упоминает о Кипренском, ни слова не говоря о несчастном случае, и даже если его дата не уполномочивает на далеко идущие выводы, все же симптоматично то, что Деликати никогда не писал Лонгинову об инциденте в сохранившихся письмах.
Далее заметим, что 23 июля (ст. ст.) 1818 года – следовательно, сравнительно вскоре после смерти Маргериты – Петербургская Академия художеств подготовила рекомендательные письма для художников, посылаемых для усовершенствования в Италию (III: 380, IV: 672–673). Среди адресатов, наряду с полномочным министром А. Я. Италинским, А. Кановой194 и Ф. М. Матвеевым, фигурировал также и Кипренский: это подтверждает, что художник все еще пользовался полным доверием в России.
Из уже цитированного письма А. Н. Оленина к К. Н. Батюшкову от ноября 1818 года мы узнаем, что президент Академии поручил пенсионерам передать его письмо Кипренскому:
Любезному Оресту Адам[овичу] Кипренскому я не пишу, потому что писал недавно с посланными пенсионерами Академии и следственно буду ожидать его ответа. <…> Уведомьте же, как он там живет, как я нетерпеливо желаю его здесь видеть195.
В ответном письме из Рима от февраля 1819 года Батюшков писал: «[Кипренский] делает честь России поведением и кистью: в нем-то надежда наша!»196 Все это доказывает, что уважение, которым пользовался Кипренский, не стало меньше; отсюда следует, что инцидент с Маргеритой или не стал известен в России – потому что, если русские власти были бы о нем осведомлены и в случае оправданности подозрений, это несомненно имело бы последствия – или, что более вероятно, члены русской колонии в Риме сочли художника совершенно непричастным к этому делу.
И более того – если Кипренский, как сообщают Иордан и Гальберг, действительно был так расстроен обвинениями злоязычных соседей, поскольку трагедия произошла под крышей его дома, то по какой причине он продолжал жить на Виа Сант-Исидоро еще три с половиной года? Не было ли в этом случае разумнее поискать квартиру в другом районе? Трудно поверить в то, что Мазуччи потерпел бы в качестве жильца человека, подозреваемого в убийстве. С другой стороны, если Иордан верно передал объяснение, данное этому инциденту самим Кипренским в 1830‐х, зачем художнику понадобилось преувеличивать подробности в утверждении, что Одоардо умер от сифилиса и что только поэтому он сам не был оправдан? Кроме того, что болезнь слуги была обыкновенной гонореей, которая очень редко заканчивается летальным исходом, мы точно знаем, что обвиняемый оставался жив и невредим до конца июля, то есть через четыре месяца после трагедии. Потом его следы теряются, но все-таки дело было закрыто, и даже если Кипренский, не имея больше сведений об Одоардо, считал его умершим, это никак не могло изменить того, что художник был оправдан следствием.
Но если виновен Одоардо, а преступление было предумышленным, было бы естественно предположить, что слуга попытается переложить вину на Кипренского, поскольку тот иностранец и иноверец. Он, однако, этого не сделал, как не сделал и Винченцо, даже под угрозой тяжелых последствий в случае изобличения лжесвидетельства. И далее, с какой стати Одоардо стал бы оказывать помощь любовнице, серьезно пострадав при этом и сам? Может быть, потому что он раскаялся, увидев, что потерял контроль над собой, и последствия превысили первоначальные намерения? На самом деле некоторые подробности показаний Одоардо не сходятся: в первой версии ничего не говорится ни о плате за услуги, ни о свидетеле их связи (некая Анна-Мария)… И мог ли Одоардо притащить два кувшина воды в своих обожженных руках?
Необходимо, однако, заметить, что мысль покарать Маргериту посредством ожога интимных частей ее тела как символа ее непобедимой страсти к Одоардо или как причины заразы, представляется очень странной, если не «готической» в духе романа ужасов. Если бы Одоардо хотел ее физически устранить, не было ли более естественно просто сбросить ее с крыши? Это дало бы ему возможность замаскировать преступление, появиться только в благоприятный момент и, возможно, придать больше вероятности своей непричастности. Из документов вырастает образ не очень-то нравственного человека с ограниченным умом, что вполне соответствует нелестной аттестации, данной ему Мазуччи уже на первых страницах дела, но это в любом случае позволяет увидеть в слуге Кипренского не столько убийцу, сколько неприятного субъекта. Странно и то, что в конце концов его мотивы не были до конца расследованы: убийство до некоторой степени объяснимо, если только версия Иордана правдива и мужчина находился в затруднительном положении (в целом это укладывается в представление о мести по принципу «око за око»), – но в итоге его поступок выглядит все же легкомысленным и чрезмерным в свете известных нам теперь фактов.
Однако есть один момент, который, как кажется, следователи недооценили: это беременность Маргериты, мимоходом отмеченная как второстепенный факт. Частое отсутствие мужа и двухмесячный срок беременности поневоле заставляют подумать о том времени, когда любовники еще встречались, а отсюда недалеко до заключения, что отцом не родившегося ребенка должен был быть Одоардо. Допустив, что Маргерита уже знала о своей беременности, можно предположить, что она пыталась использовать это обстоятельство, чтобы шантажировать Одоардо: вполне вероятно поэтому, что его неловкая попытка имела своей целью не только наказать Маргериту, но и спровоцировать выкидыш и таким образом избавиться от нежеланного последствия их связи.
Теперь остается с известной осторожностью принять во внимание то, что происшествие может быть истолковано как несчастный случай. Хотя у Маргериты, по всей вероятности, имелись причины для супружеской измены, поскольку муж ею пренебрегал, хотя ее конец был достоин сожаления и, конечно, ею не заслужен, хотя отношение соседей к ней никак нельзя назвать заботливым и сочувственным, неоспоримо одно: показания свидетелей единодушно выставляют ее безрассудной и не очень-то щепетильной женщиной, одержимой страстью к Одоардо. Маргерита оставляла полуторагодовалого сына одного в доме, лазила по крышам с риском для жизни, а когда любовник положил конец их связи или, во всяком случае, запретил ей приходить к нему, она отказалась принять его решение и не сумела пережить разрыв. Винченцо назвал ее «infanatichita» (одержимой). Вполне возможно, что она не отдавала себе отчета в том, что сама подожгла свою одежду, поставив свечу в опасное место, когда разбирала черепицу, чтобы освободить проход с крыши на чердак.
К сожалению, в подшивке документов отсутствует указание на то, что Барбиеллини был подвергнут вторичному допросу, который мог бы снять противоречия в показаниях, подтвердив наличие или отсутствие свечи, и тем самым поддержать вышеизложенную версию или полностью ее опровергнуть. Но, вероятно, у дознания не было оснований счесть его авторитетным свидетелем: его порядочность вызывала сомнения, поскольку в качестве издателя и книготорговца Филиппо Барбиеллини из‐за своей безнравственности и склонности к мошенничеству попадал в двусмысленные ситуации по меньшей мере дважды, становясь центральной фигурой довольно шумных скандалов197. С другой стороны, если платье женщины было подожжено с чердака и без участия легковоспламеняющихся веществ в тот самый момент, когда она спускалась на него с крыши, вполне вероятно, что Маргерита могла бы почувствовать это сразу и потушить огонь или сбросить одежду. Но если, напротив, она прикоснулась платьем к свече и платье загорелось за несколько мгновений до того, как она это заметила, огонь имел время разгореться. А свеча могла просто соскользнуть с крыши вниз и потому не была обнаружена.
Но для более основательных выводов принципиально важно иметь более точное представление о месте происшествия. Истинное несчастье заключается в том, что письмо Джозефа Северна, описывающее квартиру Кипренского, не содержит никаких сведений о верхних помещениях и чердаке дома.
Тем не менее следует указать на определенные лакуны и непоследовательность в материалах дела. Прежде всего, к нему не были привлечены трое ключевых свидетелей, то есть сам Кипренский, соседка-француженка, которая, согласно показаниям Мазуччи, была хорошо осведомлена о происшествии, и соседка жертвы, Анна-Мария. Эта последняя могла бы прояснить некоторые существенные пункты, как то: получала ли Маргерита деньги от Одоардо за свои любовные услуги, как утверждал этот последний, или он просто платил ей за стирку его одежды, оставляла ли она в доме маленького сына одного без присмотра, когда уходила на свидания с любовником, и, главное, была ли в ее доме хоть одна жаровня – улика, которая должна была бы иметь решающее значение для следствия.
Далее, следует отметить, что упорство следователей, четырежды допрашивавших Винченцо, является совершенно необъяснимым – потому что он был единственным свидетелем, который отсутствовал во время случившегося несчастья, и это никак не согласуется с отсутствием протокола вторичного допроса такого важного свидетеля, как Барбиеллини; нет необходимости повторять, что это он, согласно показаниям соседки-испанки, залил водой горящую одежду Маргериты, тогда как Одоардо приписывал это себе (по показаниям Винченцо они это сделали оба); неясно, был ли осуществлен доскональный осмотр места происшествия – крыши и улицы в непосредственной близости от дома, в результате которого, возможно, была бы найдена свеча, принесенная Маргеритой; с другой стороны, не было обращено внимание на тот факт, что спустившаяся на чердак женщина увидела Одоардо с «горящей лампадой» в руках; наконец, как уже было упомянуто, возможная цель спровоцировать выкидыш не была признана отягчающим вину обстоятельством, несмотря на то что по закону виновный в убийстве беременной женщины считался и виновником причинения смерти по неосторожности ее плоду198.
Еще больше были недооценены, или кажутся недооцененными, потенциальные осложнения, вытекающие из противоречий в показаниях Одоардо: речь идет о двери, которая вела из его комнаты на другой чердак. Если в первых показаниях он сообщил, что должен был взять ключ, чтобы открыть дверь на чердак и войти в нее для оказания помощи Маргерите, то во вторых утверждал, что двери чердаков всегда были открыты; что же касается того момента, когда на месте происшествия появился Кипренский, то сначала Одоардо показал, что он встретил хозяина на лестнице, когда спускался за водой, и вернулся вместе с ним на чердак, впоследствии же говорил, что хозяин побежал на чердак один, когда услышал крики женщины.
В этом деле есть еще двое свидетелей, блещущих своим отсутствием: во-первых, это приходский священник церкви Сант-Андреа делле Фратте, падре Луиджи Мария Канестрари из ордена минимов Сан-Франческо ди Паола, теолог из Марке и довольно известная в Риме того времени фигура199. Кто же, кроме приходского священника – лица, ответственного за составление подушных списков, духовного стража и наставника жителей его прихода, мог бы лучше произнести беспристрастное суждение относительно безупречной нравственности некоторых фигурантов дела, в частности, Кипренского, которого Канестрари, конечно, должен был знать? Во-вторых, это медик, лечивший Одоардо, поскольку для следствия сведения о состоянии его здоровья – то есть действительно ли он страдал гонореей, – несомненно, оказались бы полезными.
Далее, нелишне было бы уделить больше внимания единственному официальному донесению о происшествии, отчету префектуры Колонна, составленному 1 апреля. Согласно показаниям Мазуччи, к тому времени, как он пошел в префектуру Колонна, представители власти уже были в курсе дела и приняли необходимые меры для предварительного осмотра места происшествия; из свидетельских показаний Винченцо также следует, что ранним утром на место происшествия явился инспектор районной полиции. Учитывая то, что даты протоколов, содержащихся в следственном деле, за исключением показаний Маргериты, начинаются со 2 апреля, когда в госпитале был допрошен Одоардо, который тогда не сообщил ни о жаровне, ни о свече, мы должны задаться несколькими вопросами: кто столь быстро успел проинформировать префектуру Колонна о несчастье? И кто именно подразумевается под «сведущими лицами», от которых префектура получила содержащиеся в отчете сведения? Безусловно, ими не могли быть ни госпитализированные Одоардо и Маргерита, ни Винченцо, ни сам Мазуччи. И как случилось – если верить утверждениям, что в квартале судачили о причастности Кипренского к этой трагедии и о его предшествующей связи с Маргеритой – то, что в отчете об этом не упомянуто ни словом? И почему, если «глас народа» твердил о нападении на бедную женщину, это не было принято во внимание и причиной несчастья была сочтена свеча, принесенная Маргеритой?