Нюрнберг вне стенограмм
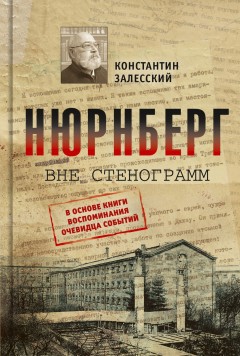
© Залесский К. А., 2024
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2024
К читателю
Обычно выражение «хвост виляет собакой» носит несколько негативный и ироничный характер. Но если мы обратимся к первоначальной пословице, то увидим несколько иной смысл: «Собака умнее своего хвоста, но если бы хвост был умнее, то он бы вилял собакой». В переносном смысле это именно то, что произошло с этой книгой. Обычно приложения иллюстрируют основной текст, являются пусть важным, но лишь вспомогательным дополнением к главной части. Они появляются в ходе работы, когда автор принимает решение какую-либо свою идею проиллюстрировать документами, воспоминаниями очевидцев или статистикой.
Здесь же ситуация диаметрально противоположная: если бы не было приложения, то эта книга просто не появилась бы на свет. Речь идет о помещенных в приложении воспоминаниях непосредственно очевидца происходившего в 1945–1946 годах в Нюрнберге процесса Международного военного трибунала Ольги Табачниковой-Свидовской. Мало того, именно их название – «Нюрнберг вне стенограмм» – стало названием всей книги. Стоит отметить, что в этом издании они впервые публикуются в полном объеме без каких-либо купюр.
Воспоминания Ольги Свидовской чрезвычайно интересны именно тем, что она рассказывает не о том, что происходило в зале заседаний Международного трибунала. Это взгляд переводчицы советской делегации на то, что происходило в Нюрнберге – и на его улицах, и во Дворце юстиции, в кабинетах администрации, и в местах проживания делегаций – во время величайшего процесса в истории человечества. Именно после прочтения этих прекрасно написанных и увлекательных записок в издательстве и родилась идея настоящего издания. И теперь Вы держите в руках книгу о Нюрнбергском процессе, в которой о собственно судебном действе сказано чрезвычайно мало. Зато появилась возможность сосредоточить внимание над тем, на что обычно у исследователей просто не хватает места и времени, поскольку кажется не столь важным. Конечно, любой автор будет стремиться погрузить читателя в загадочные перипетии самого известного в мире процесса, рассказать о чудовищных преступлениях, совершенных нацистским режимом, показать всю ничтожность подсудимых, когда-то мнивших себя вершителями судеб человечества. И будет, между прочим, абсолютно прав. Но все же Нюрнбергский процесс – это слишком масштабное явление, чтобы можно было не обращать внимания и на все то, что его окружало. По моему мнению, когда мы говорим о столь важном событии, то значение имеет абсолютно все: и место действия, и, что еще важнее, непосредственные его участники. И как мои подробные и объемные комментарии сопровождают помещенные в конце книги воспоминания Ольги Свидовской, так и вся книга является комментариями к самому Нюрнбергскому процессу.
Очень надеюсь, что эта книга станет необходимым дополнением к той картине, которую рисуют другие работы, посвященные Нюрнбергскому процессу. Ведь наша общая задача – создать полную (и правдивую) картину такого без преуменьшения всемирного события, как процесс Международного военного трибунала над главными военными преступниками.
Константин Залесский,
год 79-й от начала Нюрнбергского процесса
Суд над нацизмом
Вместо предисловия
20 ноября 1945 года, в 10 часов утра, в Нюрнберге, в Зале судебных заседаний № 600 Дворца юстиции, начались заседания самого представительного суда в истории человечества. Перед судьями Международного военного трибунала (по-английски он назывался International Military Tribunal, откуда и широко распространенная ныне аббревиатура IMT, по-русски – МВТ) предстали 22 человека, которых обвинение назвало «главными военными преступниками». Первоначально таковых было 24, но имперский организационный руководитель нацистской партии и глава Германского трудового фронта Роберт Лей до начала процесса повесился в тюремной камере, а глава крупнейшего военного концерна Германии барон Густав Крупп фон Болен унд Гальбах окончательно впал в маразм, в связи с чем его освободили от ответственности «по состоянию здоровья».
За прошедшие 78 лет кто только не пытался оспорить решения Нюрнбергского трибунала: даже сегодня появляются публикации, в которых предпринимаются попытки поставить под сомнение его приговор. В качестве аргументов обычно используются процессуальные огрехи и юридические тонкости, вроде того, что Устав Военного трибунала был принят уже после войны, а ранее не было закрепленной законом ответственности за подобные преступления. Но и такие люди кривят душой. Ведь возникает вопрос: а для чего, собственно, происходит жонглирование юридическими терминами? Какова цель? Не отменить же приговор тем, кто был осужден трибуналом? Но ведь они являются военными преступниками, это ни у кого сомнений не вызывает. Например, тот же Ганс Фриче, который был оправдан на этом процессе, позже, в 1947 году, уже немецкой судебной палатой был за свои деяния в годы Третьего рейха приговорен к 9 годам трудовых лагерей и пожизненному запрещению заниматься журналистикой или преподавательской работой. Цель, конечно же, другая – добиться ревизии истории и реабилитации нацизма. Поскольку в осуждении национал-социализма как идеологии и гитлеровского государства как режима и системы именно Нюрнбергский процесс сыграл главную роль. В действительности в Нюрнберге народы судили нацизм и лишь формально – конкретных 22 человека.
Для простого осуждения руководителей нацистского режима никакой необходимости в создании столь представительного трибунала не было. Их преступления были настолько очевидны, что было достаточно и обычного трибунала без столь колоссальной доказательной базы. Уинстон Черчилль вообще предлагал – в чем встретил поддержку американцев – составить список из 500 военных преступников, которые должны были быть казнены вообще без суда в тот момент, когда они попали бы в руки союзников. А архиепископ Йоркский прямо заявил: «Я бы хотел видеть этих людей вне закона… Те, кто поймает их, должны после установления личности сразу же предать их смерти». Как и показали прошедшие после войны процессы американских, британских, французских, советских, югославских и многих других военных трибуналов, которые вполне успешно смогли доказать вину множества военных преступников и вынести соответствующий ей приговор. Мало того, на скамье подсудимых в Нюрнберге оказались также люди, преступления которых были тесно связаны с конкретными странами: Ганс Франк залил кровью Польшу, Артур Зейсс-Инкварт делал то же на посту имперского комиссара Нидерландов. И если заместителя Франка Йозефа Бюлера повесили в Кракове по приговору польского суда, то вполне можно предположить, что стало бы с его шефом, окажись он рядом.
Однако советская сторона, и прежде всего И. В. Сталин, видела в процессе совершенно другое мероприятие. Еще по политическим процессам конца 1930-х годов было известно, что судебный процесс предоставляет прекрасную возможность довести до общественности доказательства совершенных преступлений. Причем эти доказательства, пройдя через суд и будучи им признаны, уже чрезвычайно сложно подвергать сомнениям, для этого нужно, как минимум, еще одно такое же масштабное и серьезное мероприятие. Показать сущность нацистского режима и был призван процесс. И, несмотря на то, что англичане и в какой-то мере американцы постоянно пытались свернуть его в формальное русло стандартной процедуры, т. е. суда над конкретными людьми, процесс своей цели достиг.
Левая сторона скамьи подсудимых. В первом ряду: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель; во втором ряду: Карл Дёниц, Эрих Рэдер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель
На тот момент ни одна из национальных судебных систем не имела опыта суда не над конкретными обвиняемыми, а над явлением, режимом. Поэтому и пришлось собирать главных военных преступников. Даже такое новшество Нюрнбергского процесса, как признание преступными ряда нацистских организаций, пришлось вводить с оглядкой на «личности»: преступными (и, следовательно, виновными) признавались фактически не сами организации, а люди, в них состоявшие. Именно поэтому, как следует из текста приговора, признана преступной не нацистская партия, а ее «руководящий состав», т. е. лишь «амтслейтеры, которые были начальниками отделов в аппарате рейхслейтунга, гаулейтунга и крейслейтунга», не СС, а «все лица, которые были официально приняты в СС, включая членов “Общих СС”, войск СС, соединений СС “Мертвая голова” и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС», и т. д.
Нюрнбергский процесс, по мысли советской стороны, был призван стать – и действительно стал – грандиозной политической и информационной акцией по предоставлению мировому сообществу правды о нацистском режиме и его преступлениях. По идее Советского Союза, который выступил инициатором проведения процесса, он должен был стать судом над фашизмом как явлением. Этим объясняется и подбор подсудимых, а также тот факт, что ряд людей, которых можно было назвать «главными преступниками», не были к нему привлечены. Организаторы процесса отобрали подсудимых так, чтобы иметь возможность представить на рассмотрение трибунала – а, следовательно, сделать достоянием гласности и проинформировать мировую общественность – о всех сторонах деятельности нацистского режима.
Герман Геринг, с одной стороны, как официальный преемник фюрера, председатель Рейхстага и премьер-министр Пруссии, представлял партию, а с другой, как главнокомандующий люфтваффе, – военно-воздушные силы Германии. Поскольку предстояло разобрать деятельность нацистского политического режима, нацистская партия была представлена на процессе самым большим количеством подсудимых. Это были: заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс, не доживший до процесса имперский организационный руководитель Роберт Лей и начальник Партийной канцелярии Мартин Борман. О последнем надо сказать особо: к этому моменту он был уже мертв, но поскольку тело найдено не было, существовала возможность судить его заочно. Это было абсолютно необходимо сделать, так как в противном случае за политику НСДАП пришлось бы отвечать одному Гессу, а он с 1941 года находился в плену в Англии и, соответственно, за преступления во время войны ответственность нести не мог.
Это еще раз говорит о том, что для организаторов трибунала важнее было не присутствие какого-либо конкретного человека на скамье подсудимых, а возможность выдвинуть против него обвинения и затем доказать их в ходе открытых слушаний. Кроме этих трех человек, партию на процессе представляли еще двое, хотя их включили скорее как «представителей» оккупационного режима. Это Альфред Розенберг, который являлся одновременно одним из идеологов национал-социализма и имперским министром восточных оккупированных территорий. Вторым был Ганс Франк, возглавлявший Юридическое управление Имперского руководства НСДАП, однако все же его преступления, совершенные на посту генерал-губернатора оккупированной Польши, были значительно более серьезными. Оккупационные власти представлял также Артур Зейсс-Инкварт. Вермахт был представлен начальником Верховного командования вермахта (ОКВ) генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем и начальником Штаба оперативного руководства ОКХ генерал-полковником Альфредом Йодлем, военно-морской флот – двумя гросс-адмиралами и начальниками Верховного командования ВМС Карлом Дёницем и Эрихом Рэдером. Получилось, однако, что на процессе не были представлены сухопутные войска – обвинение посчитало, что Кейтеля и Йодля вполне достаточно, хотя начальник Генштаба генерал-полковник Франц Гальдер вполне был достоин того, чтобы оказаться рядом с ними в Нюрнберге…
Поскольку рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер покончил с собой на глазах английских офицеров, пришлось искать ему замену. Организаторы процесса, за неимением лучшего, остановились на Эрнсте Кальтенбруннере, шефе СД и полиции безопасности. Почему к нему не присоединились его коллеги – например, глава Административно-хозяйственного управления, которому подчинялись концлагеря, Освальд Поль, – сказать сложно. Возможно, чтобы у защиты не возникло желания попытаться свалить на СС вообще все преступления и тем самым выгородить своих подопечных. Юлиус Штрейхер попал на скамью подсудимых на «главном» процессе совсем не как бывший гаулейтер Франконии, а как владелец, издатель и автор газеты Der Stürmer, идеолог и популяризатор антисемитизма. Внешнеполитическое ведомство было представлено имперскими министрами иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом и бароном Константином фон Нейратом, Гитлерюгенд, т. е. молодежная организация НСДАП, – Бальдуром фон Ширахом, которому также предстояло отвечать за нацистскую политику в Австрии. Имперский министр внутренних дел и руководитель фракции НСДАП в Рейхстаге Вильгельм Фрик прекрасно подходил на роль представителя Имперского правительства, а с гаулейтером Тюрингии Фрицем Заукелем было связано использование подневольного рабского труда иностранных граждан – он был с 1942 года генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы.
При активной позиции Советского Союза на скамье подсудимых оказалось внушительное количество и руководителей экономики Германии. Ими стали имперские министры экономики и президенты Рейхсбанка Ялмар Шахт и Вальтер Функ, а также имперский министр военной экономики Альберт Шпеер. Американцы были совсем не в восторге от того, что пришлось привлекать к ответственности Шахта, но отказать Советскому Союзу они не могли – все же именно Шахт создавал военную экономику для Гитлера. Но что касается частного капитала, то здесь американцам все же удалось добиться своего. Нет, на словах американский обвинитель Джексон метал громы и молнии. Но на деле им удалось обвести советскую сторону вокруг пальца и не дать процессу рассмотреть доказательства причастности к военным преступлениям капитанов германской экономики, многие из которых были настолько тесно связаны с американским бизнесом, что было сложно сказать, кто они в душе больше – немцы или американцы.
На процесс был выведен Густав Крупп, владелец и глава крупнейшего промышленного концерна Германии Friedrich Krupp AG. Само его имя было синонимом военной промышленности, и он был бы идеальным кандидатом на скамью подсудимых, если бы не одно «но». После инсульта, который он перенес еще до краха нацистского режима, Крупп отошел от управления концерном, передав его своему старшему сыну Альфриду; мало того, 4 декабря 1944 года он попал в автокатастрофу, и у него начался процесс органического разрушения мозга. Судить его было нельзя, он перестал узнавать даже ближайших родственников. Вполне закономерно, что было принято решение дело против него прекратить. Советская сторона вполне естественно предложила заменить отца сыном Альфридом или же рассмотреть дело против него заочно. Однако американцы не собирались и дальше подвергать себя риску и при поддержке своих коллег из Англии и Франции заблокировали оба предложения. Нюрнбергский процесс остался без германских промышленников…
Включение в список еще двух человек было вынужденным, но, как позже стало ясно, неудачным – их пришлось оправдать. Однако все же удалось представить на процессе документы о связанных с ними, пусть и не на прямую, преступных деяниях нацизма. Ставший в январе 1933 года вице-канцлером Франц фон Папен дал возможность говорить о том, какую роль сыграли германские консерваторы-националисты в приходе национал-социалистов к власти. Наконец, популярный радиокомментатор Ганс Фриче стал заменой, хотя и абсолютно неравнозначной, руководителю нацистской пропаганды Йозефу Геббельсу. Это, конечно, была натяжка, но другие кандидатуры были не лучше – Геббельс был слишком крупной фигурой, рядом с ним все остальные казались пигмеями.
Главный вход во Дворец юстиции в Нюрнберге во время процесса МВТ, декабрь 1945 года
Задача, поставленная перед Нюрнбергским процессом, была выполнена: мир узнал о том, что принес с собой нацизм. Если смотреть на него именно с этой точки зрения, никаких вопросов не возникнет. Как писал юрист-международник А. Н. Трайнин, «подлинный смысл Нюрнбергского процесса глубже: в Нюрнберге идет суд победившей правды». Еще более четко, снимая последние сомнения, о целях процесса сказала газета «Правда», написавшая 19 октября 1945 года: «Это не акт мести, это торжество справедливости… Перед судом народов предстанет не только банда преступников – предстанет фашизм, предстанет гитлеризм».
Часть I
Международный военный трибунал в Нюрнберге
Сначала нам необходимо познакомиться с местом проведения процесса, а также с его участниками – теми, кто судил, обвинял и защищал подсудимых. Их личности оказали колоссальное влияние на ход процесса, и если, по существующей традиции описания любых судебных процессов, сосредоточиться лишь на подсудимых, то совершенно нельзя будет понять, что же, собственно, происходило в Нюрнберге в 1945–1946 годах. Вообще на процессе работало беспрецедентно огромное количество народа; самой большой, причем многократно превосходящей других делегацией союзников была, конечно же, американская – более 600 человек. Но и другие были тоже значительны: формально суд и обвинение были представлены в равных частях четырьмя главными державами-победительницами и теоретически все страны получили равные права, хотя на самом деле это было не так.
Надо иметь в виду, что размеры делегаций создавали и большое количество чисто технических трудностей. Напомним, что во время войны Нюрнберг, как один из крупнейших городов, а также промышленных центров Баварии и Германии, был с самого начала включен в список приоритетных целей для бомбардировочной авиации США и Великобритании. Первые налеты на Нюрнберг имели место в 1940 году, однако это были ничего не значившие разовые и, как сегодня бы сказали, имиджевые акции. А вот в 1943-м англо-американцы взялись за древний город всерьез. Началом массированных бомбардировок считается ночь на 26 февраля – Королевские ВВС (Royal Air Force; RAF) всегда предпочитали бомбить по ночам, поскольку это резко снижало их собственные потери, хотя и исключало прицельное бомбометание, но британцам на это было плевать и они всегда предпочитали бомбить «по площадям», т. е. проще говоря, уничтожать гражданскую инфраструктуру. В ту ночь 337 британских бомбардировщиков сбросили на Нюрнберг свой смертоносный груз. Впереди было еще много налетов – 20–21 февраля 1945 года в бомбардировках приняло участие 2035 самолетов, – и в конце войны «колыбель нацистского движения» лежала в руинах. Целых домов оставалось немного, а членов союзных делегаций надо было на просто расселить, а расселить со всем возможным комфортом. Но обо всем по порядку…
Улицы разрушенного Нюрнберга в 1945 году: справа памятник кайзеру Вильгельму I на Эгидиенплац
Место действия
Сегодня, когда встает вопрос: а почему для проведения процесса был выбран Нюрнберг? – кажется, что ответ вполне логичен: а где, собственно, еще? Процесс Международного военного трибунала (МВТ) над главными военными преступниками под названием Нюрнбергского процесса прочно вошел в историю как событие колоссального значения, и ни у кого вопрос «почему Нюрнберг» даже не возникает. И действительно, совсем несложно найти объяснение выбора союзников историческими и историко-политическими причинами. И средства массовой информации, и многочисленные эксперты постоянно напоминают: Нюрнберг – это город нацистских съездов, там проходили самые шумные и массовые манифестации нацистов, там в 1935 году были приняты антисемитские Нюрнбергские законы, там перед десятками тысяч сторонников выступал с речами Адольф Гитлер, там расположена «зона партийных съездов» (почему-то совершенно не пострадавшая от ковровых бомбардировок англосаксов) – грандиозные поля Цеппелина, Луитпольд-арена, стадион Гитлерюгенда, Конгрессхалле, Большая улица и т. д. Это действиетльно так. Сегодня стало модно углубляться в еще более древнюю историю и припоминать, что Нюрнберг был резиденцией немецких королей и местом хранения регалий императоров Священной Римской империи германской нации… И это тоже соответствует действительности. Другое дело, сыграло ли это хоть какую-то роль при выборе города местом проведения международного процесса, или его история была все же вторичной? Ведь объяснить какими-либо событиями прошлого можно всё или практически всё. Особенно если очень захочется.
Если уж говорить о том, какой город наиболее подходил для процесса с символической и пропагандистской точки зрения, то предложение Советского Союза – безотносительно к нашей симпатии к своей стране – было, конечно же, идеальным. Мы достаточно настойчиво продвигали в этом качестве Берлин – столицу милитаристской Пруссии, столицу Германской империи, столицу Третьего рейха и будущую Столицу мира Германия (Welthauptstadt Germania), как планировал назвать ее Гитлер. Где проводить международный процесс над нацистами, как не в столице их империи? И кроме того, Берлин был разделен на четыре оккупационные зоны – по одной у каждой страны-победительницы, – таким образом, здесь сохранялось присутствие всех заинтересованных сторон, и представители каждой могли проживать (и работать) на подконтрольной собственным властям территории. В этом случае никакая из сторон особого преимущества не получала – может быть, в ограниченной степени СССР, поскольку он контролировал территорию вокруг Берлина. Последнее не устраивало наших союзников, американцы изначально взяли курс на то, чтобы играть основную роль в организации и подготовке процесса и отдавать пальму первенства не собирались.
В пользу отказа от Берлина говорили, впрочем, и объективные факты: с одной стороны, город был сильно разрушен, с другой – он был слишком большим и в нем было много народа – и населения, и представителей оккупационных войск и администрации, сохранялась большая опасность наличия диверсантов. Проще говоря, американцы указывали на то, что обеспечение безопасности столь масштабного мероприятия в таком большом городе будет проблематично. Кроме того, американцы, в случае если процесс будет проходить на подконтрольной им территории, были готовы взять на себя основные расходы по размещению заключенных, свидетелей, представителей обвинения и т. д. Советский же Союз широко тратить валюту на содержание даже собственной делегации не хотел. Не то чтобы это было главным аргументом, но советской стороной учитывалось: надо было еще страну восстанавливать, из руин поднимать. По факту на 1945 год только США – богатейшая страна мира, территория которой даже обстрелам не подверглась, – могли себе позволить без какого-либо напряжения сил предоставить материальное и логистическое обеспечение подобного процесса.
Представитель США Роберт Джексон поставил перед собой цель – процесс должен пройти в американской зоне оккупации, проблема была в том, чтобы убедить СССР; Великобритания и Франция своих вариантов не выдвигали и в принципе были согласны с США. Джексон предложил на выбор три города – столицу Баварии Мюнхен, древний университетский город в земле Баден Гейдельберг и, наконец, столицу Франконии Нюрнберг. Мюнхен был «местом рождения» нацистского движения, Нюрнберг, как мы уже говорили, «городом партийных съездов», а главным аргументом в пользу Гейдельберга было то, что он был одним из немногих городов Германии совершенно не пострадавшим во время войны и одновременно довольно компактным и удобным для обеспечения безопасности, однако никакого символического значения не имел…
Карта района Дворца юстиции в Нюрнберге
И в Мюнхене, и в Нюрнберге англо-американская авиация практически полностью снесла Старый город (и тут и там было разрушено до 90 % зданий в центре). Мюнхен советская сторона отвергла сразу: город находился в глубине американской зоны оккупации, добираться из советской зоны до него было крайне неудобно, кроме того, он был довольно большим и населенным, следовательно, с точки зрения безопасности особых преимуществ перед Берлином не имел. Гейдельберг также отмели, но уже из политических соображений: этот исторический университетский город никоим образом не мог претендовать на какой бы ни было статус «символа нацизма».
В этой ситуации Нюрнберг представлялся вполне разумным компромиссом. С одной стороны, он вполне тянул на «символ нацизма» (об этом мы сказали выше), наравне с Берлином и Мюнхеном, а с другой – этот выбор был обусловлен практическими соображениями. Хотя центральная часть Нюрнберга и была разрушена до основания, тем не менее она размещалась довольно компактно – в границах старых крепостных стен, а город вокруг, пусть и пострадавший, оставался в целом пригодным для жизни. А главное – по иронии судьбы практически без каких-либо потерь войну пережил довольно новый, современный и обширный Дворец юстиции (или, как его еще называют, Дворец правосудия) с большим залом на 200 человек, причем впритык к зданию дворца располагался большой тюремный комплекс. Подобное расположение решало все логистические проблемы (т. е. снимался вопрос с доставкой подсудимых и свидетелей в зал заседаний), а также облегчало обеспечение безопасности: просто «закрывался» весь комплекс – и Дворец юстиции, и тюрьма. В Нюрнберге практически полностью сохранились застроенные виллами пригороды, в также замок Фаберов и крупный город-спутник Фюрт[1], там можно было разместить любое количество представителей Союзников, журналистов и т. д., и т. п. Учитывая готовность американцев взять на себя все заботы (и бо́льшую часть расходов) по решению оргвопросов по организации и проведению процесса, Нюрнберг, безусловно, становился наиболее удачным компромиссным вариантом. Представлявший СССР генерал И. Т. Никитченко все же предложил, чтобы собственно судебный процесс проходил в Нюрнберге, а штаб-квартира трибунала при всем этом располагалась-таки в Берлине. Американская сторона решила, что это вполне достойный компромисс и особо препираться по этому поводу с СССР не стала. Формальности были соблюдены: именно в зале суда берлинского района Шёнеберг 18 октября 1945 года состоялось официальное открытие заседаний МВТ. На нем председательствовал И. Т. Никитченко, который огласил решение о вручении обвинительного заключения 24 подсудимым, а также объявил, что для ознакомления с ним обвиняемым дается один месяц.
Дворец юстиции
Здание Дворца юстиции (Justizpalast) в Нюрнберге в стиле франконского Неоренессанса было построено в 1909–1916 годах по проекту архитекторов баурата Гуго фон Хёфля и Гюнтера Блюментритта. Это был довольно амбициозный и дорогой проект – на него потратили более семи миллионов марок, этот комплекс стал и остается поныне самым большим подобным на территории земли Бавария – его полезная площадь составляет около 65 тысяч м2.
Панорамный вид на Дворец юстиции и Нюрнбергскую тюрьму
Комплекс зданий собственно Дворца юстиции состоял из главного корпуса с тремя внутренними атриумами, западного и восточного корпусов, в которые можно попасть через 1-й этаж по соединительным мостикам. Главный фасад дворца, выходивший на Фюртерштрассе, был украшен гербами и скульптурами. На фризе между окнами 3-го этажа в арочных нишах расположены 13 скульптур из французского известняка «выдающихся деятелей юриспруденции и отправления правосудия»[2] высотой ок. 2,4 метра работы нескольких мюнхенских и нюрнбергских скульпторов. Центральный вход был украшен величественной аркой, ограниченной круглыми колоннами с капителями. Над главным корпусом возвышалась 57-метровая часовая башня, увенчанная золотой статуей богини правосудия (башню сегодня увидеть нельзя – ее разрушила англо-американская авиация 21 февраля 1945 года). Внутри здание было оборудовано большим количеством пассажирских лифтов и шестью специальными, исключительно для перевозки заключенных.
Вид на главный вход во Дворец юстиции в Нюрнберге во время процесса МВТ, декабрь 1945 года
По плану здание должно было заменить действовавшие судебные установления на Августинерштрассе и Вейнтраубенгассе, сюда предполагалось перенести все суды Нюрнберга различного уровня, а также различные подразделения прокуратуры (на тот момент Фюрт имел собственный суд, но в 1932 году судебную самостоятельность потерял и его судебные органы переехали сюда же). Комплекс с момента завершения постройки использовался, как и предполагалось, для судебных инстанций, кроме законченного первым западного корпуса. В нем в сентябре 1914 года был размещен военный госпиталь. В октябре 1919 года госпиталь был передан в частные руки, а в 1922 году закрыт, после чего весь Дворец юстиции отошел по принадлежности, хотя некоторое время там располагались и некоторые другие государственные учреждения.
Здание Дворца юстиции было торжественно открыто 11 сентября 1916 года королем Баварии Людвигом III Виттельсбахом. Церемония прошла в Королевском зале (Königssaal) на 3-м этаже, облицованном настенными панелями и украшенном портретами монархов из Дома Виттельсбахов – Максимилиана I, Людвига I, Максимилиана II, Людвига II, Оттона I, принца-регента Луитпольда и самого Людвига III. Кстати, сегодня этот зал выглядит практически так же – за исключением стеклянного купола, уничтоженного во время Второй мировой войны.
Нацисты в годы войны никакого пиетета перед третьей властью не испытывали и помещение у судейских отобрали. В эти годы во Дворец юстиции въехали многочисленные военные и государственные структуры, отношения к правосудию не имевшие. Исследователи насчитывают 16 таких ведомств, среди которых комендатуры люфтваффе, окружной представитель по обороне имперского министра вооружений и боеприпасов, штаб Нюрнбергского командования вооружений, штаб командующего Нюрнбергским военным округом, Управление торговой инспекции Нюрнберга-Фюрта, главное отделение Имперского банка в Нюрнберге-Фюрте, несколько отделов полицей-президиума Нюрнберга-Фюрта, криминальная полиция, тайная государственная полиция (гестапо), Имперское почтовое управление, ведомство ландрата и т. д.
В целом во время войны Дворец юстиции особо не пострадал, тем не менее он оказался в зоне бомбардировок во время двух налетов англо-американской авиации. 27 ноября 1944 года в здании в результате авианалета были выбиты стекла, а 21 февраля 1945 года в него попало 5 бомб, в результате чего 3 человека погибли и 7 получили ранения.
После войны в июле 1945 года комплекс зданий Дворца юстиции перешел в ведение американской оккупационной администрации, все находившиеся там учреждения получили предписание покинуть свои помещения в течение нескольких дней. После чего территория комплекса была полностью закрыта, установлена очень серьезная охрана и строгий пропускной режим. Знаменитый Зал № 600, о котором речь пойдет ниже, находился (и находится сегодня) в восточном крыле Дворца юстиции.
Несмотря на то что процессы Американского военного трибунала закончились в 1949 году, выгнать американских военных из Дворца юстиции было делом непростым и небыстрым. Только в 1960 году американцы начали собирать свои пожитки и окончательно освободили дворец лишь в 1969-м. Поскольку здания требовали капитального ремонта, то американцы, естественно, передали их баварским властям. Восстановление заняло более 15 лет – с 1961 по 1977 год – и стоило примерно 19 миллионов немецких марок. Только после этого здания вновь стали использоваться для нужд судебной системы ФРГ.
Советский почетный караул у Дворца юстиции в Нюрнберге
В наши дни Дворец юстиции (Бэреншанцштрассе, 72) используется по прямому назначению. В нем находятся апелляционный Высший земельный суд Нюрнберга (Oberlandesgericht Nürnberg), окружной/земельный суд Нюрнберга-Фюрта (Landgericht Nürnberg-Fürth), Нюрнбергский участковый суд (Amtsgericht Nürnberg), а также прокуратура Нюрнберга-Фюрта (Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth) и Международная академия нюрнбергских принципов (Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien). Последняя с 2020 года занимается продвижением международного уголовного права и прав человека, выступает «за борьбу с безнаказанностью за преступления по международному праву: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии». Ее целью объявлено «содействие универсальности, законности и признанию международного уголовного права и его глобальному осуществлению. Сферы ее деятельности включают междисциплинарные и прикладные исследовательские проекты, целевое обучение практиков международного уголовного права, консультирование конкретных целевых групп и образование в области прав человека. Учредителями фонда являются Федеративная Республика Германия, Свободное государство Бавария и город Нюрнберг»[3].
Кроме того, 21 ноября 2010 года здесь наконец открылся музей – Памяти Нюрнбергского процесса (Memorium Nürnberger Prozesse). С момента самого процесса прошло 65 лет, и ранее (да и то только с мая 2000 года) в здание пускали только по выходным и в составе заранее оговоренных экскурсий. Тем не менее государственный министр при бундесканцлере и уполномоченный по культуре и СМИ христианский демократ Бернд Нойман на открытии музея заявил: «Это первое такое место, где на постоянной основе и в историческом месте разместилась экспозиция, документирующая Нюрнбергский процесс»[4]. Выставка довольно небольшая и скорее мемориальная или документальная, собственно информационная экспозиция разместилась на самом последнем этаже Дворца юстиции и, наверное, самый запоминающийся экспонат – две скамьи подсудимых. Общая площадь экспозиции – 750 м2. В 1-й части экспозиции представлены видео– и аудиозаписи, исторические материалы, информация о судьях и обвинителях, о ходе процесса, биосправки и фото обвиняемых, а также журналистов, освещавших процесс, и т. д. 2-я часть посвящена юридической стороне вопроса, причем основное внимание сосредоточено не столько на «Большом процессе», сколько на «последующих», т. е. процессах американского военного трибунала, проходивших в Нюрнберге, в том же самом Зале № 600. Поскольку сам зал расположены на этаж ниже, на него можно взглянуть через три стеклянных окошка – это если там шли заседания, если заседаний не было, то по дороге наверх в Зал № 600 можно было зайти в него и постоять внутри. Наконец, 3-я часть посвящена «наследию Нюрнберга» вплоть до создания Международного уголовного суда в Гааге. На создание комплекса ушло 4,2 миллиона евро, половину предоставило земельное правительство Баварии, другую – федеральное правительство Германии[5].
В марте 2022 года было сообщено, что Дворец юстиции в Нюрнберге закрывается на ремонт, который продлится в течение ближайших 5—10 лет. «К сожалению, за прошедшие несколько десятилетий бездействия дворец несколько обветшал, что вынудило нас начать ремонт. Мы должны сохранить и для нынешнего поколения, и для наших потомков место, в котором фашизм был окончательно растоптан», – заявил бундесканцлер Олаф Шольц. Музей пока продолжает работать (на его сайте указано, что до 31 октября 2024 года точно) и входной билет стоит целых 7,5 евро – все ради сохранения памяти…
Нюрнбергская тюрьма
Как уже упоминалось, один из аргументов, приведенных американцами в пользу Дворца юстиции в Нюрнберге, был тот факт, что с тыльной стороны к нему примыкал большой, современный и неплохо оборудованный тюремный комплекс – Нюрнбергская тюрьма камерного типа (Zellengefängnis Nürnberg). (Ныне весь комплекс именуется «Пенитенциарным учреждением Нюрнберга» – Justizvollzugsanstalt Nürnberg; это понятие значительно шире, и поскольку оно имеет отношение лишь к современности, мы упомянем о ней в конце этого раздела, когда будем говорить о послевоенной истории тюрьмы.) Здания этой тюрьмы были возведены в Нюрнберге в 1865–1868 годах по проекту архитектора Альберта фон Войта. Отметим, что заказчики проекта (власти Баварии) и архитектор изначально создавали изоляционную тюрьму, поскольку именно такой подход к местам заключения был характерен для Германии с 40-х годов XIX века. Его суть заключалась в том, что заключенные содержались в основном не в общих помещениях, а в индивидуальных камерах. По мнению тюремных теоретиков и психологов, подобный подход позволял оградить насельников от негативного влияния других заключенных.
На этой фотографии особенно четко видны корпуса Нюрнбергской тюрьмы, расположенной за Дворцом юстиции
Первоначально тюремный комплекс состоял из четырех трехэтажных флигелей с тюремными камерами для заключенных. Флигеля в форме лучей звезды отходили от центрального здания на восток, северо-восток, северо-запад и запад. В пятом флигеле, который был ориентирован на юг, размещались помещения для учебных и административных служб, а также тюремная церковь, почему он также получил название Церковного флигеля (Kirchenflügel). Наш разговор пойдет именно об этой «тюрьме камерного типа», поскольку существовавший здесь к 1945 году тюремный комплекс был несколько больше. Собственно старая тюрьма во 2-й половине XIX века стала местом размещения мужского отделения, в 1886–1888 годах северо-западнее ее было возведено здание женского отделения тюрьмы, в 1889–1901 году восточнее – здание изолятора временного содержания (Untersuchungshaftanstalt). Кроме того, в собственном здании к северо-востоку от восточного флигеля располагался спортивный зал тюрьмы, где в 1946-м казнили приговоренных к смертной казни подсудимых «Большого Нюрнберга».
После того как в 1916 году был возведен Дворец юстиции и тюрьма стала формально частью «судебного комплекса на Фортенштрассе», здание суда и следственный изолятор были соединены подземным переходом – это было логично, поскольку именно из изолятора подсудимые доставлялись в зал заседаний. Когда американцы начали готовить комплекс к проведению Нюрнбергского процесса, они приняли решение следственный изолятор не использовать, в связи с чем возникла необходимость обеспечения безопасной доставки подсудимых (и свидетелей) в Дворец юстиции. В связи с этим между восточным флигелем тюрьмы и Дворцом юстиции был построен надземный деревянный коридор (до наших дней он не дожил).
Нюрнбергская тюрьма всегда использовалась в своем основном и главном качестве – как место заключения для уголовных преступников (впрочем, при нацистах там, естественно, содержались и противники режима, но это была общая тенденция режима, а не что-то из ряда вот выходящее, имевшее отношение только к этому месту заключения).
В 1945 году подсудимые – или главные военные преступники – были помещены в восточном флигеле или, как называли его американцы, «Уголовном крыле» (Criminal Wing). (После «Большого Нюрнберга» американцы стали селить подсудимых и свидетелей своих последующих процессов в основном в западном и северо-западном флигелях.) Надо отметить, что остальные флигеля (в первую очередь это был северо-восточный флигель) также были использованы: в них размещались многочисленные свидетели, которых обвинение и суд решили привлечь к слушаниям на процессе: это были высокопоставленные военнослужащие, чиновники, партийные функционеры и др. Режим содержания подсудимых и обвиняемых отличался разительно. Подсудимые в восточном флигеле содержались в одиночных камерах, причем у каждой находился отдельный пост, чтобы караульный имел возможность постоянно наблюдать за заключенным через окошко в двери – это должно было исключить возможность самоубийства. А вот свидетели могли свободно передвигаться в течение дня в своем флигеле и крыле, естественно, при стандартном разделении на мужское и женское отделения. Режим для свидетелей был значительно мягче, охраны было мало, свидетели могли общаться, играть в карты и т. д. Тюремной церковью в Церковном флигеле тоже могли пользоваться только свидетели, для которых там регулярно проводились службы (а вот во время «последующих» процессов Американского военного трибунала их могли посещать также и подсудимые). Разговоры во время службы запрещались, но это правило не соблюдалось, а англоязычная охрана не понимала, что говорят свидетели-немцы…
Цифрой 1 отмечено здание, где проходили заседания процесса; цифрой 2 – восточный флигель, где содержались под стражей подсудимые; цифрой 3 – единственный из ныне сохранившихся тюремных флигелей; цифрой 4 – здание спортзала, где были повешены приговоренные
На фотографии закрытый деревянный переход, по которому подсудимые из тюремного блока доставлялись в Зал судебных заседаний (отмечен стрелкой)
Когда мы говорим о Нюрнбергской тюрьме времен процесса МВТ, то ни в коем случае не можем обойти стороной такое важнейшее действующее лицо, как полковник Бёртон Кертис ЭНДРЮС (Andrus). Он родился 15 апреля 1892 года в Форте-Спокане (штат Вашингтон) в семье выпускника Военной академии США майора Фрэнка Б. Эндрюса. В 1910 году он устроился на работу в Standard Oil Company в Нью-Йорке, в 1914 году окончил Университет штата Нью-Йорк в Буффало, а в 1916-м женился на Кэтрин Элизабет Стеббинс. Его жизнь полностью изменилась в 1917 году, когда его призвали на действительную военную службу – он был офицером резерва. С этого момента началась его служба в Армии США: скажем сразу, он ничем себя не проявил, был абсолютно бездарным офицером, лишь изредка командовал какими-то небольшими соединениями в мирное время, а в боевых операциях вообще никогда не участвовал. Зато он окончил бесконечное количество курсов и военно-учебных заведений, постоянно повышал свою квалификацию и поэтому медленно, но верно продвигался по служебной лестнице.
Восточный флигель Нюрнбергской тюрьмы, где содержались главные военные преступники
Комендант Дворца юстиции и Нюрнбергской тюрьмы полковник Бёртон Эндрюс
С 1 ноября 1940 года подполковник Эндрюс служил инструктором училища бронетанковых войск. Затем он занимался налаживанием сотрудничества между пехотой и авиацией, 6 июня 1942 года получил звание полковника, а 10 октября 1942 года был переведен в Кейвен-Пойнт (штат Нью-Джерси) начальником учебного лагеря. С 1 января 1943 года он служил на Бруклинской военной базе, но уже 8 января был переведен на должность исполнительного директора в учебный лагерь в Форте-Гамильтон (штат Нью-Йорк). 28 августа того же года он был назначен директором разведки отдела безопасности Нью-йоркского порта. Наконец, в конце января 1944 года Эндрюс был все же направлен в действующую армию: он был назначен командиром 10-й группы регулирования дорожного движения (Traffic Regulation Group; TRG). 26 декабря он был переведен в отдел G-3 (Оперативный) штаба Европейского театра военных действий на пост «военного наблюдателя» и на этом посту оставался до окончания войны в Европе. Таким образом, можно с уверенностью охарактеризовать полковника Эндрюса так: ничего собой не представлявшая штабная крыса, т. е. идеальный кандидат в тюремщики.
20 мая 1945 года произошло событие, как позже выяснилось, полностью изменившее жизнь полковника, благодаря которому он вошел в историю – он был назначен комендантом лагеря военнопленных № 32 «Ашкан»[6], расположенного в четырехзвездочном отеле в Мондорф-ле-Бен (Люксембург), куда свозили наиболее высокопоставленных нацистских военных преступников. 12 августа полковник организовал доставку 15 своих подопечных (из более 70 содержавшихся в «Ашкане» военнопленных подсудимыми МВТ стали восьмеро – Геринг, Риббентроп, Функ, Шахт, Кейтель, Йодль, Зейсс-Инкварт) на двух машинах скорой помощи в аэропорт Люксембурга, а оттуда на двух самолетах Douglas C-47 Skytrain в Нюрнберг. Эндрюс, как уже имевший опыт работы с ними, стал комендантом Нюрнбергской тюрьмы, а позже также и командиром 6850-го отряда внутренней безопасности (Internal Security Detachment; ISD) Армии США на Европейском ТВД (USFET). Теперь на него была возложена полная ответственность за безопасность, физическое и психическое состояние заключенных Нюрнбергской тюрьмы. Главное, что он был обязан обеспечить – они должны были быть в состоянии предстать перед Высоким судом.
«Упертый служака» до мозга костей, никогда не хватавший звезд с неба, но все же дослужившийся до полковника (и очень этим гордившийся), Эндрюс всегда позиционировал себя как приверженца строгой дисциплины, тем более когда под его началом оказались люди, занимавшие высшие посты в Германии, в т. ч. пятеро, носивших высшие воинские звания. Это был его звездный час: он – американский полковник, всегда в безупречно выглаженной форме, в лакированном подшлемнике, с обязательным стеком в руке – мог показать свое превосходство над людьми, решавшими когда-то судьбы сотен тысяч и миллионов человек. Теперь они зависели только от его воли. Он всегда делал вид, что объективен, но ненавидел своих подопечных – это была ненависть маленького человека перед личностями, пусть даже эти личности и были военными преступниками. Позже Карл Дёниц скажет, что ему снились кошмары, главным действующим лицом которых был полковник Эндрюс.
Полковник вдохновенно проводил многочисленные совещания с сотрудниками, стараясь регламентировать каждый шаг заключенных, довести режим их содержания до идеала. И конечно же, исключить возможность самоубийства. Показатель его компетентности: из 24 заключенных двое (т. е. более 8 %) покончили с собой – «смертный приговор» любому тюремщику. При этом он обладал неограниченными возможностями – как в финансах, так и с юридической точки зрения (ни о каких правах заключенных речь не шла). Например, Эндрюс настоял на том, чтобы заключенные спали, вытянув руки поверх одеяла, во время прогулок каждый день обыскивались камеры, в камерах для свиданий (и переговоров с адвокатами) были исключены личные контакты, он решал, кто с кем будет сидеть за обеденным столом, когда гулять и т. д.
Осенью 1946 года из-за болезни жены Эндрюс подал рапорт о переводе в США и 31 октября был официально зачислен в штаб военного округа в Вашингтоне. В 1948 году он окончил Школу стратегической разведки и был переведен на военно-дипломатическую службу. В 1948–1949 годах он занимал пост военного атташе в Израиле, в 1949–1952 годах – в Бразилии. На этом поприще он никак себя не проявил, и наверху сочли за благо отправить бывшего тюремщика и никакого генштабиста/разведчика 30 апреля 1952 года в отставку. На «заслуженном отдыхе» Эндрюс жил в Такоме (штат Вашингтон), получил степень бакалавра искусств в области делового администрирования и даже стал профессором местного частного Университета Пьюджет-Саунда. В 1969 году он опубликовал книгу воспоминаний I was the Nuremberg Jailer («Я был нюрнбергским тюремщиком»), а в следующем – The Infamous of Nuremberg («Печально известный Нюрнберг»). Бёртон К. Эндрюс умер от рака 1 февраля 1977 года, как написала New York Times 3 февраля того же года «в армейском медицинском центре Мэдигана. Ему было 84 года… В последние годы полковник Эндрюс вел безуспешную кампанию за освобождение Рудольфа Гесса, последнего оставшегося заключенного тюрьмы Шпандау».
На многочисленных фотографиях можно видеть солдат всех четырех стран-победительниц у входа во Дворец юстиции. Однако это лишь почетные караулы – как-никак трибунал был международным, а четыре флага над входом и союзные контингенты должны были это подчеркивать. Все обеспечение (в т. ч. питанием, жильем и транспортом) персонала, участвовавшего в организации бесперебойной работы процесса и тюрьмы, а также журналистов, было возложено на военные власти, т. е. на штаб 3-й армии генерал-лейтенанта Люсиана Траскотта. В распоряжение Эндрюса для охраны тюрьмы и Дворца юстиции (поскольку он отвечал за весь судебно-тюремный комплекс)[7] первоначально была выделена недоукомплектованная рота 1-го батальона 26-го пехотного полка 1-й пехотной дивизии, к которой после начала собственно слушаний присоединились солдаты из состава 802-й и 821-й рот военной полиции все той же 1-й пехотной дивизии. Людей катастрофически не хватало – на попечении Эндрюса было 250 заключенных, а также немецкие военнопленные, которые выполняли работы по ремонту и содержанию комплекса. Полковник постоянно обивал пороги командования, и в конце концов ему был выделен дополнительный контингент из состава 3-го батальона 26-го пехотного полка, одновременно в штаб Эндрюса был зачислен и командир этого батальона полковник Джон Т. Корли. Принципиальные переформирования охраны Нюрнбергского судебно-тюремного комплекса произошли в апреле 1946 года, когда личный состав был заменен чинами приданного 26-му полку 793-го батальон военной полиции[8]: роты А и В занимались патрулированием города, а рота С охраняла Дворец юстиции. 793-й батальон послужил основой для 6850-го отряда внутренней охраны, в который кроме военных полицейских входили также капелланы, юристы, врачи (за физическое здоровье заключенных отвечал доктор Людвиг Пфлюкер), дантисты, психиатры (Дуглас Келли, Густав Гилберт[9], Уильям Данн), водопроводчики, плотники, каменщики, электрики и т. д.[10]
Американская охрана перед Дворцом юстиции в Нюрнберге
Охрана здания была чрезвычайно строгой, причем оцепление охватывало не только собственно дворец и тюрьму, но еще и 10 кварталов вокруг них. Внешняя охрана (солдаты, кстати, носили стандартные зеленые каски Армии США с белой маркировкой MP) была вооружена пистолетами-пулеметами Томпсона, в ее распоряжении были стоящие на улицах и у входа во дворец джипы, бронетранспортеры и три танка «Шерман»: американские власти на полном серьезе опасались, что какая-нибудь группа нацистов предпримет попытку освобождения заключенных. Американское бюро пропусков выдавало пропуска журналистам, гостям и т. д.; всего за 10 месяцев работы трибунала было выдано 60 тысяч пропусков, как сообщает Иосиф Гофман, телохранитель главы советского обвинения Романа Руденко, в своей книге «Нюрнберг предостерегает».
Подсудимые МВТ содержались на 1-м этаже восточного флигеля, главный коридор имел длину 60 метров, с каждой стороны располагалось по 16 камер, для перехода из одного коридора в другой охранники имели при себе пропуска разного цвета. На 2-м уровне размещались высокопоставленные офицеры СС и другие военные преступники.
Внутри тюрьмы после самоубийства Роберта Лея полковник Эндрюс ввел круглосуточные дежурства у камер обвиняемых, чтобы держать их под постоянным наблюдением, – военные полицейские дежурили у камер посменно, меняясь каждые два часа (также они находились на службе три дня, а затем следовали три дня отдыха). На дежурстве у охраны не было оружия, только деревянные дубинки. Охранники наблюдали за подопечными через закрывавшиеся люками 45-сантиметровые прямоугольные окошки в дверях камер, вделанные в тяжелые дубовые двери; по инструкции, разработанной Эндрюсом, охранник должен был заглядывать в окошко каждые 30 секунд – причем как днем, так и ночью, если было темно, на каждую кровать направлялась специальная лампа, при том что поворачиваться лицом к стене заключенным было запрещено, они, как мы уже писали, должны были спать на спине, держа руки на виду, поверх одеяла. Как вспоминал один из членов американской охраны Майкл Престианни, «охранникам по большей части не разрешалось разговаривать друг с другом или с заключенными во время службы. За заключенными было необходимо пристально следить. Охранники время от времени в отношении непопулярных и неприятных заключенных стучали в двери камер по ночам дубинками, чтобы не дать им спать. Вообще это не разрешалось, но иногда мы так делали»[11].
Полковник Эндрюс вспоминал: «Мы изъяли у заключенных все средства, убрали от них вообще все предметы, которыми, как считали, они могли лишить себя жизни или использовать для нападения. Из окон были вынуты стекла. Им было запрещено носить ремни и шнурки. На ночь у них забирали очки, чернильные ручки, часы со стеклами – вообще все, чем они могли причинить себе вред. Они находились под постоянным надзором, и все время, пока пребывали в камерах, за ними непрерывно наблюдали. Когда они уходили в зал суда, их камеры тщательно обыскивались. Еду им приносили люди, которые сами были заключенными в этой тюрьме и не имели контактов с внешним миром, за исключением почты, которая просматривалась. На суд они отправлялись в сопровождении охранников. Им не разрешалось разговаривать друг с другом, и они могли общаться только с моим тюремным персоналом, доктором, дантистом и капелланом. Их одежда выдавалась им на суд после того, как они проходили проверку. Их камеры периодически осматривались, кроме этого, время от времени производились неожиданные обыски, когда проверялись и камеры и заключенные сразу. Их тщательно осматривали, когда они мылись, что происходило дважды в неделю. Несколько раз обнаруживались предметы, которые считались запрещенными, – куски стекла, гвозди, проволока, веревка. Я всегда считал, что этих обысков достаточно и никто не сможет утаить ничего, что дало бы ему возможность покончить с жизнью»[12].
Внутреннее помещение восточного флигеля Нюрнбергской тюрьмы во время процесса МВТ
Перед заседаниями трибунала и после них военные полицейские сопровождали обвиняемых в зал и обратно, а также занимали посты в самом Зале № 600 позади и сбоку от скамьи подсудимых: 10 караульных при одном офицере, все в белых подшлемниках с литерами МР[13], белых ремнях и с белыми дубинками. Посты в зале суда для солдат были довольно утомительным занятием, поскольку они должны были стоять практически по стойке смирно. Только полковник Эндрюс[14] и командир подразделения военной полиции могли носить огнестрельное оружие, остальным в зале суда его иметь было запрещено.
Одиночная камера каждого заключенного имела размеры 4×2 метра (площадь – 8 м2) и была оборудована простой кроватью у одной из стен, прилегающей к двери, примитивным открытым (без дверки) туалетом, деревянным столом, на котором можно было держать несколько семейных фотографий, бумагу, туалетные принадлежности (если заключенный хотел воспользоваться карандашом, расческой или очками, он мог это сделать только в присутствии надзирателя) и другие личные вещи, а также стулом. По распорядку дня тюрьмы уборку камер должны были выполнять сами заключенные. Геринга это так возмутило, что у него произошел приступ, после чего по состоянию здоровья он был освобожден от уборки камеры. Заключенные имели право написать и получить одно письмо в неделю; получение посылок было запрещено, однако при свидании родственники могли через надзирателя передать разную мелочь.
Одиночная камера Нюрнбергской тюрьмы в 1946 году
Через окошки в дверях камер заключенным передавались алюминиевые подносы с едой, которая готовилась на кухне, укомплектованной американским персоналом. Все заключенные питались по единому немецкому меню. При раздаче еды двери не открывались; она доставлялась по графику каждый день на двухъярусных тележках на колесиках немецкими заключенными из других отделений тюрьмы. Завтрак был в 7.00, в полдень сидельцы получали воду или кофе. (В перерыве между заседаниями трибунала подсудимых не уводили обратно в камеры, и они обедали все вместе в специально отведенном для этого помещении.) В августе – октябре 1945 года специально выделенный цирюльник брил заключенных через день, но после начала судебных заседаний – каждый день, чтобы заключенные выглядели опрятными. Мылись заключенные дважды в неделю, для чего была оборудована душевая в тюремном подвале. Ежедневно перед обедом заключенным была положена получасовая прогулка в тюремном дворике (40×30 метров), по правилам они не должны были приближаться друг к другу ближе чем на 10 метров, однако за этим особо не следили и им удавалось даже пообщаться.
После окончания «Большого» и «последующих процессов» в 1949 году американцы начали свертывать свою деятельность в судебно-тюремном комплексе: заключенных отправили отбывать наказание в Ландсберг-на-Лехе. Этот процесс занял три года, и в 1952 году они передали Нюрнбергскую тюрьму немецким властям. Ныне она входит в состав Пенитенциарного учреждения Нюрнберга (Justizvollzugsanstalt Nürnberg; JVN), которое сегодня является вторым по величине исправительным учреждением в Баварии и рассчитано на 1153 заключенных: 421 – в следственном изоляторе, 525 – в мужском отделении, 63 – в женском, 45 – для несовершеннолетних, находящихся под следствием[15].
Сама тюрьма камерного типа к настоящему времени практически не сохранилась. В 1980–1986 годах была проведена большая перестройка всего комплекса, в ходе которой были снесены восточный, северо-восточный и северо-западный флигели, еще раньше сломали спортзал. Таким образом, ни тюрьмы, где содержались военные преступники, ни места их казни ныне не существует. До наших дней дошли только центральный зал, западный и церковный флигели. Западный флигель – последний из тех, что существовали в дни процесса, и внутри выглядит так же, как и восточный, таким образом, по нему можно представить, что из себя представляла тюрьма, где содержались подсудимые, даже камеры и двери в них сохранились практически в первозданном виде[16]. С 1995 года этот флигель не используется для постоянного размещения заключенных, только время от времени для временного содержания. Бывшая тюремная церковь отдана под склад, хотя в ней еще остался небольшой орган. Вообще остатки тюрьмы в очень плохом состоянии, и, скорее всего, их скоро снесут, если вдруг кто-то не решит использовать их в качестве музея. Но надеяться на это не стоит.
Знак охраны Нюрнбергской тюрьмы
Белая каска (подшлемник) американской военной полиции, какие носили охранники, дежурившие в зале судебных заседаний
Строительство новых помещений JVN началось с 1970 года, и уже через два года следственный изолятор получил дополнительное здание. В 1980 году было возведено техническое здание со складами, кухней, прачечной и центральной котельной, в 1986–1998 годах – новое тюремное Е-образное здание (корпуса А – Е). В 1990 году возведено производственное здание с современными цехами, в 1998 году завершено центральное здание с многофункциональным залом и спортзалом.
Зал № 600
Знаменитый Зал № 600 на 1945 год был самым большим судебным залом в северной (франконской и пфальцской) части земли Бавария: его площадь 246 м2, высота потолка – 6,7 метра. Официально он именовался и именуется сегодня Залом суда присяжных (Schwurgerichtssaal), что не совсем точно и корректно: заседания с участием коллегии присяжных заседателей здесь проходили только до 1924 года, когда ее в Германии просто ликвидировали. В то же время им на смену пришли суды шеффенов, состоявшие из 3 профессиональных судей и 6 шеффенов-неспециалистов. Однако, поскольку шеффенов по инерции до сих пор называют присяжными, то и название сохранилось, и менять его после 1924 года никто не стал – тем более что само слово «присяжные» звучит более демократично, чем какие-то «шеффены».
Общий вид зала судебных заседаний № 600. Фото сделано со стороны балкона для публики
Зал № 600, как и все здание Дворца юстиции, оформлен в стиле позднего Неоренессанса, он был завершен в 1916 году и к 1945 году сохранил свой первозданный вид. Стены были обшиты деревянными панелями, потолок был профилированным кессонным, с него свисала огромная, наподобие театральной, хрустальная люстра. Первым обвиняемым, осужденным в этом зале, был 20-летний Иоганн Георг Лоос: 13 ноября 1916 года он был признан виновным в краже и грабеже (он украл у старушки буханку хлеба и курительный табак, а из дома фермера – некую драгоценность, обувь и 37 марок наличными) и приговорен к 28 месяцам тюремного заключения. За годы Веймарской республики в нем постоянно проходили различные судебные процессы, что интересно – в т. ч. и над нацистами, например, здесь судили и подсудимого «Большого Нюрнберга» Юлиуса Штрейхера, которого обвиняли в оскорблении обер-бургомистра Нюрнберга либерала Германа Люппе. А в 1925 году в этом зале в качестве свидетеля давал показания фюрер НСДАП Адольф Гитлер…
При бомбардировках во время войны зал не пострадал, здесь сразу после падения нацистов для американских солдат был открыт «Техасский бар» (Texas Bar), и когда Роберт Джексон прибыл осмотреть Дворец юстиции, он еще мог увидеть надпись на стене за столом для судей – «Сегодня пиво – ½ марки». При подготовке Нюрнбергского процесса доставленные из США американские специалисты провели его серьезную перестройку. Была ликвидирована задняя стена зала, поскольку было необходимо большое пространство для размещения мест для зрителей – все же процесс изначально задумывался как открытый. Были установлены дополнительные двери, освещение заменено на неоновые трубки для создания более комфортных условий для осуществления кино– и фотосъемки. «Первое, что бросается в глаза, – отсутствие дневного света: окна наглухо зашторены, – вспоминал А. И. Полторак. – А мне почему-то хотелось, чтобы этот зал заливали веселые солнечные лучи».
Судейский стол был установлен на возвышении вдоль четырех огромных окон, выходящих на Фюртерштрассе, и закрытых тяжелыми зелеными портьерами. За спинами членов МВТ были установлены флаги четырех держав-победительниц. Напротив судейского стола, вдоль противоположной стены, – скамья подсудимых, перед которой – места для адвокатов. Скамья подсудимых (вернее, четыре скамьи) была изготовлена американскими военными инженерами, и существует легенда, что на ней крайне неудобно долго сидеть. (Две скамьи выставлены в музее – на вид они реально неудобные.) Перед судейской трибуной – места секретарей, помощников, стенографисток и т. д. Слева от судей – столы обвинения. За ними места и балкон для гостей и журналистов.
Процесс обслуживался большим количеством синхронных переводчиков и стенографисток, которые менялись 25 минут (в конце каждого дня готовилась стенограмма на четырех языках). Каждое место радиофицировано, и следить за ходом процесса можно было на любом из четырех языков (английский, французский, русский, немецкий).
Процесс начался 20 ноября 1945 года, когда незадолго до 10 часов утра подсудимых начали выводить по трое из лифта и конвоировать на скамью подсудимых в Зале № 600 Нюрнбергского дворца юстиции.
Трибунал
1 – председатель и член Трибунала от Великобритании Джеффр и Лоуренс;
2 – член Трибунала от США Френсис Беверли Биддл;
3 – заместитель члена Трибунала от США Джон Джонстон Паркер;
4 – член Трибунала от Франции Анри Доннедьё де Вабр;
5 – заместитель члена Трибунала от Франции Робер Фалько;
6 – заместитель члена Трибунала от Великобритании Норман Биркетт;
7 – член Трибунала от СССР генерал-майор Иона Тимофеевич Никитченко;
8 – заместитель члена Трибунала от СССР подполковник юстиции Александр Федорович Волчков.
Обвинение
9 – обвинение о Франции;
10 – обвинение от СССР;
11 – обвинение от США;
12 – обвинение от Великобритании.
Обвиняемые
13 – Герман Геринг;
14 – Рудольф Гесс;
15 – Иоахим фон Риббентроп;
16 – Вильгельм Кейтель;
17 – Эрнст Кальтенбруннер;
18 – Альфред Розенберг;
19 – Ганс Франк;
20 – Вильгельм Фрик;
21 – Юлиус Штрейхер;
22 – Вальтер Функ;
23 – Ялмар Шахт;
24 – Карл Дёниц;
25 – Эрих Рэдер;
26 – Бальдур фон Ширах;
27 – Фриц Заукель;
28 – Альфред Йодль;
29 – Франц фон Папен;
30 – Артур Зейсс-Инкварт;
31 – Альберт Шпеер;
32 – барон Константин фон Нейрат;
33 – Ганс Фриче.
Другие
34 – немецкие защитники;
35 – переводчики-синхронисты;
36 – демонстрационный экран;
37 – место для дачи свидетельских показаний;
38 – маршал суда;
39 – секретари суда и др.;
40 – протоколисты и стенографисты;
41 – место для выступления представителей обвинения;
42 – лифт в тюрьму;
43 – Секретариат МВТ;
44 – чиновник, ответственный за запись фонограммы;
45 – чиновник, отвечавший за работу аппаратуры.
В 1961 году немецкие власти провели капитальный ремонт и восстановили внутреннее оформление зала, каким оно было в 1916 году: места для зрителей и неоновое освещение убрали, вернули заднюю стену. Таким образом, и по сей день мы можем увидеть совсем не тот зал, где проходил знаменитый процесс, а его предшественника. Да и то не полностью: были установлены потолочные прожекторы и хрустальные люстры, сиденья заменены на современные. Сегодня, как и было в 1916 году, на двух мраморных массивных дверных порталах для суда на бронзовых картушах изображены символы правосудия (весы и скрижали Десяти заповедей) и времени (песочные часы с крыльями и звездой). Главный мраморный портал зала посвящен падению Адама и Евы, как первому нарушению заповедей человеком и наказанию его Богом. Картуш, увенчанный фруктами, окружен юношами в одеждах, которые олицетворяют германское право (слева, меч) и римское право (справа, фации). Под ним – отрубленная голова Медузы Горгоны со змеиными волосами и искаженным от боли лицом; в древнегреческой мифологии она олицетворяла наказание. Под потолком зала над местом судьи закреплено современное бронзовое распятие (причем Иисус изображен не в терновом венце, а в царской короне) – креста, конечно же, в 1945-м не было и в помине.
Пустой Зал № 600. Реконструкция
Зал № 600 активно использовался по своему прямому назначению – для проведения судебных заседаний, и почти 65 лет никто особенно и не задумывался о том, что, возможно, он может быть интересен как мемориальный комплекс. Его посещения туристами начались только с 22 ноября 2010 года в рамках осмотра постоянной экспозиции Музея Нюрнбергского процесса, но только в дни когда суд не работал, и только с экскурсией (фотографировать было запрещено). Через семь лет, после завершения строительства нового зала судебных заседаний, Зал № 600 был передан в ведение Министерства финансов Баварии, которое планировало превращение его в музейное пространство. Тем не менее судебные заседания в нем проходили до февраля 2020 года – в четверг, 20-го числа, в 15.00 судья Барбара Рихтер-Цейнингер вынесла здесь последний приговор (мужчина, который попытался задушить свою жену, получил за умышленное нанесение телесных повреждений 2 года и 9 месяцев тюрьмы). С 1 марта того же года Зал № 600 для проведения судебных заседаний не используется и открыт для посетителей на постоянной основе. В принципе неоднократно заявлялось, что в Зале № 600 будет проведена реконструкция и он приведен к тому виду, какой имел во время Нюрнбергского процесса 1945–1946 годов, однако это пока что дело будущего.
А судьи кто?
Важнейшими действующими лицами процесса были, естественно, судьи, входившие в состав Трибунала. Каждая из четырех стран – США, Великобритания, Франция и СССР – получила одно место члена Трибунала и одно – заместителя члена. Члены Трибунала осуществляли собственно суд, а заместители должны были их заменить в случае непредвиденных обстоятельств – болезни, смерти и т. д. Заместители также принимали участие в процессе, чтобы если обстоятельства призовут их, то плавно войти в процесс, не вызывая задержек и всяческих проволочек. Итак, членами Трибунала были Джеффри Лоуренс (Великобритания), генерал-майор Иона Никитченко (СССР), Френсис Биддл (США), Анри Доннедьё де Вабр (Франция), заместителями членов – Норман Биркетт (Великобритания), Александр Волчков (СССР), Джон Паркер (США), Робер Фалько (Франция).
Члены и заместители членов Трибунала в Нюрнберге. Слева направо: Александр Волчков (СССР), Иона Никитченко (СССР), Уильям Биркетт (Великобритания), Джеффри Лоуренс (Великобритания), Френсис Биддл (США), Джон Паркер (США), Анри Доннедьё де Вабр (Франция), Робер Фалько (Франция)
Председателем был избран Лоуренс – отнюдь не потому, что он был выдающимся юристом, а скорее как компромиссная фигура: против него никто особо не возражал. СССР пришлось в данном случае согласиться, хотя изначально советская сторона настаивала, чтобы председательство было возложено на Никитченко. Американцы, почему-то считавшие себя инициаторами процесса, очень хотели провести на этот пост Биддла. Он уже видел себя в кресле председателя и даже привез с собой судейский молоток, подаренный самим Рузвельтом. Когда все-таки пришлось пойти на компромисс и выбрать Лоуренса, разочарованный Биддл все же нашел в себе силы вручить перед началом судебного заседания (20 ноября 1945 года) «исторический молоток» ему – но тот все равно скоро исчез.
Коротко остановимся на каждом из судей – все-таки интересны личности людей, которым четыре великие державы делегировали право судить руководителей другой, поверженной великой державы.
Члены трибунала
Джеффри ЛОУРЕНС (Lawrence) родился 2 октября 1880 года и происходил из валлийской семьи потомственных юристов родом из Билт-Уэллса – небольшого торгового городка в Брекнокшире, что в Среднем Уэльсе. Часто пишут, что он именно там и появился на свет, но это не верно – будущий председатель Нюрнбергского трибунала был уроженцем Лондона. Его отец – сэр Альфред Лоуренс – с апреля 1921-го по март 1922 года лордом – верховным судьей Англии и Уэльса и в 1921-м за заслуги получил титул 1-го барона Треветина; правда, Джеффри был младшим сыном и после смерти отца в августе 1936-го титул не наследовал и поэтому когда, говоря о периоде Нюрнбергского процесса, его называют лордом – это не дворянский титул, а уважительное обращение по занимаемой должности. Лоуренс учился в престижных Хейлибери (кстати, одновременно с ним там был и будущий премьер-министр Клемент Эттли, только в младшем классе) и Новом колледже в Оксфорде.
Председатель МВТ и член Трибунала от Великобритании Джеффри Лоуренс
В 1906 году Лоуренс был принят баристером в коллегию «Внутреннего замка» (Inner Temple), но вскоре перешел в коллегию сэра Роберта Финли и стал специализироваться на апелляционных делах, рассматривавшихся в судах высшей инстанции. Во многом его быстрой и успешной карьере способствовали связи отца и покровительство Финли, который довольно быстро стал во всем полагаться на Джеффри. После начала в 1914 году Первой мировой войны будущий председатель Трибунала уже 26 сентября был зачислен в артиллерию 2-й Восточно-английской бригады Территориальной армии в звании 2-го лейтенанта и вместе с ней отправился во Францию. Там он был ранен, получил звание майора и был в 1918 году награжден орденом «За выдающиеся заслуги» (DSO). После окончания войны он до 1937 года продолжал числиться в рядах Территориальной армии. Но самым большим увлечением Джеффри, как, впрочем, и его отца, были лошади, именно поэтому в 1922 году он стал поверенным элитного Жокей-клуба, а вскоре стал рикордером – городским мировым судьей с юрисдикцией по уголовным и гражданским делам – в Оксфорде. В 1927 году Лоуренс был включен в Королевский совет и стал генеральным атторнеем принца Уэльского (будущего короля Эдуарда VIII), а вскоре его еще и ввели в Совет герцогства Корнуолл – эти должности показывают, что Лоуренс был вхож в высшее общество и близок ко двору, что не могло не сказаться на успешной карьере. К этому времени он уже был женат: 22 декабря 1921 года он сочетался браком с Марджори Элис (1898–1984). Супруга во время войны получила орден Британской империи, а после войны была избрана членом магистрата.
В 1932 году 52-летний юрист был назначен судьей в Суд королевской скамьи и вскоре возведен в рыцарское достоинство. Но в целом он не был широко известным судьей и его имя никак не было связано с каким-либо громким процессом или судебным актом, но вот хорошие связи в Лейбористской партии он приобрел. В 1944 году Лоуренс стал лордом – апелляционным судьей (т. е. главой Апелляционного суда Великобритании). Его назначение в Нюрнберг во многом стало результатом того, что консерваторы во главе с Уинстоном Черчиллем в 1945 году вчистую проиграли выборы и 26 июня 1945 года премьер-министром стал лейборист и, главное, хороший друг Лоуренса – Клемент Эттли. Когда речь зашла о назначении члена Трибунала от Англии, премьер сразу же вспомнил о своем старшем школьном товарище, и Лоуренс отправился в Нюрнберг, где был избран председателем. Современники отмечали, что Лоуренс особыми талантами не блистал, но как юрист с многолетним стажем смог вполне достойно организовать ведение процесса.
После окончания процесса Лоуренс 13 января 1947 года был возведен в достоинство пэра и получил титул 1-го барона Окси из Окси в графстве Уилтшир (Baron Oaksey of Oaksey in the County of Wiltshite), а 25 июня 1959 года после смерти своего бездетного старшего брата Чарльза он стал еще и 3-м бароном Треветином из Бленгоуни в графстве Монмут (Baron Trevethin of Blaengawney in the County of Monmouth). Будучи наиболее опытным юристом среди членов Палаты лордов, Лоуренс играл там довольно видную роль, причем одновременно он оставался лордом – апелляционным судьей и членом Юридического комитета Тайного совета. В 1957 году бывший председатель Трибунала вышел в отставку и уехал в провинцию, где смог наконец всецело отдаться своей страсти к лошадям. Вообще любовь к конному спорту, переходившая у Лоуренсов из поколения в поколение, достигла апогея в сыне сэра Джеффри – он стал жокеем и затем известным спортивным журналистом. Умер барон Треветин и Окси 28 августа 1971 года.
Генерал-майор юстиции (это звание он получил 11 марта 1943 года) Иона Тимофеевич НИКИТЧЕНКО был довольно колоритной личностью – то, что Сталин выбрал на роль судьи именно его, было своеобразной иронией вождя. Ирония заключалась в том, что Иона Тимофеевич был одним из тех одиозных советских судей, которые превратили советскую судебную систему в фарс – он был ближайшим помощником печально известного Василия Ульриха по Военной коллегии Верховного суда Союза ССР. Никитченко входил в состав суда на процессе Каменева – Зиновьева в 1936 году – первом крупном политическом процессе над соратниками Сталина по партии. Затем председательствовал на многих сессиях коллегии, легко приговаривая по указанию сверху к смертной казни абсолютно невиновных людей. Надо заметить, что личность Никитченко была настолько одиозной, что его имя не попало в изданные после смерти Сталина советские энциклопедические издания – Большую советскую энциклопедию и Советскую историческую энциклопедию (как, впрочем, и Ульриха). Хотя, казалось бы, он был членом Трибунала, который советские юристы и историки всегда называли «живым памятником союзническому единству и уникальным явлением цивилизованного правосудия»[17]. Но все же его участие в Суде народов и большой вклад в осуждение нацистских преступников права на забвение его участия в репрессиях не давали. В 1956 году комиссия ЦК КПСС в своем докладе, среди прочего, отметила: «Бывший член Военной коллегии Верховного суда СССР Никитченко… возглавляя выездную сессию на Дальнем Востоке, не видя дел и обвиняемых, вынес по телеграфу 102 приговора. Тот же Никитченко, находясь на Дальнем Востоке, не только не вскрывал проводившуюся там органами НКВД массовую фальсификацию дел, но, наоборот, всячески потворствовал этой фальсификации и способствовал ее внедрению в работу аппарата НКВД».
Иона Никитченко родился 28 июня 1895 года в семье безземельного крестьянина (не-казака) хутора Тузлуков станицы Багаевской Черкасского округа области Войска Донского. В 1908 году поступил на работу на шахту в Донецке, но затем продолжил учебу – окончил Новочеркасское высшее начальное и Новочеркасское землемерное училища и даже поступил в Донской политех, но его он не окончил. Вскоре Никитченко стал интересоваться политикой и в сентябре 1916 года вступил в РСДРП(б) – т. е. он был большевиком с дореволюционным стажем: это было и почетно и показывало, что он смог прийтись ко двору Сталину, который без всяких сомнений отдавал приказы об уничтожении опасных для его режима «старых большевиков». В 1917 году в составе Красной гвардии (с ноября 1917-го по февраль 1918 года он возглавлял ее дружину в Новочеркасске) Никитченко участвовал в установлении советской власти в Новочеркасске, затем воевал в Гражданскую. Впрочем, в мае 1918-го он как проверенный коммунист отбыл в Саратов комиссаром жилищного отдела, а затем с декабря того же года возглавил подотдел информации и связи политотдела 4-й армии, с которой и принял участие в боях на Волге и Урале. В феврале 1920-го его отправили в Туркестан, в политуправление фронта, где в марте – мае он состоял секретарем Д. А. Фурманова, тогда уполномоченного Реввоенсовета Туркестанского фронта в Семиречье, а позже известного писателя. С этим связан тот факт биографии Никитченко, что он удостоился чести быть упомянутым в романе Фурманова «Мятеж», где речь шла о подавлении антисоветского Верненского восстания.
Заместитель члена Трибунала от СССР Александр Волчков и член Трибунала от СССР Иона Никитченко
В Туркестане началась и деятельность Никитченко как слуги правосудия. Сначала в мае все того же 1920 года он был назначен заместителем председателя Военного трибунала Семиреченской группы войск. В июле его откомандировали в Джаркент председателем отдела Военного трибунала фронта, но уже в сентябре он вернулся на старое место службы, теперь председателем трибунала. В марте 1922 года Никитченко стал членом коллегии, а в марте 1923-го – председателем Военного трибунала Туркестанского фронта. Следующим местом службы Никитченко стал Военный трибунал Московского военного округа, где он в 1924 году стал сначала членом коллегии, а затем в течение почти 10 лет (с 1 января 1926-го по 19 июня 1935 года) занимал пост председателя. В июне 1935-го на Никитченко было возложено исполнение обязанностей заместителя председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, а 17 января следующего года он получил звание диввоенюриста. В сентябре 1938 года Никитченко оставил службу в Военной коллегии и занял пост заместителя председателя Верховного суда СССР, в 1942–1949 годах он также возглавлял Военную железнодорожную коллегию Верховного суда.
Член Трибунала от СССР Иона Никитченко (сидит) и заместитель члена Трибунала от СССР Александр Волчков
В июне 1945 года Иона Тимофеевич был командирован в Лондон вместе с Ароном Трайниным в качестве полномочного советского представителя и руководителя делегации на конференции, где вырабатывались условия и порядок ведения Нюрнбергского процесса. После этого он вполне логично стал членом Трибунала. Его собственные слова: «Мы здесь рассматриваем вопрос о главных военных преступниках, которые уже осуждены и чей приговор уже объявлен в Москве и Крыме [Ялте] декларацией глав правительств [стран антигитлеровской коалиции]… Главная идея состоит в том, чтобы гарантировать быстрое и заслуженное наказание за преступления»[18]. Именно Никитченко отверг предложение французов о расстреле приговоренных и настоял на том, чтобы над ними была совершена казнь через повешение – этим еще раз сознательно были унижены военные, для которых подобная казнь была позором.
По окончании процесса Никитченко вернулся к обязанностям зампреда Верховного суда, но в июле 1949 года – как это обычно практиковалось в те годы – неожиданно для себя потерял свой пост, а в следующем месяце был назначен с явным понижением начальником Управления линейных судов военного транспорта Министерства юстиции СССР. В сентябре 1951-го в возрасте 56 лет – при том, что пенсионный возраст для мужчин в СССР был установлен в 60 лет – Иона Тимофеевич был отправлен на пенсию. За прошедшие после Нюрнбергского процесса годы Никитченко так и не получил очередного звания и остался генерал-майором. Собственно за участие в процессе он не получил никакой награды, только в июне 1949 года был награжден 2-м орденом Красного Знамени. Никитченко тихо скончался в Москве 22 апреля 1967 года и был похоронен на Введенском кладбище.
Наверно, одной из самых колоритных фигур в Трибунале был судья от США Френсис Беверли БИДДЛ (Biddl). Он родился 9 мая 1886 года в Париже. Самой судьбой ему было уготовано стать юристом – ведь он был четвертым сыном известного юриста Олджертона Биддла, профессора школы права Пенсильванского университета; семья была достаточно состоятельной и имела определенные связи – прапрадедом Биддла был Эдмунд Рэндольф (1753–1813), 7-й губернатор Вирджинии, 2-й государственный секретарь и 1-й генеральный атторней (министр юстиции) США. Вернувшись в США, Биддл окончил в 1909 году Гарвардский колледж, а в 1911 году – еще и Гарвардскую школу права со степенью бакалавра. В 1911 году он поступил секретарем к судье Верховного суда США Оливеру Холмсу-младшему, но в следующем году оставил госслужбу и открыл собственную адвокатскую практику в Филадельфии (ее он окончательно оставил лишь в 1938 году). Биддлу сопутствовал успех, и он сделал прекрасную карьеру, став авторитетным в США юристом и просто богатым человеком. В конце октября 1918 года его призвали в американскую армию и отправили в Центральную школу подготовки офицеров полевой артиллерии в Кэмп-Тэйлоре, штат Кентукки. Но война уже катилась к своему концу и участия в военных действиях принять ему не пришлось, а уже 30 ноября Биддл был отпущен восвояси.
Член Трибунала от США Френсис Биддл
После войны Биддл, который к тому времени вступил в Демократическую партию, стал привлекаться к исполнению различных поручений правительства. Например, в 1922–1926 годах он был специальным помощником прокурора США по Пенсильванскому району. Огромное значение для карьеры Биддла имел выигрыш президентских выборов Франклином Делано Рузвельтом в 1932 году. С новым президентом, также демократом, он был знаком по предыдущей политической деятельности. Уже в ноябре 1934 года Биддл возглавил Национальный совет по трудовым отношениям, а в 1938–1939 годах числился еще и главным советником Специального комитета Конгресса по расследованию злоупотреблений в Теннесси. Также с декабря 1938-го по апрель 1939 года Биддл был заместителем председателя Совета директоров Федерального резервного банка Филадельфии. 9 февраля 1939 года Рузвельт выдвинул кандидатуру Биддла на пост судьи Апелляционного суда 3-го округа США. С 22 января 1940-го по 25 августа 1941 года он занимал пост генерального солиситора США (т. е. заместителя министра юстиции США, защищающего интересы государства на судебных процессах).
Председатель и член Трибунала от Великобритании Джеффри Лоуренс, член Трибунала от США Френсис Биддл и заместитель члена Трибунала от США Джон Паркер
После начала войны Биддл, использовав Закон о шпионаже 1917 года, развернул активную борьбу с «вредоносными публикациями», проще говоря, развернул преследование левой прессы. В июне 1940 года Биддлу было поручено осуществление мер, предусмотренных Актом регистрации иностранцев (причем ранее сам он выступал против его принятия, но теперь активно принялся за работу). В обязанности Биддла входило контролировать интернирование граждан США японского и немецкого происхождения – надо подчеркнуть, что эти люди были изолированы от общества отнюдь не из-за своих прогерманских или прояпонских настроений, а лишь по факту своей национальности: налицо преследование по национальному признаку. Правда, Биддл добился, чтобы эти меры не были приняты к выходцам из Италии. Иногда это связывают с некоторой активностью мафии и заигрыванием с ней правительства, но доказательств подобных связей нет, хотя не является секретом, что во время войны американское правительство пошло на соглашение с мафией, чем обеспечило себе очень хорошие условия при высадке на Сицилии. Должность Биддла носила название – директор службы иммиграции и натурализации Департамента юстиции США. Позже Биддл указывал, что самому ему все это не нравилось, но он подчинился указаниям Рузвельта. Он писал в мемуарах: «С американскими гражданами японского происхождения обращались даже не как с иностранцами других вражеских национальностей – немцами и итальянцами – на выборочной основе, а как с неприкасаемыми, с группой, которой нельзя доверять и с которой нужно было грубо обращаться, только потому, что они были японского происхождения»[19].
26 августа 1941 года он получил назначение генеральным атторнеем США, т. е. встал во главе ведомства юстиции. Во время войны Биддл выступил с инициативой (и был поддержан Рузвельтом) создания Межведомственного комитета по расследованиям, которому было поручено проводить следственные меры по выяснению уровня лояльности граждан США. 26 июля 1945 года он был освобожден от должности атторнея (его сменил Томас Кларк) – формально он сам подал в отставку, хотя и по настойчивой просьбе нового президента Гарри Трумэна, который именно с него начал чистку администрации от ставленников Рузвельта. Поскольку Биддл строптивости не проявил, то он сохранил благосклонность властей и был включен в состав Международного военного трибунала. Если внимательно рассмотреть карьеру Биддла, то можно сделать вывод, что он абсолютно не подходил на пост судьи, скорее он был более подготовлен к посту обвинителя. Впрочем, в последние годы он вообще был больше политиком, чем юристом, а на процессе был чрезвычайно активен, возможно, был самым активным из судей…
После войны, в 1950–1953 годах, Биддл был председателем ассоциации «Американцы за демократию», а в 1964–1967 годах президентом Американского союза защиты гражданских свобод. В 1961–1962 годах Биддл выпустил два тома мемуаров: 1-й – A Casual Past («Случайное прошлое»), 2-й – In Brief Authority («Вкратце авторитетно»). Он умер от сердечного приступа 4 октября 1968 года в Уэллфлите, штат Массачусетс. Ему было 82 года.
Профессор уголовного права Парижского университета Феликс Огюст Анри ДОННЕДЬЁ де ВАБР (Donnedieu de Vabres) был, вероятно, наиболее хорошо профессионально подготовленным членом Трибунала, хотя и единственным, кто не имел никакого опыта участия в судебных процессах – он был скорее теоретиком, а не практиком. Хотя Франция оказалась явно на последних ролях среди основных стран-победительниц, его присутствие в составе суда резко повысило и без того высокий уровень профессионализма последнего. Кстати, Доннедьё был единственным членом Трибунала, который высказался за то, чтобы приговоренных к смерти военных не повесили, а расстреляли – все-таки французский судья посчитал, что какие бы преступления они ни совершили, к военным надо относиться с уважением. Правда, его мнение во внимание не приняли. Также он, например, протестовал против осуждения генерал-полковника Йодля, заявляя, что нельзя судить профессионального военного за исполнение его долга.
Член Трибунала от Франции Анри Доннедьё де Вабр
Он родился 8 июля 1880 года в окситанском городе Ним (департамент Гар) в благополучной буржуазной протестантской семье. Выбрав своей профессией юриспруденцию, Доннедьё окончил юридический факультет Университета Монпелье, в 1906 году получил докторскую степень, а к 1914 году читал курс гражданского судопроизводства в своей Alma Mater. После окончания Первой мировой войны получил кафедру уголовного права на юридическом факультете Парижского университета, которой руководил более 30 лет, был он также и директором Парижского института криминологии. Он был одним из известнейших и крупнейших не только французских, но и европейских специалистов по международному уголовному праву. Уже в 1928 году он выпустил ставшую широко известной книгу Les principes modernes du droit pénal international («Современные принципы международного уголовного права»). В своих выступлениях профессор последовательно отстаивал идею создания Международного уголовного суда, а в 1935 году даже встречался и обсуждал этот вопрос с главным нацистским юристом Гансом Франком – в Нюрнберге он будет сидеть на скамье подсудимых. 29 июля 1932 года Доннедьё стал кавалером ордена Почетного легиона. Перед войной он считался одним из ведущих юристов Франции, возглавлял различные юридические общества, был редактором юридических журналов, возглавлял комиссию по пересмотру Уголовно-процессуального кодекса.
Во время войны Доннедьё, как человек от политики далекий, сделал вид, что ничего не произошло и, признав де-факто власть правительства Виши, продолжил преподавание (в то же время он отказался от поста судьи, поскольку в этом случае ему пришлось бы приносить присягу правительству маршала Петена, а он этого делать не желал). А вот его сын – Жан – с самого начала был убежденным сторонником де Голля, в 1944–1946 году был чиновником особых поручений при правительстве Франции и имел большое влияние в правительственных кругах и, возможно, поспособствовал в будущем назначению папы на ответственный пост.
Уже после окончания процесса в мае 1947 года Доннедьё в качестве французского представителя в Комитете по международному праву Генеральной ассамблеи ООН, представил очень важный доклад о дальнейшем развитии международного права, по созданию «кодекса преступлений против мира и безопасности человечества» и по учреждению постоянного уголовного суда. Доклад был успешно погребен, в т. ч. и усилиями СССР. Также он выступал консультантом при составлении текста конвенции ООН «О предупреждении геноцида». В 1946–1947 годах он читал в Парижском институте криминологии и в Международной академии в Гааге курс лекций по Нюрнбергскому процессу. 14 августа 1947 года он был награжден офицерским крестом Почетного легиона. Также Доннедьё был президентом Международной ассоциации уголовного права (AIDP).
Доннедьё де Вабр скончался в Париже 14 февраля 1952 года.
Заместители членов трибунала
Заместитель члена Трибунала от Великобритании Уильям Норман БИРКЕТТ (Birkett) – обычно первое имя опускается, и он везде именуется только Норманом – родился 6 сентября 1883 года в Алверстоуне, в районе Саут-Лейкленд графства Кендел в Ланкашире. Его отец – Томас Биркетт – торговал тканями. Норман рано лишился матери – она скончалась в 1884 году от туберкулеза. Он посещал занятия в старшей начальной школе в Барроу-ин-Фернессе, но учился плохо и в 1898 году вообще забросил учебу и начал работать в одном из отцовских магазинов. Одновременно Норман начал свою карьеру методистского проповедника, последнее ему понравилось значительно больше, и в 1904-м он оставил работу и полностью сосредоточился на религиозной деятельности. В октябре 1907-го он поступил в элитный Эммануэль-колледж в Кембридже, где начал изучать историю и теологию, причем в год его окончания (1910) он стал президентом Кембриджского юнионистского общества. За время учебы Биркетт занимался тем, что оттачивал свое ораторское искусство, которое и стало его основной работой в будущем.
Заместитель члена Трибунала от Великобритании Норман Биркетт
Уже с 1911 года он начал работать в адвокатской конторе – ему прочили большое будущее. В конце концов он сдал – со второй попытки – необходимые экзамены и в июне 1913-го был принят в коллегию адвокатов и стал барристером – Bar at the Inner Temple – и в 1914 году начал свою адвокатскую карьеру в Бирмингеме. Первая мировая унесла жизни почти миллиона подданных Его Величества, но для Биркетта она стала стартом чрезвычайно успешной карьеры. Он мог не бояться конкуренции, поскольку множество молодых и значительно лучше, чем он, подготовленных юристов были призваны в армию, а у него нашли туберкулез и признали негодным к службе. Он быстро стал успешным и популярным адвокатом, от клиентов отбоя не было, но он всегда умел выкроить время, чтобы выступить с очередной проповедью в местной баптистской церкви. В 1920 году он перебрался в Лондон, где специализировался на уголовных делах. Широко известным он стал в 1924 году после выступления по делу полковника Деннистойна, а в 1934-м добился оправдания присяжными Тони Манчини по кличке Джек Нотир, которого обвиняли в двойном жестоком убийстве, – «его величайший триумф». Причем много лет спустя Манчини перед смертью неожиданно заявил, что он на самом деле совершил вменявшиеся ему в вину преступления – т. е. адвокат добился оправдания довольно крупного и опасного преступника, и хвала ему как профессионалу, но вот с точки зрения этики и морали его действия вызывают определенные сомнения и, как минимум, уважения к нему не прибавляют.
По своим политическим пристрастиям Биркетт принадлежал к либералам и в 1923–1924 годах недолго был членом Палаты общин от Восточного Ноттингема, успев, впрочем, добиться для себя должности королевского советника (что увеличило его доходы вдвое – до 8600 фунтов стерлингов, а в 1929-м – уже до 33 500 фунтов). Он вернул себе место в мае 1929 года и очень надеялся, что ему дадут пост генерального прокурора, но в октябре 1931-го либералы выборы проиграли вчистую (Биркетт в числе других свой мандат утратил, уступив консерватору Луису Глюкстейну), и вожделенная должность ему так и не досталась. В остальном Биркетт был вполне успешным: заядлый игрок в гольф, член гольф-клуба Харвуд-Даунс, примерный муж и отец двоих детей – девочки и мальчика (1923 и 1929 годов рождения). В мае 1937 года Биркетт был назначен председателем Межведомственного комитета по абортам с задачей «изучить распространенность абортов и связанный с этим закон, а также рассмотреть, какие шаги можно предпринять, чтобы закон применялся более эффективно» – это заняло у него два года.
После начала Второй мировой войны Биркетт был включен в состав Комитета при секретаре по внутренним делам по вопросам задержания подозреваемых во враждебной деятельности, работа эта не оплачивалась, но за нее Биркетт 6 июня 1941 года получил титул рыцаря-бакалавра и право именоваться сэром. Также с февраля 1940-го он вел по пятницам радиопередачи – с целью «поднятия морального духа народа». 11 ноября 1941 года его назначили судьей в Суд королевской скамьи (на этом посту он числился до октября 1950-го) – что в принципе было неплохим развитием карьеры (если не принимать во внимание слишком большие амбиции Биркетта).
Во время войны он несколько раз выступал на процессах и к моменту начала Нюрнбергского процесса был гораздо более известен, чем его коллега Лоуренс. Биркетт вообще-то надеялся, что это назначение будет дано ему – и первоначально его пригласили участвовать именно в качестве первого судьи, но его ждало разочарование. Еще больше разозлило Брикетта, что Лоуренсу после окончания процесса дали титул барона, а ему нет. Он впал в многомесячную депрессию, а когда в 1947-м ему пожаловали звание тайного советника, он устроил скандал и обратился в Тайный совет с жалобами на «несправедливость». Тем не менее после процесса его карьера шла по нарастающей: в 1946 году он стал председателем Суда Лондонского университета, 2 октября 1950 года – лордом – апелляционным судьей (при этом за два года до этого Биркетт вновь впал в серьезную депрессию, узнав, что на этот пост раньше его назначены сэр Альфред Томпсом Деннинг и сэр Джон Синглтон).
В 1957 году Биркетт вышел в отставку, а 31 января следующего года получил-таки наконец заветный титул лорда Объединенного королевства и стал 1-м бароном Биркеттом из Алверстоуна в графстве-палатинате Ланкастерском (Baron Birkett of Ulverston in the County of Lancaster), ему был пожалован герб с изображением ладьи викингов между двумя красными крыльями и девиз – Lex mea lux, или «Закон – мой свет». В том же году Кембриджский университет присвоил ему степень почетного доктора. Он умер 10 февраля 1962 года.
О заместителе члена Трибунала от СССР подполковнике юстиции Александре Федоровиче ВОЛЧКОВЕ долгие годы вообще ничего не писали, создавая впечатление, что его деятельность не заслуживает какого-либо внимания. К тому же он, как и Никитченко, никаких наград за свою деятельность в Нюрнберге не получил, хотя в отличие от своего старшего товарища Волчков все же через некоторое время после процесса был повышен в звании и завершил карьеру полковником юстиции. И это при том что Александр Федорович показал себя юристом высокой квалификации, а позже написал целый ряд очень серьезных и взвешенных статей по международному праву. Но факт остается фактом – один из важных участников самого известного процесса в истории человечества практически никому не известен.
Заместитель члена Трибунала от СССР подполковник юстиции Александр Федорович Волчков
Александр Федорович родился 10 августа 1902 года в деревне Пустынь Сергачского уезда Нижегородской губернии. С 1920-х годов служил в органах прокуратуры следователем и прокурором. В 1931 году переведен в Наркомат иностранных дел СССР, был сотрудником советского полпредства в Великобритании. Во время Великой Отечественной войны откомандирован в систему Наркомата юстиции СССР. Существует версия, что он получил назначение заместителем члена Трибунала потому, что был, во-первых, специалистом по международному праву, а во-вторых, поскольку свободно владел английским, – на самом деле подобные утверждения выглядят явной натяжкой.
По возвращении из Нюрнберга Волчков некоторое время работал в Министерстве юстиции, затем занимался преподавательской деятельностью, а в 1960–1970 годах возглавлял Инюрколлегию. Он скончался в 1978 году.
Заместитель члена Трибунала от США Джон Джонстон ПАРКЕР (Parker) родился 20 ноября 1885 года в окружном городке Монро в Северной Каролине. Паркер принадлежал к т. н. американской аристократии – среди своих предков он числил Уильяма Брэдфорда, одного из отцов-пилигримов, прибывших в Америку на знаменитом «Мэйфлауэре» и основавших в XVII веке Плимутскую колонию. В 1907 году он окончил Университет Северной Каролины в Чэпел-Хилле со степенью бакалавра искусств, в 1908-м – юридический факультет того же университета со степенью бакалавра права. С 1909 года он довольно успешно занимался собственной адвокатской практикой в родном Монро, а в 1922-м перебрался в Шарлотту (в той же Северной Каролине).
Заместитель члена Трибунала от США Джон Паркер
Паркер неоднократно пытался играть в большую политику: в 1910 году от выставил свою кандидатуру по 10-му округу в Палату представителей США (от республиканцев), в 1916-м – на пост генерального прокурора, в 1920 году – на пост губернатора родного штаба, но проиграл выборы. Вступив в Республиканскую партию, он в 1924 году стал делегатом от Северной Каролины в Республиканском Национальном конвенте и избран членом Национального комитета. 14 декабря 1925 года он оставил адвокатскую практику и был назначен членом Апелляционного суда 4-го округа США (этот пост он занимал более 30 лет – вплоть до своей кончины, а 1 сентября 1948 года стал главным судьей). В марте 1930-го президент Герберт Гувер попытался продвинуть Паркера на пост судьи Верховного суда США, где его кандидатуру забраковал Судебный комитет Сената: все попытки закончились неудачей – ему припомнили и слишком явную защиту интересов предпринимателей в суде, и негативные отзывы об участии афроамериканцев в политике («Участие негров в политике является источником зла и опасности для обеих рас»), которые от озвучил во время губернаторской кампании 1920 года…
Паркер заслужил славу очень опытного юриста – казалось бы, именно ему следовало отдать пост члена Трибунала. Но в отличие от своего «шефа» Биддла Паркер был не демократом, а республиканцем, поэтому пост члена Трибунала достался другу Рузвельта, хотя опыта у Паркера было значительно больше. По окончании процесса Паркер вернулся к исполнению своих обязанностей, а в 1954 году также вошел в состав Комиссии ООН по международному праву. Умер Паркер прямо на работе, в своем кабинете в здании Апелляционного суда в Вашингтоне 17 марта 1958 года, и был похоронен на кладбище Элмвуд в Шарлотте.
Заместитель члена Трибунала от Франции Пасифик Альфред Робер ФАЛЬКО (Falco) получил эту должность неспроста – он очень активно принимал участие в подготовке процесса. Он (вместе с Андре Гро) представлял Францию на Лондонской конференции по подготовке международного процесса (июнь 1945-го). Именно он был одним из главных авторов т. н. Лондонской хартии МВТ и внес огромный вклад в разработку устава Международного военного трибунала. Он как нельзя лучше подходил на роль члена Трибунала, но как всегда вмешалась политика…
Заместитель члена Трибунала от США Джон Паркер, член Трибунала от Франции Анри Доннедьё де Вабр, заместитель члена Трибунала от Франции Робер Фалько
Фалько был не просто представителем Франции в Нюрнбергском трибунале – фактически он единственный представлял на процессе нацию, которая стала объектом неприкрытого геноцида. Он происходил из еврейской семьи и был потомственным юристом – его отец, получивший орден Почетного легиона во время Франко-прусской войны, служил председателем Парижского коммерческого суда.
Он родился в 9-м округе Парижа 26 февраля 1882 года. Решив продолжить семейную традицию, Фалько получил юридическое образование (в 1907-м он также получил ученую степень доктора права) и в ноябре 1903 года открыл собственную адвокатскую практику, а в 1909-м стал секретарем ассоциации адвокатов Парижа. С августа 1914 года Фалько сражался в рядах французской армии, 27 июля 1917 года получил звание капитана и по окончании войны был демобилизован в феврале 1919-го. Затем он перешел на работу в суд, причем, даже будучи судьей, он вплоть до 1919 года выступал и в роли адвоката в суде. 15 октября 1921 года он стал кавалером Почетного легиона. В межвоенный период Фалько в феврале 1922-го перешел в прокуратуру в Рамбуйе, а в октябре 1923 года стал судьей. 2 октября 1937 года он был назначен судьей Апелляционного суда Парижа. С началом Второй мировой войны Фалько вновь зачислили на военную службу, впрочем, уже в феврале 1940-го он был демобилизован и уже после поражения Франции правительством Виши назначен членом Парижского кассационного суда. Несмотря на свое происхождение, свой пост он сохранил до 1944 года, когда был уволен немцами.
Фалько единственный из всего состава Трибунала все это время вел дневники, на основе которых написал мемуары. Впрочем, его довольно небольшие по объему заметки (174 страницы) увидели свет только более чем через полвека после его смерти: в сентябре 2012 года[20]. За заслуги перед родиной, проявленные во время Нюрнбергского процесса, Фалько 23 августа 1947 года был награжден офицерским крестом Почетного легиона, а через 5 лет – 23 июля 1952-го – стал коммандором Почетного легиона. В 1947 году Фалько был восстановлен в должности судьи Кассационного суда Франции. Он скончался в Париже 14 января 1960 года.
Завершая рассказ о персональном составе суда, обозначим сотрудников Генерального и прочих секретариатов. Их руководители никакой заметной роли в процессе не играли, а лишь занимались техническим обеспечением работы Трибунала, и останавливаться на их личностях не имеет никакого смысла. Тем не менее назвать всех поименно стоит.
Генеральные секретари: бригадный генерал Уильям Э. Митчелл (Mitchell; с 6 ноября 1945-го по 24 июня 1946 года) и полковник Джон И. Рей (Ray; с 24 июня 1946 года и до конца процесса).
Секретари делегации СССР: майор Аркадий Иосифович Полторак; В. Я. Коломацин (с февраля 1946 года).
Секретари делегации США: Гарольд Б. Вилли (Willey; с 6 ноября 1945-го по 16 июня 1946 года); Уолтер Гилкисон (Gilkyson; с 16 июня 1944 года).
Секретарь делегации Великобритании: Иен Д. МакИллуэйт (McIlwraith).
Секретарь делегации Франции: Арман Мартен-Арвар (Martin-Harvard).
Уполномоченные, назначенные Трибуналом для заслушивания доказательств преступной деятельности организаций: подполковник Эйри М. Ш. Нив (Neave; Великобритания; главный уполномоченный); капитан Джозеф Ф. Табрайд (Tubridy; США); Джордж Р. Тейлор (Taylor; США); Иен Д. МакИллуэйт (McIlwraith); И. В. Разумов; Арман Мартен-Арвар (Martin-Harvard).
Обвинение
Обвинение на процессе было наиболее многочисленной группой – такого, пожалуй, не было в истории: не только до, но, возможно, и позже. Кроме руководителей «делегаций» от четырех стран – главных обвинителей, – были еще и заместители главного обвинителя и его помощники, а еще – сонм сотрудников, занимавшихся обеспечением работы обвинения и подготовкой документации для процесса. И при этом аппарат американской делегации по численности превышал все остальные, вместе взятые.
Конечно же, в этом разделе мы не будем подробно останавливаться на всех этих личностях – их значение совсем не одинаково, – но о главных обвинителях и некоторых членах их «аппарата» мы все же поговорим. Тем более что именно обвинение было главным действующим лицом процесса – и по активности, и по количеству прав, и хотя бы по тому факту, что именно обвинение де-юре считалось представителями стран-победительниц. И здесь можно заметить, что обвинителю сложно поставить в вину необъективность – он априори необъективен, его задача доказать суду вину обвиняемого. Правда, оставаясь в рамках закона и не идя на какие-то договоренности с судом в ущерб защите, – но это уже вопрос принципиальности и честности каждого конкретного человека. В целом обвинение блестяще воспользовалось возможностями, которые ему предоставил Устав Нюрнбергского процесса, и теми колоссальными ресурсами, что были переданы в их руки их правительствами. Именно его деятельности мы обязаны тем, что уже в 1945–1946 годах мировая общественность получила возможность ознакомиться с колоссальным объемом документов и реально представить себе – что, собственно, представлял собой национал-социалистический режим, ввергнувший Европу и весь мир в самую кровопролитную войну в их истории. Никогда ранее подобного не было. И, к сожалению, никогда позже этот опыт не был востребован…
Обвинение от Союза Советских Социалистических Республик
Главный обвинитель: государственный советник юстиции 2-го класса Р. А. Руденко.
Заместитель главного обвинителя: полковник юстиции Ю. В. Покровский.
Помощники главного обвинителя: государственный советник юстиции 3-го класса Н. Д. Зоря, полковник юстиции Д. С. Карев, государственный советник юстиции 2-го класса М. Ю. Рагинский, старший советник юстиции Л. Н. Смирнов, государственный советник юстиции 2-го класса Л. Р. Шейнин.
Следственная часть: государственный советник юстиции 3-го класса Г. Н. Александров; полковник юстиции С. Я. Розенблит; старший советник юстиции Н. А. Орлов; подполковник юстиции С. К. Пирадов.
В отличие от генерал-майора Никитченко, имя главного обвинителя Романа Андреевича РУДЕНКО в историю СССР вошло прочно и надолго – его биография помещена во всех энциклопедиях еще советского периода. Правда, лишь значительно позже на первый план начала выходить его деятельность во время Нюрнбергского процесса, а сначала наиболее важными его заслугами считались те, что отнюдь не были связаны с процессом.
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко
Роман Андреевич родился 25 июля (по старому стилю) 1907 года в селе Носовка Нежинского уезда Черниговской губернии в семье казака. Возможно, он имел украинские корни, но точных данных об этом нет, разве что его фамилия, но это не показатель. Образование в первый период развития государства диктатуры пролетариата имело не слишком большое значение, главное было «правильное» социальное происхождение, а Руденко после окончания школы с 1922 года работал батраком, пастухом, а с 1924-го – чернорабочим Носовского сахарного завода, т. е. вполне себе пролетарий и гегемон. В декабре 1925 года он перешел на освобожденную комсомольскую работу и стал членом Носовского райкома ЛКСМ Украины и заведующим культурно-пропагандистским отделом райкома. В декабре следующего года вступил в ВКП(б). Он постепенно продвигался по партийно-административной линии, работал инспектором и заведующим культурно-пропагандистским отделом Носовского райисполкома, а с 1928 года – инспектором Нежинской окружной рабоче-крестьянской инспекции.
Хорошо зарекомендовавшего себя, безупречного с партийной точки зрения, смекалистого выходца из крестьян (именно так Руденко себя позиционировал, поскольку принадлежность к казачеству особо не приветствовалась) в 1929 году решением Черниговского окружкома ВКП(б) направили «на укрепление» в органы прокуратуры. Это была случайность, с таким же успехом он мог быть откомандирован в органы госбезопасности и тогда вряд ли дожил хотя бы до начала войны. То, что на тот момент Руденко никакого отношения к юриспруденции не имел особой роли не играло, хотя, возможно, в назначении был учтен тот факт, что он пару раз выступал общественным обвинителем в суде. Впрочем, с точки зрения советского госстроительства значительно более важную роль играло «классовое чутье». В данном случае, надо сказать, подобный опыт оказался удачным: Руденко со временем стал действительно блестящим юристом, оказавшим огромное влияние на развитие всего советского права и всей системы прокурорского надзора в СССР…
При большевиках прокуратура всегда была в загоне: надзирать было не за кем, а надо было лишь визировать решения «карающего меча революции» – органов внутренних дел и госбезопасности. «Если враг не сдается – его уничтожают» – эти слова Максима Горького стали девизом правоохранительных органов (хотя это довольно цинично звучит – органы, охраняющие право в бесправном государстве). Его карьера в прокуратуре складывалась вполне прилично: старший следователь Нежинской окружной прокуратуры, помощник Черниговского окружного прокурора, с октября 1930-го прокурор Бериславского района (Николаевской области), с 1931-го помощник прокурора Мариуполя, с декабря 1932-го старший помощник Сталинского областного прокурора.
С октября 1933 года он был прокурором города Макеевки, затем стал заместителем прокурора Сталинской области (так тогда именовалась нынешняя Донецкая). В октябре 1937 года, после того как «погорел» прокурор Сталинской области Владимир Александрович Кумпекевич, бывший его заместителем Руденко занял руководящий пост. Ему было всего 30 лет. Он возглавлял областную прокуратуру практически все годы Большого террора. Мог ли Руденко оказаться непричастным к преступлениям сталинского режима? Вопрос риторический. Прокурор по идее должен был обеспечивать соблюдение законности – он этого, естественно, в своей области не обеспечил. Тем более что вместе с руководителем местного НКВД и первым секретарем обкома партии прокурор входил в состав тройки, которая выносила смертные (и не только) приговоры, причем без каких-либо серьезных разбирательств. По разным подсчетам, эта тройка вынесла более 10 тысяч приговоров. За каждого «необоснованно репрессированного» в Донецкой/Сталинской области в 1938–1940 годах Роман Андреевич несет личную ответственность. Он был тем прокурором, который всегда подчинялся «решениям партии» и никогда не выступал против. Впрочем, это ни в коей мере не умаляет – как многим бы хотелось – его заслуг в разоблачении преступлений нацизма.
В 1940 году попал под удар и Руденко. Процитируем А. Г. Звягинцева, который первым открыл для нас этот эпизод его карьеры: «Проведенная в 1940 г. проверка выполнения Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 ноября 1938 г. о перестройке работы по надзору за органами НКВД установила, что прокурор Сталинской области этого постановления не выполнил. Например, спецотдел прокуратуры оказался неукомплектованным – вместо пяти человек по штату работали только двое. Также на день проверки в спецотделе прокуратуры имелось 3603 жалобы, из них 1839 жалоб лежали по существу не разрешенными с 1939 г. Отдельные жалобы волокитились с 1938 г. Истребованные еще в январе 1940 г. из УНКВД 305 дел были не рассмотрены»[21]. По результатам проверки Управление кадров ЦК ВКП(б) рекомендовало вынести Руденко строгий выговор по партийной линии и освободить от занимаемой должности, каковые решения и состоялись в августе 1940-го.
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко
Тем не менее Руденко очень повезло: во-первых, время Большого террора уже прошло и наступила «бериевская оттепель» – уже не так активно сажали и стреляли, даже некоторых выпустили. Во-вторых, просчеты молодого прокурора лежали в области деятельности профессиональной, а как к коммунисту больших претензий не было – выговора вполне достаточно. В общем, продолжения не последовало, и был использован стандартный для этого (и, кстати, также и послевоенного) периода ход: крупного функционера направили на учебу – в сентябре бывший областной прокурор был зачислен в экстернат Московской юридической школы Наркомата юстиции РСФСР и на Высшие юридические курсы при Всесоюзной правовой академии. Формально в карьере наступил перерыв, но реально – человек, собиравшийся делать и дальше карьеру в прокуратуре, наконец-то получал пусть несколько нестандартное, но все же высшее юридическое образование. Учитывая крайне низкий образовательный уровень работников советской прокуратуры, это обещало определенные перспективы в дальнейшей службе. Можно констатировать: Руденко оказался в подвешенном состоянии, с ним дальше могло произойти что угодно – или новый взлет или окончательное падение.
Надежды на первое были больше – все-таки можно было рассчитывать на поддержку 1-го секретаря ЦК КП Украины Никиты Хрущёва, который всегда отмечал и выделял молодого и перспективного сталинского прокурора. Тем более в учебе Руденко показал себя прекрасным и сметливым специалистом и буквально в первые дни войны блестяще окончил оба учебных заведения, стал полностью профессиональным юристом. Война ускорила принятие решения, причем в самом благоприятном ключе: через четыре дня после начала вторжения германских войск – 26 июня 1941 года – Руденко возглавил отдел Прокуратуры СССР по надзору за органами милиции. Заметим, что сам Роман Андреевич был от подобного назначения не в восторге, он писал рапорты с просьбой направить его на фронт, в органы военной прокуратуры…
12 марта 1942 года Руденко вернулся на Украину – он стал заместителем прокурора УССР по общим вопросам. Ну как вернулся: к тому времени располагавшаяся в Ворошиловграде украинская прокуратура насчитывала на круг 23 человека, а практически вся территория советской республики находилась под немцами. Они же сохраняли за собой инициативу на фронте. Ровно через год после начала Великой Отечественной – 22 июля 1942 года – после захвата города Свердловска Ворошиловградской области[22] немцы окончательно оккупировали всю территорию Украинской ССР, а в августе того же года Руденко был назначен и. о. прокурора республики (в должности его утвердили в июне 1944-го) и одновременно руководителем оперативной группы по восстановлению правопорядка на будущих освобожденных территориях УССР. На какой-то момент Руденко оказался прокурором без прокуратуры, у него не осталось местных органов, в то же время ему предстояло быть готовым в любой момент приступить к своим обязанностям– то, что освобождение украинских земель начнется, никто не сомневался. В декабре 1942 года, в ходе операции по окружению немецкой группировки в районе Сталинграда, советские войска освободили первые украинские села и города в Восточном Донбассе, а с января 1943-го начались бои за освобождение Украинской ССР – они продлятся до 28 октября 1944 года… В августе 1943 года группа прокуратуры прибыла в Харьков, а 6 ноября – в столицу Советской Украины, город Киев.
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко
Теперь у прокуратуры было непочатый край работы: нужно было и воссоздавать полностью уничтоженную внутреннюю структуру прокурорского надзора, и налаживать хоть какую-то работу по следствию и нормальному функционированию судебной системы. И конечно же, надо было работать над очисткой украинского общества от нелояльного советской власти населения. Естественно, главную роль играло НКВД, но и прокуратура не оставалась в стороне – все же для решения суда была необходима подпись прокурора. Кроме открытых, убежденных и жестоких врагов советской власти – всех этих бандеровцев, мельниковцев и прочей нечисти ОУН-УПА – под репрессии на Украине попали и «лица, сотрудничавшие с оккупантами» (очень расширительное понятие), а также члены семей осужденных и просто люди, оказавшиеся под оккупацией. Во все эти мероприятия свой большой вклад внес и Роман Андреевич, как, впрочем, и любой сотрудник прокуратуры этого периода.
В 1945 году Руденко получил и столь необходимый опыт участия в крупном политическом публичном процессе: он выступил заместителем главного обвинителя на процессе над лидерами Польского движения сопротивления (Армии Крайовой), проходившем в Москве 18–21 июня. Перед судом предстали 16 человек, в т. ч. главнокомандующий Армии Крайовой Леопольд Окулицкий и заместитель премьер-министра в представительстве польского эмигрантского правительства Станислав Янковский, а также все руководство Совета национального единства. На процессе Руденко показал себя не только знающим и опытным юристом, но умелым оратором – утверждать нельзя, но вполне возможно, что этот его опыт сыграл свою роль при решении о его назначении в Нюрнберг… Расстрельных приговоров не было – только тюремные сроки: Окулицкий получил 10 лет, Янковский – 8 (правда, оба срока для них стали пожизненными – они умерли в заключении). Впрочем, процесс носил ярко выраженную политическую окраску и к правосудию имел лишь очень относительное отношение[23].
Всемирная известность, полученная Руденко на Нюрнбергском процессе, казалось, никакой роли в его карьере на Родине не сыграла. После окончания процесса он вернулся на свою прежнюю должность на Украине, как и остальные, особых наград не получив. Решающее значение в судьбе Руденко, которое не только сохранило его имя в истории, но и дало нам сегодня возможность полностью и по достоинству оценить его работу в качестве главного обвинителя на Нюрнбергском процессе, имело знакомство с 1-м секретарем ЦК КП Украины Никитой Хрущёвым – а то бы, как Никитченко, канул бы он в Лету. Смерть И. В. Сталина привела к острейшей внутриполитической борьбе в сталинском Президиуме ЦК. При внешне благостном коллективном управлении на самом деле противостояние – где основными игроками стали всесильный министр внутренних дел Лаврентий Берия и новый 1-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв – было в буквальном смысле не на жизнь, а на смерть. Формально противостояние закончилось 26 июня, когда в кабинете Георгия Маленкова, где проходило заседание Президиума ЦК, маршал Георгий Жуков сотоварищи арестовал Лаврентия Павловича.
Понятно, что какие-либо правовые аспекты при внутрипартийной борьбе в условиях однопартийного государства во главе с КПСС никакого значения не имели, однако власть все же старалась сохранить видимость «социалистической законности». Но даже она дала сбой: сталинский генеральный прокурор, государственный советник юстиции 1-го класса Григорий Николаевич Сафонов, не понявший всей важности исторического момента, отказался подписать постановление об аресте Берии – тот, как депутат Верховного Совета СССР, по закону пользовался неприкосновенностью. Понятно, что генерального прокурора надо было срочно менять на человека, полностью лояльного 1-му секретарю. И первой кандидатурой был именно Роман Руденко, которого Хрущёв прекрасно знал лично – и, кстати, очень высоко ценил как профессионала – еще с довоенных лет. Тем более что Руденко был готов выполнить любое решение «партии и правительства». 29 июня состоялось его назначение на пост генерального прокурора СССР – он занимал этот пост до своей смерти: абсолютный рекорд для российских генеральных прокуроров, – а также получил классный чин действительного государственного советника юстиции.
Проверку лояльности Роман Андреевич прошел блестяще – он лично возглавил следственную группу по делу Берии и его соратников, а затем выступил обвинителем на процессе. Как бы ни относиться к Берии (Всеволоду Меркулову, Богдану Кобулову, Павлу Мешику, Владимиру Деканозову и другим упырям, оказавшимся на скамье подсудимых), можно с полным основанием утверждать: процесс был полностью фальсифицирован – хотя преступлений Берии и иже с ним хватило бы ни на один смертный приговор, то, за что его расстреляли – ему предъявляли обвинения в шпионаже в пользу Великобритании (!) и в стремлении к «ликвидации Советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановлению господства буржуазии», – это нонсенс. Но Руденко великолепно выполнил приказ партии, создав суду над Берией ореол законности и справедливости. (Здесь вспомнили и Нюрнберг: никаких сомнений о законности действий обвинения в том процессе никогда не возникало и не могло возникнуть.) В 19.50 23 декабря Роман Андреевич лично присутствовал (вместе с генералом армии Кириллов Москаленко) при исполнении генерал-полковником Павлом Батицким «приговора специального судебного присутствия по отношению к осужденному к высшей мере наказания – расстрелу Берия Лаврентию Павловичу».
На плечи Руденко Хрущёв взвалил неблагодарное дело проведения процессов в отношении бывших руководителей госбезопасности. В декабре 1954 года он был государственным обвинителем на Ленинградском процессе по делу бывшего министра госбезопасности генерал-полковника Виктора Абакумова и сотрудников следчасти МГБ СССР по особо важным делам. И хотя все подсудимые за свои преступления давно заслужили смертную казнь, и этот процесс тем не менее был полностью сфальсифицирован. Можно, например, отметить, что Абакумов был назван «приспешником Берии», хотя между ними очень давно пробежала черная кошка и именно Берия способствовал аресту бывшего начальника СМЕРШ, в котором видел своего конкурента, а Абакумов сделал все возможное, чтобы подставить Берию. Затем были Тбилисский процесс (сентябрь 1955 года) по делу бывших министров госбезопасности Грузии Авксентия Рапавы и Николая Рухадзе и других сотрудников республиканского МГБ, и Бакинский процесс (апрель 1956 года) по делу руководителей госбезопасности Кавказа и Закавказья, где главным действующим лицом стал давний соратник Берии Мир Джафар Багиров, который 20 лет занимал пост 1-го секретаря ЦК Компартии Азербайджана.
А затем начался совершенно другой этап в карьере Руденко, и именно здесь бывший главный обвинитель на Нюрнбергском процессе показал себя принципиальным высокопрофессиональным юристом, сторонником законности – пусть еще «социалистической», но все же законности. Именно он, человек, который с высокой трибуны на глазах всего мира говорил о чудовищных преступлениях национал-социалистов, занялся ликвидацией последствий большевистских экспериментов с судебной системой и прокурорским надзором. Руденко и возглавляемая им Генеральная прокуратура приняли активное участие в самом важном «мероприятии» оттепели – организации реабилитации т. н. необоснованно репрессированных. Заслуга Руденко в том, что он не выступил против, а стал – как всегда – четко исполнять решение партии. Хотя я более чем уверен, что процесс реабилитации, восстановления законности ему, юристу, был достаточно близок.
Он не был инициатором этой политики, но стал самым активным и последовательным ее реализатором. По его предложению и под его председательством 4 мая 1954 года была создана Центральная комиссия по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления – она должна была пересмотреть все дела на лиц, осужденных внесудебными органами (Коллегией ОГПУ, различными Особыми совещаниями, тройками и т. д., а также Военной коллегией Верховного суда СССР и военными трибуналами). Вместе с Георгием Жуковым и Константином Горшениным он выступил инициатором принятия Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 29 июня 1956 года «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей». Сам Роман Андреевич очень четко определил поставленные задачи: «Всем нам придется столкнуться с тем, что оценки некоторых событий и их участников, казавшиеся неизменными, нужно будет пересмотреть. Сделать это надо во имя истины, справедливости и правды истории».
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко на трибуне МВТ
Роман Руденко стал фактическим создателем той системы прокурорского надзора, с которой Советский Союз подошел к своему краху – во многом нашей современной системы. Он буквально положил жизнь на то, чтобы в рамках однопартийного государства наладить хоть какую-то системную работу прокуратуры, превратив ее из «верного исполнителя решений ленинской партии» в службу, стоящую на охране законности. Он самым активным образом участвовал в подготовке и принятии Постановления ЦК КПСС от 19 января 1955 года «О мерах по дальнейшему укреплению социалистической законности и усилению прокурорского надзора», Положения о прокурорском надзоре в СССР (24 мая 1955 года), Закона СССР «О прокуратуре СССР» (30 ноября 1979 года)… В 1956 году Руденко стал кандидатом в члены, а в 1961-м – членом ЦК КПСС. Конечно, член партийного ареопага даже в мыслях не подразумевал всю эту «буржуазную законность» и стоял на страже именно Советского государства. С его именем связаны первые преследования диссидентов – он уверенно и последовательно проводил политику партии.
Конечно, против столь популярного и своевольного (Руденко уже не боялся высказывать свое мнение) генерального прокурора время от времени начинали плести интриги: то вдруг на излете правления Хрущёва на него ополчился заведующий Отделом административных органов ЦК КПСС генерал-майор КГБ Николай Миронов, то Руденко пришлось вступить в противоборство с фаворитом Брежнева министром внутренних дел СССР генералом армии Николаем Щёлоковым, но в целом все завершилось для генерального прокурора благополучно, хотя и не без имиджевых потерь. Руденко пережил падение Хрущёва и сохранил свой пост при Леониде Брежневе, хотя к этому времени он был скорее памятником, мемориалом «советского правосудия». 25 мая 1972 года – к своему 65-летию – он стал Героем Социалистического Труда – за выдающиеся достижения в деле укрепления правопорядка, социалистической законности. Кроме этого, Руденко был кавалером пяти орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени и медалями, был почетным доктором юридических наук университета имени Гумбольдта (с 1960 года) и Карлова (Пражского) университета (с 1966 года).
Умер бывший главный обвинитель на Нюрнбергском процессе 23 января 1981 года в Москве в возрасте 73 лет. Прах Романа Андреевича был захоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, что вызывает некоторое недоумение: почему урна с прахом не была помещена в Кремлевскую стену?
У главного обвинителя от СССР был только один заместитель, и этот пост занимал полковник юстиции Юрий Владимирович ПОКРОВСКИЙ – ему было 43 года (он родился в 1902 году в Тифлисе), но в своих круглых очках он выглядел несколько старше своих лет. В Красную армию он вступил еще во время Гражданской войны, а после ее окончания оказался в органах военной прокуратуры. Там и прошла вся его служба, также он работал в прокуратуре на железнодорожном транспорте, который, в связи со спецификой работы, была военизирована. Во время Великой Отечественной войны Покровский, как и положено сотруднику военной прокуратуры, отбыл на фронт, он служил военным прокурором армии, помощником военного прокурора фронта, а после Победы был назначен начальником юридического отдела советской части Союзной контрольной комиссии в Австрии.
На Нюрнбергском процессе Покровскому было поручено выступить по разделам обвинения «Агрессия против Чехословакии, Польши и Югославии» и «Преступное попрание законов и обычаев войны об обращении с военнопленными», кроме того, он приял участие в допросах подсудимых и свидетелей – в частности, широко стал известен его допрос начальника соединения СС по борьбе с бандформированиями (как нацисты именовали партизан) обергруппенфюрера СС, генерала войск СС и полиции Эриха фон дем Баха.
После окончания процесса полковник юстиции Покровский вернулся на службу в военную прокуратуру на свой прежний пост в Союзнической комиссии в Австрии, где он оставался до 1950-го. За годы службы он был награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды (1950).
Особой карьеры, как и другие участники советского обвинения, при Сталине Юрий Покровский не сделал, а более позднее признание ему пережить уже не довелось – он скончался в 1953 году в Москве.
Первым в списке помощников главного обвинителя значился государственный советник юстиции 3-го класса Николай Дмитриевич ЗОРЯ – человек неординарный, прекрасный оратор, на процессе все отметили его великолепные выступления по разделам обвинения «Агрессия против СССР» и «Принудительный труд и насильственный угон в фашистское рабство». Кроме того, он показал себя крепким профессионалом, очень достойно проведя несколько публичных допросов свидетелей – в т. ч. блестящий допрос генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Его судьба – один из двух наиболее таинственных и спорных моментов истории периода Нюрнбергского процесса наряду с самоубийством Германа Геринга. И хотя существует официальная версия, но она то и дело подвергается сомнению.
Выступление помощника главного обвинителя от СССР Николая Зори
Николай Зоря родился в 1907 году и Киеве в семье «служащих». В автобиографии он писал, что отца своего не помнит. Однако семья была, как принято говорить, образованной, он изучал французский, рисовал, играл на фортепиано – все было хорошо, пока в 14 лет он не потерял мать. Какое-то время Николай беспризорничал, затем был определен в московский детский дом. В 1923–1927 годах он учился на юридическом отделении факультета общественных наук Московского государственного университета, причем параллельно с учебой с 1924-го преподавал политэкономию.
После получения высшего образования Зоря в 1927 году был направлен на работу в органы прокуратуры и начал с самых низов: народным следователем 8-го участка Терской окружной прокуратуры – в Пятигорске. В следующем году его повысили до старшего следователя окружной прокуратуры, а в 1929-м перевели на ту же должность в Тамбовскую окружную прокуратуру Центрально-Черноземного округа (ЦЧО). В 1930 году Николай Зоря вступил в ВКП(б), после чего его карьера быстро пошла в гору: с 1930-го помощник прокурора ЦЧО (в эти годы он работал в Воронеже), с 1933-го – прокурор Сталинабада, с 1934-го прокурор отдела, затем начальник отделения по спецотделам Главной транспортной прокуратуры, и. о. заместителя главного прокурора железнодорожного транспорта Прокуратуры СССР. В 1939 году над ним сгустились тучи (началась т. н. «бериевская чистка»), и он был вынужден уйти из прокуратуры и в августе 1939-го поступить рядовым в РККА. Впрочем, вскоре его перевели в военную прокуратуру и назначили помощником военного прокурора Московского военного округа, а затем он стал заместителем главного прокурора на железнодорожном транспорте.
После начала Великой Отечественной войны Николай Зоря в числе других сотрудников прокуратуры ушел на фронт: сначала служил помощником, затем заместителем прокурора фронта. Вскоре – уже в 1941 году – он получил самостоятельную должность военного прокурора 44-й армии. В 1942 году он – военный прокурор 1-й гвардейской, в 1943-м – 3-й армий. Он принял участие в Керченско-Феодосийской, Сталинградской, Орловско-Курской операциях, был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В августе 1944 года Зоря был отозван из действующей армии и назначен на очень важный пост советника по правовым вопросам заместителя наркома обороны СССР Николая Булганина, который возглавлял советское представительство при Польском комитете национального освобождения. Это самый сложный этап советско-польских отношений – как раз началось Варшавское восстание и все переговоры шли исключительно на нервах. У Зори произошел психологический срыв, и он даже был вынужден просить об отставке для восстановления здоровья.
В апреле 1945 года Николай Зоря был назначен на достаточно спокойный – если так вообще можно говорить о работе в прокуратуре в эти годы – пост старшего помощника прокурора СССР и начальника Отдела по надзору за органами милиции Прокуратуры СССР. В мае 1945 года он стал помощником прокурора СССР. В самом конце декабря 1945 года Николай Зоря был командирован в Нюрнберг. «Охватывает чувство радости, что сейчас я направляюсь выполнять такую почетную миссию, как обвинять от СССР гитлеровских преступников, имена которых вспоминают во всем мире с проклятием», – записал он в дневник.
23 мая 1946 года Николай Дмитриевич Зоря был найден мертвым в своей служебной квартире на Гюнтер-Мюллер-штрассе (т. е. дата смерти – накануне, 22 мая). В протоколе осмотра места происшествия говорилось: «Тело прикрыто до верхней четверти груди одеялом. […] В области правого виска входное отверстие пулевого ранения, с резко выраженным пороховым ожогом величиной 2,5 × 1,5 см. Выходное отверстие в левой половине затылка в 8 см от левого уха. […] Левая рука согнута в локте, и кисть левой руки находится на уровне лица (у правого глаза). Правая рука также согнута в локте, причем кисть правой руки лежит на груди. На одеяле (в области живота) лежит пистолет системы “Вальтер”, калибра 7,65 мм. Также на одеяле стреляная гильза от пистолета того же калибра. […] Подушка и простыня обильно смочены кровью. […] В кармане пиджака, висящего на спинке стула (у письменного стола), обнаружены две записки, изъятые и приобщенные к настоящему протоколу. Кроме того, во внутреннем кармане пиджака обнаружены паспорт на имя Зоря (дипломатический), ночной пропуск по городу Нюрнбергу и 170 рублей советскими деньгами. На круглом столе находится нетронутый ужин. На кресле возле стола брошена пижама, в кармане которой найдена незаконченная записка: “Перед партией и советской… я совершенно не…” […] В печке обнаружено значительное количество бумажного пепла. На подоконнике стреляная гильза пистолета калибра 12 мм. Из доски книжной полки извлечена деформированная никелированная пуля калибра 7,65 мм».
Главный обвинитель от Великобритании Дэвид Максвелл-Файф прислал советской делегации свои соболезнования: «Я только что узнал с большим сожалением о трагической смерти генерала Зори. От имени британской делегации я хочу выразить наше глубокое сожаление и соболезнование Вам и всей советской делегации… От имени всех моих коллег я хочу передать Вам, как мы высоко ценили работу с ген. Зорей и как много дал нам этот совместный труд в нашей общей задаче».
По официально объявленной версии – пока так и неопровергнутой, а потому и сегодня считающейся доказанной и неопровергнутой – смерть Зори стала результатом неосторожного обращения с оружием во время его чистки: он «скончался в результате несчастного случая». Сын генерала Юрий неоднократно высказывал сомнения в официальной версии, считая, что не было проведено объективного расследования.
Тело Николая Зори было похоронено на Восточном кладбище в Лейпциге, а впоследствии все упоминания и фото Зори были в СССР удалены из всех официальных документов и материалов.
Сомнения высказываются следующие. Накануне своей смерти Зоря обратился к своему начальнику генеральному прокурору Константину Горшенину с просьбой разрешить ему срочно прибыть в Москву и представить доклад Андрею Вышинскому. По его утверждению, подготовленные к представлению на процессе документы по Катынскому делу (т. е. расстрелу польских военнопленных, в котором СССР обвинял немцев) неубедительны – т. е., говоря проще: представив эти документы, советская сторона просто подставится. На следующий день тело Зори было обнаружено М. Т. Лихачёвым, т. е. руководителем группы НКГБ. И Горшенин, и Руденко сообщили в Москву, что Зоря покончил с собой, выстрелив себе из пистолета в голову. Одновременно Руденко запросил у американцев санкцию на немедленное перемещение тела в советскую зону оккупации без проведения медицинской экспертизы, на что Джексон дал согласие. Тем не менее надо отметить, что это всего лишь сомнения и никаких серьезных доказательств в пользу другой версии – убийства, а не самоубийства – пока что приведено не было.
Еще один помощник главного обвинителя – полковник юстиции Дмитрий Степанович КАРЕВ – был специалистом по уголовному и международному праву. Ему было поручено заниматься документальной частью обвинения, в связи с чем на заседаниях суда он докладывал порядок представления доказательств. В 1975 году Р. А. Руденко написал Кареву: «Участвуя в Нюрнбергском трибунале, Вы успешно выполнили поручение по разоблачению злодеяний нацистских преступников».
Дмитрий Карев родился 14 ноября 1905 года в крестьянской семье в поселке Сатинка Лебедянского уезда Тамбовской губернии. В семь лет он потерял отца. Первоначально он выбрал для себя военную карьеру и в феврале 1920-го поступил в 6-й особый отряд Донбасса. В 1922 году он был направлен на учебу в Высшую военную воздухоплавательную школу – бывшую знаменитую офицерскую воздухоплавательную школу, – а по ее окончании краском Карев был зачислен на службу в качестве наблюдателя-корректировщика артиллерии. Но вскоре выяснилось, что больше его привлекает юриспруденция и прежде всего борьба с преступностью. Вскоре молодой краском был назначен следователем военного трибунала 13-й Дагестанской стрелковой дивизии – так началась его юридическая карьера. В декабре 1926 года он был командирован на Дальний Восток, где поступил на заочное отделение юридического факультета Иркутского университета, в следующем году он перевелся на факультет советского строительства и советского права Московского университета – продолжая работать в прокуратуре: старшим следователем в Курске, помощником прокурора в Омске.
В 1931 году Карев получил диплом только что созданного Московского института советского права и сразу же поступил в аспирантуру. В 1938–1940 годах он работал в Прокуратуре СССР и одновременно старался заниматься наукой, защитив в 1939-м кандидатскую диссертацию по теме «Организация суда эксплуататорских государств». Эти его знания как нельзя больше пригодились при организации Нюрнбергского процесса, поскольку организационные нормы советского, европейского и американского судов значительно отличались друг от друга. С 1939 года он был назначен доцентом кафедры судебного права, полностью посвятив себя с этого времени науке и правоведению.
Во время Великой Отечественной войны Карев был зачислен в состав военной прокуратуры, а после окончания Нюрнбергского процесса был приглашен на работу в Министерство юстиции СССР, где он стал начальником Управления кодификации и систематизации законодательства. Впрочем, всегда чувствовалось, что Карев все же больше склонен к научной и преподавательской работе, и поэтому вполне закономерно, что уже в 1949 году он начал свою работу на юридическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Два года у него ушло на завершение докторской диссертации «Военные суды и военная прокуратура», а после ее защиты в 1951-м Дмитрий Карев вполне закономерно стал профессором кафедры уголовного процесса, в 1953-м он уже возглавил эту кафедру и бессменно руководил ею почти четверть века – вплоть до своей кончины. Он опубликовал большое количество учебников и учебных пособий, сотни научных работ и среди них в 1976 году небольшую брошюрку «Нюрнбергский процесс». Кроме того, с 1956 по 1965 год Карев возглавлял юридический факультет МГУ, а в 1960 году стал ректором Московского городского народного университета правовых знаний.
Заслуги Карева перед страной отмечены орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени и медалью «За боевые заслуги».
Скончался Дмитрий Степанович Карев в Москве 31 декабря 1977-го. Ему было 72 года.
Государственный советник юстиции 2-го класса Марк Юрьевич РАГИНСКИЙ также на Нюрнбергском процессе был помощником главного обвинителя от СССР. В этом качестве он участвовал в допросах свидетелей, подготовке документов и материалов, а кроме того, выступал перед трибуналом по разделам обвинения «Ограбление и уничтожение культурных ценностей» и «Разрушение и уничтожение городов и сел».
Помощник главного обвинителя от СССР Марк Рагинский
Марк Рагинский родился 28 декабря 1903 года в селе Хоробичи Городнянского уезда Черниговской губернии. После окончания Гомельской трудовой школы он в 1920 году поступил на правовое отделение факультета общественных наук Петроградского университета, однако доучиться ему не довелось, и с 3-го курса – в 1923 году – Рагинский был по комсомольской путевке направлен на службу в органы прокуратуры Петроградской губернии следователем. Здесь он провел почти 9 лет, закончив службу старшим помощником прокурора области. В 1928 году он вступил в ВКП(б). В 1932-м Рагинский был назначен старшим помощником прокурора Северо-Кавказского края, а в 1934 году переведен в центральный аппарат Прокуратуры СССР прокурором отдела, затем следователем по важнейшим делам, заместителем начальника следственного отдела.
Во время Великой Отечественной войны ему было поручено возглавить оперативную группу Прокуратуры СССР по контролю за производством боеприпасов, а в 1942 году он также был назначен уполномоченным Государственного комитета обороны СССР по пороховым заводам. На последнем этапе войны и после нее Рагинский принимал активное и непосредственное участие в подготовке и проведении судебных процессов над фашистскими преступниками и их пособниками. Так что его назначение в Нюрнберг не было случайным.
Позже Рагинский принимал участие в подготовке процесса Международного трибунала для Дальнего Востока. В Генеральной прокуратуре СССР он служил до 1951-го: и. о. главного прокурора железнодорожного и водного транспорта, начальника отдела Главной военной прокуратуры и помощника генерального прокурора СССР для особых поручений. Одновременно в 1950 году он, после защиты кандидатской диссертации по теме «Основные процессуальные вопросы организации и деятельности международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио» перешел на работу во Всесоюзный институт юридических наук старшим научным сотрудником. С 1963 года Рагинский трудился во Всесоюзном институте проблем укрепления законности и правопорядка Прокуратуры СССР, где после защиты в 1968 году докторской диссертации по проблемам прокурорского надзора он стал профессором. Рагинский был действительно крупным ученым-правоведом и автором десятка монографий и учебных пособий, не говоря уже о научных статьях, число которых превышало 200. Среди его работ и «Нюрнберг: перед судом истории. Воспоминания участника Нюрнбергского процесса» (1986).
Рагинский был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды и «Знак Почета».
В 1989 году он вышел на пенсию. Бывший помощник главного обвинителя умер в Москве 13 мая 1991 года в возрасте 87 лет.
Старший советник юстиции Лев Николаевич СМИРНОВ принимал участие в Нюрнбергском процессе, будучи членом советского обвинения и помощником главного обвинителя от СССР. На процессе он представлял доказательства по нескольким разделам обвинения – «Преступления против мирного населения, против человечности» (совершенные захватчиками на оккупированных территориях СССР, Чехословакии, Польши, Югославии, Греции), о преднамеренном убийстве 50 пленных офицеров британских ВВС (их расстреляли после неудачного побега из лагеря), также участвовал в представлении доказательств вины подсудимых Ганса Франка, Эрнста Кальтенбруннера и Юлиуса Штрейхера, преступных организаций СС, гестапо и СД. Из всех членов советской делегации (за исключением, разумеется, Руденко) Лев Николаевич сделал после процесса самую блестящую карьеру, достигнув высших ступеней на судебном поприще.
Помощник главного обвинителя от СССР Лев Смирнов
Смирнов родился 8 июня 1911 года в Санкт-Петербурге в семье служащего. В 15 лет – в 1926 году – Смирнов начал работать в молодежной газете, затем был лектором, инспектор-методистом Отдела культпросветработы Ленинградского горисполкома. В 1929 году он поступил на факультет советского права Ленинградского государственного университета (с 1930 года – Институт советского строительства и права Наркомата юстиции РСФСР, с 1931-го – Институт советского права, с 1933-го – имени Н. В. Крыленко), и после его успешного окончания в 1934-м был направлен на работу в Ленинградскую областную прокуратуру старшим следователем. С июня 1935 года Смирном – старший следователь Мурманской окружной прокуратуры, с 1938-го – Петроградского района Ленинграда, с 1939-го – старший следователь-методист Ленинградской городской прокуратуры. В том же 1939 году он заочно поступил в аспирантуру Юридического института имени Н. В. Крыленко, однако окончить ее ему не довелось – началась Великая Отечественная война. Таким образом, к 1941 году Смирнов не только имел опыт работы в прокуратуре, но и показал явные способности к научной деятельности – аналитике, оценке и т. д.
На следующий день после нападения Германии на СССР – 23 июня 1941 года – Лев Смирнов был официально призван в ряды РККА и направлен для прохождения службы в военную прокуратуру. В 1941–1942 годах его служба проходила в органах прокуратуры различных армий Ленинградского фронта и во фронтовой прокуратуре. В сентябре 1942 года он был переведен в центральный аппарат прокуратуры СССР: следователь по важнейшим делам, прокурор следственного отдела, прокурор для особых поручений при прокуроре СССР. Его специализацией стало расследование преступлений оккупантов на территории СССР. В этом качестве он неоднократно выполнял специальные поручения по расследованию и поддержанию обвинения по делам о злодеяниях фашистских захватчиков. Причем имел непосредственный опыт участия в открытом процессе: в качестве государственного обвинителя выступал на Смоленском процессе. В 1945 году он наконец вступил в ВКП(б).
Во время Нюрнбергского процесса, после гибели Николая Зори, именно Смирнову было поручено провести следствие по этому делу. Он пришел к выводу, что эта смерть – результат несчастного случая. После процесса Смирнов был командирован на Дальний Восток заместителем советского обвинителя на Токийском процессе Международного военного трибунала для Дальнего Востока. Но, наверное, широкую известность он получил – и вошел в историю – своей деятельностью на посту государственного обвинителя на Хабаровском процессе, проходившем 25–30 декабря 1949 года, где судили японских военных, причастных к разработке и планированию применения бактериологического оружия.
В 1957 году Лев Смирнов был переведен в судебную систему и назначен заместителем председателя Верховного суда СССР. С июля 1962 года более 10 лет он возглавлял Верховный суд РСФСР. На этой должности ему довелось руководить, наверное, самыми громкими политическими процессами этого периода: над участниками Новочеркасских событий 1962 года (где рабочие выступили против повышения цен) – там он приговорил к смерти семерых «зачинщиков», а также на процессе писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля в 1965–1966 годах – суд приговорил их за «антисоветскую агитацию и пропаганду» к 7 и 5 годам лагерей соответственно.
20 сентября 1972 года Лев Смирнов был назначен председателем Верховного суда СССР. На этом посту он сменил знаменитого Александра Федоровича Горкина – того самого, чья подпись стоит на всех Указах Верховного совета СССР с 1938 по 1953 год (он тогда занимал пост секретаря его Президиума). Через 4 года – в 1976-м – Смирнов также был избран членом ЦК КПСС. Он был членом Советского комитета защиты мира, Совета Международной ассоциации юристов-демократов, председателем Ассоциации советских юристов и т. д., и т. п. 12 апреля 1984 года он оставил свой пост в связи с выходом на заслуженный отдых (в составе ЦК КПСС он числился до 1986 года).
За годы службы он был награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Причем наградой за участие в Нюрнбергском процессе можно считать лишь орден Трудового Красного Знамени, полученный им 27 мая 1947 года. 19 июня 1981 года, т. е. к 70-летию со дня рождения, Льву Николаевичу Смирнову «за большие заслуги перед Советским государством» было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Лев Смирнов скончался в Москве 23 марта 1986 года в возрасте 74 лет.
Среди помощников главного обвинителя от СССР был государственный советник юстиции 2-го класса Лев Романович ШЕЙНИН – очень интересный, разносторонний человек, которого большинство знает не как участника советского обвинения, а как талантливого литератора. На процессе он выступил по разделу обвинения «Разграбление и расхищение государственной, частной и общественной собственности».
Помощник главного обвинителя от СССР Лев Шейнин
Лев Шейнин родился 25 марта 1906 года – т. е. к началу процесса ему еще не исполнилось и сорока лет – в деревне Брусановке Велижского уезда Витебской губернии в семье служащего-еврея. Семья в 1908-м переехала в уездный Торопец, где через 11 лет Лев вступил в РКСМ и даже был избран членом уездного комитета. В 1921 году он поступил и через два года окончил Высший литературно-художественный институт имени Валерия Брюсова. В том же, 1923-м, году Шейнин по комсомольской мобилизации был направлен на работу в Прокуратуру СССР, окончил краткосрочные курсы и в 1924-м стал следователем в прокуратуре Орехова-Зуева. В 1927 году его перевели старшим следователем в Ленинградскую областную прокуратуру. Тяга к литературному труду отнюдь не пропала, и Шейнин уже в 1928 году опубликовал в журнале «Суд идет!» свой первый рассказ «Карьера Кирилла Лавриненко».
Лев Шейнин в своем писательском кабинете
В следующем году следователь был принят в партию. 1930 год ознаменовался выходом его «Записок следователя» – прекрасно написанной, талантливой книги, которая пользуется популярностью вот уже более 70 лет и которая сразу же сделала Льва Романовича классиком документальной публицистики. Карьера тоже шла в гору – в 1931 году он перебрался в Москву следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР. Конечно же, Шейнин не остался в стороне от преступлений сталинского режима – он был хорошим (в смысле беспринципным) прокурорским работником и прекрасно выполнял свои обязанности. На счету Шейнина достаточное количество фальсифицированных дел и ложных обвинений: например, вместе с Андреем Вышинским и Иваном Акуловым он подписал приговор Льву Каменеву, Григорию Зиновьеву и их 17 подельникам – надо заметить, что приговор был ложью от первого до последнего слова, что Лев Романович, естественно, знал.
В 1935 году последовало новое повышение – он стал начальником Следственной части Прокуратуры СССР, государственным советником юстиции 2-го класса (т. е. в неполные 30 лет уже генерал-лейтенант), а также членом Особого совещания – внесудебного органа, обладавшего очень большими правами, в т. ч. выносить приговоры; ОСО было одним из важнейших составляющих террора и политики репрессий 1930-х годов. Следственной частью Шейнин руководил более 12 лет, заработав авторитет специалиста по политическим делам. Сколько на совести Шейнина загубленных человеческих жизней, сказать теперь сложно, но их немало. В 1937-м он возглавил – по долгу службы – прокурорскую группу, занимавшуюся следствием по делу Николая Бухарина, Алексея Рыкова и Генриха Ягоды. (Независимо от того, был ли тот же Ягода виновен в фальсифицировании следственных дел, можно утверждать, что как минимум шпионом он не был[24]). Позже деятельность Шейнина будет предана забвению, и он останется в памяти как просто талантливый литератор – автор «Записок следователя» и сценария фильма «Встреча на Эльбе» (за что он, кстати, был удостоен Сталинской премии).
Парадоксально, но Шейнину все сходило с рук. В конце 1930-х следствие закрывало глаза на постоянное мелькание его имени в показаниях арестованных. Он получал высокие правительственные награды, включая ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Будучи высокопоставленным сотрудником прокуратуры, он одновременно получал большие гонорары за свою литературную деятельность, ездил на собственной «Победе», отдыхал на двухэтажной даче в престижном Серебряном Бору…
Но сколь веревочке ни виться, финал для палачей один – Шейнин, как и многие евреи – сотрудники правоохранительных органов, попал под каток придуманного Сталиным заговора «еврейских буржуазных националистов». В 1949 году его неожиданно освободили от должности начальника следчасти «в связи с переходом на другую работу». Вроде как должно было состояться его назначение директором Института криминалистики, но время шло, а ничего не происходило. Он начал волноваться. Как точно определил в своей практически документальной книге «Нюрнберг. Высший суд» А. Г. Звягинцев, «все знали, что хитрый и осторожный Шейнин был изрядно труслив. Не было секретом, что этот “любитель ночных бдений” сам панически боялся допросов с пристрастием. По свидетельству знакомых, человеком он был нестойким, ненадежным, способным изменить взгляды и привязанности в любой момент».
За ним пришли 19 октября 1951 года. Позже начнут говорить о неприязненном отношении к Шейнину министра госбезопасности Виктора Абакумова, но после ареста последнего Шейнина никто отпускать не собирался. На 250 допросах Шейнин сдал всех, кого смог вспомнить, – не только коллег по прокуратуре, но и всех из литературно-культурной «тусовки», кто имел хотя бы каплю еврейской крови.
Даже смерть Сталина не превратила единомоментно Шейнина в «невинно пострадавшего», ждать, пока организатор репрессий превратится в «жертву преступного режима», пришлось еще больше 8 месяцев – дело было прекращено только 21 ноября 1953 года, и Шейнин вышел на свободу.
1950-е и 1960-е годы были отмечены его бурной литературной деятельностью – очерк «Сила и вера» (против диссидентов), сценарии к фильмам «Цепная реакция» и «Игра без правил», все новые и новые переиздания «Записок следователя».
Умер маститый писатель Лев Шейнин в Москве 11 мая 1967 года от сердечного приступа. Ему был 61 год.
Руководителем Следственной части советского обвинения на Нюрнбергском процессе (официально у нее не было руководителя, но Александров был старшим) был государственный советник юстиции 3-го класса Георгий Николаевич АЛЕКСАНДРОВ. Он играл чрезвычайно важную роль в подготовке процесса и вообще в работе советского обвинения. В ходе процесса он вел допросы Ялмара Шахта, Бальдура фон Шираха, Фрица Заукеля, целого ряда свидетелей. Причем контрразведчики М. Т. Лихачёва доложили в Центр, что Александров якобы «слабо парирует» антисоветские выпады обвиняемых, и тому пришлось объясняться…
Георгий Александров проводит допрос Гейнца Гудериана
Георгий Александров родился в Москве 17 апреля 1902 года. Свою трудовую деятельность он начал в 15 лет – в 1917 году, когда он поступил в сельскохозяйственную коммуну. Через два года – в 1919-м – он вступил в РКП(б) и записался добровольцем в РККА. Он попал в когорту «первоконников», что, возможно, позже способствовало его карьере. Но в те годы он, конечно же, об этом не думал: он честно и храбро сражался с врагами советской власти – «белополяками» и «врангелевцами» – в рядах Московского коммунистического кавалерийского полка 1-й Конной армии. Весной 1920 года он был назначен военным следователем в революционный военный трибунал дивизии. С этого момента дальнейшая судьба Александрова была решена и после демобилизации и возвращения в Москву он начал службу в органах прокуратуры: сначала следователем прокуратуры Хамовнического района, затем прокурором Орехово-Зуевского района (это уже в Московской области). Отсутствие специального образования Александров со временем восполнил, окончив в 1934 году заочно факультет советского права Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Вскоре после этого он был переведен в центральный аппарат Прокуратуры СССР следователем по особо важным делам, был помощником прокурора СССР, а затем занял пост заместителя начальника Следственного управления Прокуратуры СССР. Именно следствие и стало его главной специализацией.
С началом Великой Отечественной войны Александрову, оставшемуся на своем посту, было поручено осуществлять надзор за соблюдением законности сотрудниками Наркомата авиационной промышленности СССР. Кроме того, на него было возложено исполнение обязанностей начальника штаба местной ПВО Прокуратуры СССР.
В сентябре 1945 года Александров был откомандирован в Нюрнберг, а по окончании процесса поиск, исследование, анализ фактов и доказательств преступлений нацизма, организация розыска и осуждения военных преступников стали его главной задачей. Ей он отдал почти четверть века своей жизни. Вплоть до того, что в 1969 году он сыграл одну из важнейших ролей в подготовке и проведении Международной конференции по вопросам преследования нацистских преступников, а в 1971 году – Конференции, посвященной 25-летию Нюрнбергского приговора.
Александров работал помощником генерального прокурора СССР для особых поручений, был ученым секретарем Научно-методического совета Генеральной прокуратуры СССР. Оставил он и очень интересные, хотя и небольшие (168 страниц) воспоминания о Нюрнбергском процессе: «Нюрнберг вчера и сегодня» (М.: Политиздат, 1971).
За отличия по службе он был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени.
Георгий Николаевич скончался в своем родном городе 29 июня 1979 года в возрасте 77 лет.
В состав Следственной части входили также Н. А. Орлов, С. К. Пирадов и С. Я. Розенблит. Отметим, что биографических данных о них довольно мало, и во многом я основывался на сведениях, приведенных в книге А. Г. Звягинцева «Нюрнберг. Высший суд» (М.: Эксмо, 2023), лишь немного дополнив их по открытым источникам.
Глава Секретариата советской делегации А. И. Полторак вспоминал: «Многими интересными материалами располагали делегации Франции, Англии и в особенности Америки. Требовалось в возможных пределах изучить и эту документацию, отобрав из нее то, что могло пригодиться советским обвинителям, поддерживать постоянные контакты с американскими, английскими и французскими следователями, которые также производили допросы подсудимых и свидетелей. Всю полезную координацию с нашими коллегами в этой области обеспечивали Николай Андреевич Орлов и Сергей Каспарович Пирадов».
Член следственной группы старший советник юстиции (позже – государственный советник юстиции 3-го класса) Николай Андреевич ОРЛОВ родился в 1908 году и с 25 лет работал в органах прокуратуры. После окончания процесса он продолжил службу в Прокуратуре, специализируясь на вопросах надзора за исполнением законов и постановлений по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних. Его заслуги перед Родиной были отмечены орденом «Знак Почета». Скончался Николай Орлов в 1970 году.
Его коллега подполковник (позже полковник) юстиции Сергей Каспарович ПИРАДОВ был старше почти на 15 лет – он родился в 1893 году в Мардакяне Бакинского уезда одноименной губернии в семье полицейского пристава Бакинской городской полиции. С 1923 года он работал в военной прокуратуре и прокуратуре на железнодорожном транспорте. Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почета». Умер в Москве в 1975 году в возрасте 71 года. Но, наверное, больше всего он известен благодаря своему сыну – дипломату и специалисту по международному праву Александру Пирадову (1922–1966), который был женат трижды, причем первым браком на дочери Серго Орджоникидзе, а вторым – на дочери Андрея Андреевича Громыко…
Наконец, еще одним членом Следственной части был полковник юстиции Соломон Яковлевич РОЗЕНБЛИТ – выдающийся специалист-криминалист, не только практик, но и известный в узких кругах теоретик. Он родился в Риге в 1897 году, во время Первой мировой войны вместе с семьей перебрался на юг России, где в 1919 году окончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе. Во время Гражданской войны присоединился к Красной армии, а затем в мае – октябре 1920 года руководил колонией для социально запущенных детей. В ноябре 1920 года Розенблит был направлен на службу в военную прокуратуру: военный следователь, с 1929 года – военный прокурор. С 1937 года он стал следователем по важнейшим делам Главной военной прокуратуры РККА, не оставляя службы, он подготовил и защитил диссертацию, и в 1941-м ему было присвоено научное звание кандидата юридических наук; учитывая достаточно низкий образовательный уровень сотрудников прокуратуры в то время – это событие уникальное. В 1941–1946 годах Розенблит занимал посты заместителя начальника и начальника Следственного отдела управления Главной военной прокуратуры и старшего помощника главного военного прокурора.
После Нюрнбергского процесса Розенблит, как и ряд других сотрудников советского обвинения, был отправлен на Дальний Восток: он был назначен помощником заместителя главного обвинителя от СССР – начальником Следственной части советской делегации на Токийском процессе над японскими военными преступниками. Свои впечатления от этого процесса Розенблит изложил в книге «Международный процесс главных японских военных преступников» (М., 1950).
С 1950 года и до своего выхода на пенсию в 1962 году Яков Розенблит работал во ВНИИ криминалистики при Прокуратуре СССР: доцент, ученый секретарь института. Он выпустил большое количество научных трудов и практических пособий (лично и в соавторстве), среди которых «Криминалистика для военных юристов» (М., 1942), «Методика расследования дел о несчастных случаях в РККА» (М., 1948), «Показания свидетелей и подсудимых в международном уголовном процессе» (М., 1948), «Тактика допроса на предварительном следствии» (М., 1958), «Осмотр места происшествия» (М., 1960) и др. За годы службы Розенблит был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени.
Умер Соломон Яковлевич в Москве 16 октября 1969 года в возрасте 72 лет.
Обвинение от Соединенных Штатов Америки
Главный обвинитель: Роберт Х. Джексон.
Заместители главного обвинителя: полковник Роберт Дж. Стори; Томас Дж. Додд; Сидни Ш. Олдермен; бригадный генерал Телфорд Тейлор; полковник Джон Х. Эймен (начальник Следственной части); Ральф Г. Альбрехт.
Помощники главного обвинителя: полковник Леонард Уилер-мл.; подполковник Уильям Х. Болдуин; подполковник Смит У. Брукхарт-мл.; коммандер Джеймс Б. Донован; майор Фрэнк Б. Уоллис; майор Уильям Ф. Уолш; майор Уоррен Ф. Фарр; капитан Сэмюель Харрис; капитан Дрексель А. Спречер; капитан-лейтенант Уитни Р. Харрис; лейтенант Томас Ф. Ламберт-мл.; лейтенант Генри В. Атертон; лейтенант Брэйди О. Брайсон; лейтенант Бернард Д. Мельцер; д-р Роберт М. В. Кемпнер; Уолтер В. Брудно.
Роберт Хьюарт ДЖЕКСОН (Jackson) играл ведущую роль не только в американском обвинении, но и во всем Нюрнбергском процессе. Он стоял у самых истоков его возникновения и сделал все, чтобы американское обвинение в целом и он лично в частности заняли бы исключительное место в процессе, получив в перспективе все главные дивиденды.
Главный обвинитель от США Роберт Джексон
Джексон родился 13 февраля 1892 года в пенсильванском городке Спринг-Крик-Тоуншип в графстве Уоррен. Вскоре его семья переехала в Фрюсбург, штат Нью-Йорк, где он учился в местной школе. Карьеру юриста он выбрал еще в школе и в 18 лет уже поступил в юридическую контору помощником юриста в Джеймстауне (одним из партнеров конторы был его дядя Фрэнк Мотт). Здесь он проработал три года, причем один учебный год (1911/12) посещал занятия в Олбанской юридической школе – ее он не окончил и как такового юридического образования не получил, кстати, он стал последним в истории членом Верховного суда США без профильного образования. В 1913 году, получив сертификат об окончании юридической школы и как прошедший стажировку у «авторитетного юриста», Джексон был принят в коллегию адвокатов и основал собственную адвокатскую практику в Джеймстауне. В 1916 году он обзавелся семьей, его избранницей стала уроженка Олбани Ирен Элис Герхардт – происходившая из семьи немецких эмигрантов. В 1917 году Джексон поступил в ведущую юридическую контору Буффало Penney, Killeen & Nye, где специализировался в основном на защите интересов Международной железнодорожной компании. В конце 1918 года он вернулся в Джеймстаун в качестве юрисконсульта городской корпорации. За следующие 15 лет он сделал карьеру успешного и богатого и, как следствие, не слишком принципиального защитника – хорошо известна его фраза: «Любой адвокат недвусмысленно предупредит подозреваемого, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не делал заявлений полиции».
Однако не это определило его дальнейший головокружительный взлет – мало ли в Америке успешных адвокатов! Уже с 1916-го он стал активно работать в Демократической партии, стал членом партийного комитета штата. Ему посчастливилось поступить на службу в муниципальный совет Джеймстауна (штат Нью-Йорк), где он познакомился и сблизился с тогдашним губернатором штата Франклином Делано Рузвельтом. С тех самых пор Рузвельт постоянно тянул за собой амбициозного юриста. В 1930 году он был назначен членом Нью-Йоркской государственной комиссии по расследованиям при администрации юстиции. Во время предвыборной кампании Рузвельта Джексон возглавлял организацию «Юристы-демократы за Рузвельта».
После избрания Рузвельта президентом США Джексон в феврале 1934 года, как «пользующийся доверием президента» человек, был включен в Генеральный совет Бюро внутренних сборов Департамента казначейства США помощником главного юрисконсульта, где ему были подчинены почти 300 человек, занимавшиеся вопросами апелляций на начисленные налоги. 26 февраля 1936 года он был переведен в Департамент юстиции США помощником генерального прокурора Соединенных Штатов, при этом он возглавил Налоговое, а 21 января 1937-го – Антимонопольное управление Департамента юстиции. Таким образом, с 1937 года Джексон занимался преимущественно антитрестовским законодательством – что было крайне важно для Рузвельта и его «нового курса»: понятно, что президент мог доверить это направление работы только тому, кому полностью доверял. 5 марта 1938 года Джексон стал генеральным солистером, а 18 января 1940-го сменил Френка Мэрфи на посту генерального прокурора (который одновременно возглавлял и Департамент юстиции США). Его не без оснований называли «главным юристом Рузвельта».
Главный обвинитель от США Роберт Джексон выступает с трибуны МВТ
Преемником Джексона на посту генерального прокурора по иронии судьбы стал 26 августа 1941 года Биддл – тот самый, который на процессе был членом Трибунала. Джексон же еще 11 июля 1941-го получил очень почетный и престижный пост судьи Верховного суда США. Теоретически именно Джексон, являвшийся, по общему мнению, «одним из самых авторитетных судей своего времени», должен был занять место Биддла, а тот стать главным обвинителем. Но на этом процессе роль обвинителя была на порядок выигрышнее, чем роль судьи, и она досталась ставленнику Рузвельта Джексону (хотя назначение подписал уже преемник Рузвельта – Гарри Трумэн, в целом не очень-то любивший ставленников своего бывшего шефа). В 1945 году Джексон, в ранге главного советника США по преследованию нацистских военных преступников, был представителем США на конференции в Лондоне, где вырабатывались Устав и основополагающие принципы будущего процесса, он принимал самое активное участие в составлении «Лондонской хартии».
После процесса Джексон вернулся к своим обязанностям члена Верховного суда – эта должность считается пожизненной, и член Верховного суда может быть уволен в отставку лишь по собственному желанию. Джексон подобного желания не изъявил и умер от сердечного приступа «при исполнении» в Вашингтоне 9 октября 1954 года. В конце лишь напомним, что в вышедшем в США в 2000 году фильме TNT «Нюрнберг», где роль Джексона раздута до неимоверных размеров (смотря фильм, даже удивляешься – а что вообще все остальные делали в Нюрнберге?); а сыграл его Алек Болдуин.
Первым в списке заместителей главного обвинителя от США значился полковник Роберт («Боб») Джерард СТОРИ-старший (Storey Sr.)[25]. Он был, наверное, самым высокопрофессиональным юристом американской делегации, который реально специализировался на международном праве и международных делах. Причем во всей его деятельности красной нитью проходила идея верховенства закона: Стори с колоссальным упорством всю жизнь выступал за этот принцип – как в США, так и на международной арене. Являясь шефом отдела документации американской делегации, он внес огромный вклад в подготовку процесса, во многом именно благодаря Стори Нюрнбергский процесс стал тем, чем стал, и представленные на нем доказательства до сих пор остаются несомненными фактами.
Заместитель главного обвинителя от США Роберт Стори-старший
Стори родился 4 декабря 1893 года в семье врача в небольшом техасском городке Гринвилле – центре графства Хант в 72 км от Далласа. Он получил вполне достойное высшее юридическое образование: вернее, сначала он начал изучать медицину в Техасском университете в Далласе, но затем переключился на юриспруденцию, а позже получил профессиональное образование в Южном методистском университете. Завершив учебу, в 1914 году, он начал карьеру практикующего юриста в небольшом городишке Труп в Восточном Техасе. В 1917 году Стори получил должность помощника окружного прокурора, но вскоре оставил работу и поступил в Армию США – шла Первая мировая война. Правда, в Европу он не попал, а тянул лямку в береговой артиллерии. Но как бы то ни было, Столи был демобилизован в звании 1-го лейтенанта и в 1918-м открыл юридическую практику в значительно более крупном Тайлере, а в 1921 году занял пост помощника генерального прокурора Техаса. В этой должности он прослужил 3 года, а в 1923 году, наработав необходимые связи в прокуратуре и суде, уволился и обратился к значительно более прибыльной частной адвокатской практике, возглавив со временем далласскую контору Storey, Armstrong & Steger. В 1928 году он стал членом Административного совета Техасского университета. Параллельно Стори активно занимался политикой на местном уровне и в 1934-м был избран президентом Коллегии адвокатов Далласа, а в 1938–1940 годах – председателем Секции юридического просвещения.
После вступления США во Вторую мировую войну, в декабре 1941 года, Стори был командирован в Великобританию по линии Американской ассоциации юристов, в апреле следующего года был зачислен в Воздушный корпус Армии США в звании майора и довольно скоро был произведен в полковники. Конечно, Стори не летал, тем более что вскоре он был назначен старшим офицером разведки в штабе 15-й воздушной армии (дислоцированном в Казерте, Италия). Он занимался, в т. ч., правовыми вопросами, прежде всего военными преступлениями, совершаемыми нацистами против американских летчиков – в этом качестве он бывал также и на Балканах.
К работе над сбором документов о преступлениях нацистов Стори, которого как раз перевели в Орландо (Флорида) в Школу старших офицеров разведки ВВС, привлек лично Джексон, который обратился к нему с подобной просьбой. Тот согласился и был назначен «исполнительным адвокатом при судье Верховного суда», а фактически возглавил отдел документации американского обвинения. Полковнику (стоит отметить, что Стори во время процесса уже не состоял на военной службе, а был в запасе) и его подчиненным пришлось перелопатить в буквальном смысле слова горы документов, в различных американских статьях можно встретить цифру: им удалось выявить 3000 тонн доказательств совершения нацистами военных преступлений и других зверств. В отличие от многих членов национальных делегаций, Стори был абсолютно неполитической фигурой – его делом была подготовка документов. Поэтому и награда за «доблестный труд» не заставила себя ждать – от Гарри Трумэна от получил медаль Свободы, а от правительства Франции – орден Почетного легиона.
Участвовать в судебном процессе в Токио против японских военных преступников Стори отказался и в 1947 году вернулся в Даллас, где получил степень почетного доктора юриспруденции Техасского христианского университета и занял пост декана Правовой школы Денмэна Южного методистского университета и выступил основателем Юго-Западного юридического фонда (ныне Центр американского и международного права). Он оставался деканом четверть века – до 1972 года, причем продолжал участвовать в работе различных юридических ассоциаций и в 1952–1953 годах был даже недолго президентом Американской ассоциации адвокатов. Свое кредо, которому он был верен всю жизнь, Роберт Стори сформулировал в книге воспоминаний «Страшный суд: от Перл-Харбора до Нюрнберга»[26]: «Один из величайших уроков эпохи Гитлера заключается в том, что странам необходимо предоставить альтернативу войне. […] Война как решение споров должна уйти в прошлое, иначе сама цивилизация может погибнуть. Действительно, перед человечеством не стоит более серьезной проблемы».
Стори скончался 16 января 1981 года в возрасте 87 лет.
Казалось бы, на вопрос «Кто был наиболее яркой личностью в американском обвинении?» не вызовет затруднений – Роберт Джексон. Но на самом деле ответ не столь однозначен. Во многом главного обвинителя затмевал значительно более харизматичный, более красноречивый, более сметливый Томас Джозеф ДОДД (Dodd). Он был одним из заместителей (но фактически первым, главным, если не сказать единственным реальным) главного обвинителя. На процессе он работал чрезвычайно активно: провел большое количество перекрестных допросов, составлял обвинительные заключения, представлял на суде доказательства, включая киноматериалы, и т. д.
Заместитель главного обвинителя от США Томас Додд
Додд родился 15 мая 1907 года в Норвиче, в графстве Нью-Лондон (штат Коннектикут) в состоятельной семье ирландского происхождения, его отец был преуспевающим строительным подрядчиком. Образование он получил в подготовительной школе колледжа Святого Ансельма в Гоффстауне, Провиденс-колледже – частном католическом университете в Провиденсе (Род-Айленд) – и, наконец, в 1933 году он завершил юридическое образование, окончив Йельскую школу права (YLS) частного Йельского университета в Нью-Хейвене (Коннектикут). С молодых лет у него сложилась прекрасная репутация: правоверный католик, прекрасный семьянин и многодетный отец – в браке с Грейс Мерфи у супругов родилось шестеро детей.
Свою карьеру в 1933 году он начал… специальным агентом ФБР, но уже в 1935-м возглавил занимавшееся обеспечением работой и помощь в образовании молодым американцам (16–25 лет) Национальную администрацию по делам молодежи – ему самому было всего 28 лет. Наконец, в 1938 году молодой ирландец был назначен помощником генерального атторнея США и оставался на этом посту до конца Второй мировой войны. Сменялись генеральные прокуроры, но Додда ценили все – активный, исполнительный, умный и т. д. сотрудник нравился всем, в т. ч. и генеральным атторнеям Роберту Джексону и Фрэнсису Биддлу… Додду довелось поучаствовать во многих громких делах: он расследовал действия Ку-клукс-клана, дело о создании нацистской шпионской сети и др. Его имя постепенно стало мелькать на страницах американской прессы.
Назначение в Нюрнберг было вполне логичным – фактически он исполнял все те же обязанности помощника генерального атторнея. Причем Додд как всегда был очень активен, он даже активно вмешался в вопрос выбора места проведения процесса (он, кстати, выступал не за Нюрнберг, а за лучше сохранившийся Гейдельберг). На процессе он требовал осуждения большинства обвиняемых, а также признания преступными всех шести нацистских организаций, против которых были выдвинуты обвинения. В конце концов Додд стал первым помощником, доверенным лицом и фактическим заместителем Джексона, причем одновременно он официально занимал пост заместителя председателя Наблюдательного совета, а затем именно ему Джексон летом 1946-го передал должность исполнительного юрисконсульта Управления США по уголовному преследованию преступников, когда решил вернуться в США. Додд оставался в Нюрнберге дольше всех – только в октябре 1946-го он вернулся на родину.
Сложно сказать, когда Томас Додд решил серьезно заняться политической карьерой, но создается впечатление, что эти идеи теснились у него в голове с момента окончания учебы – он всегда стремился к публичности, а опыт Нюрнберга показал, что у него есть все качества, необходимые политику, – красноречие, харизма, решительность и т. д., и т. п. При подобной перспективе возвращаться в прокуратуру смысла не имело, а наоборот, для политической карьеры больше подходил статус независимого радетеля за благо народное, т. е. практикующего адвоката. Чем с 1947 года Додд и занимался в родном Коннектикуте, в городе Хартфорд. Одновременно он активизировал свое участие в деятельности, естественно, Демократической партии и осенью 1952 года был избран в Палату представителей от 1-го округа Коннектикута и 3 января 1953 года приступил к своим обязанностям в Капитолии. Здесь он провел два срока, а в 1956-м решил повысить ставки и избраться в Сенат США, однако проиграл республиканцу Прескотту Бушу, между прочим, отцу будущего президента Джорджа Буша-старшего.
Небольшой перерыв в карьере парламентария Додд использовал, чтобы улучшить свое финансовое положение. За 50 тысяч долларов в год (по тем временам очень приличные деньги) он согласился лоббировать интересы недавно захватившего в Гватемале власть полковника Карлоса Кастильо Армаса. Отметим, что, еще будучи депутатом, он провел в 1956-м поправку о предоставлении новоявленному диктатору помощи в размере 15 миллионов долларов – так что свои 150–200 тысяч он заработал. (Впрочем, полковнику Кастильо это не особо помогло, поскольку в июле 1957-го его застрелил сержант дворцовой охраны…)
Осенью 1958 года со второй попытки Додду все же удалось избраться в Сенат от Коннектикута (и 3 января 1959 года приступил к своим обязанностям), а затем и переизбрался в 1964-м на второй срок. Он возглавил Сенатский подкомитет по делам несовершеннолетних и выступал за усиление контроля за оборотом оружия, за запрещение ЛСД, а также за немедленный арест Мартина Лютера Кинга. В общем – принципиальный сенатор. Но вот незадача – в 1967-м Додд был пойман за руку: он украл у фирмы, с которой сотрудничал, деньги и растратил их на собственные нужды – это был только один факт, остальные доказать не удалось, но, как писала пресса, им одним дело явно не ограничилось. Кроме того, злые языки постоянно намекали, что сенатор имеет сильную алкогольную зависимость – ну какой ирландец не любит виски! В общем, Сенатский комитет по этике осудил действия Додда, а демократы на выборы 1970 года его уже не выдвинули. Томас Додд попытался выступить как независимый кандидат, но вполне закономерно проиграл. Удары судьбы подорвали здоровье Додда, и он умер 24 мая 1971 года в Олд-Лайме (Коннектикут) в возрасте 64 лет.
В отличие от своих коллег заместитель главного обвинителя Сидни Шеррилл ОЛДЕРМЕН (Alderman) был в целом проходной фигурой и какой-либо важной роли ни до процесса, ни во время него, ни после не играл. Он как работал в частных фирмах, так после процесса и продолжил. Он родился 28 ноября 1892 года в Гринсборо, графство Гилфорд (штат Северная Каролина). Олдерман окончил довольно престижный Тринити-колледж (который в 1924 году был преобразован в Дьюкский университет) – частный исследовательский университет в городе Дарем (Северная Каролина), затем юридическую школу, даже успел некоторое время попроповедовать. Затем была военная служба, Первая мировая война, возвращение в Северную Каролину, открытие юридической практики. Большую часть своей юридической карьеры он провел в Southern Railway Company (SOU; «Южная железнодорожная компания») – одном из монополистов в области железнодорожных перевозок в США. Он занимал последовательно посты генерального адвоката, генерального солиситора (т. е. в данном случае главного юрисконсульта), а затем и вице-президента. В Нюрнберге он участвовал в подготовке материалов процесса, даже выступал с обвинительным заключением, но особо не запомнился. В 1946 году он вернулся в свою родную компанию. Сидни Олдермен умер в августе 1973 года в Сан-Франциско в возрасте 80 лет.
Если Роберт Джексон был главным обвинителем на «Большом Нюрнберге», где являлся лишь «одним из четырех», то его заместитель бригадный генерал Телфорд ТЕЙЛОР (Taylor) выступал обвинителем на двенадцати «Малых Нюрнбергах» – процессах Американского военного трибунала над различными категориями нацистских военных преступников, проходивших все в том же историческом зале, что и МВТ. Причем на них Тейлор в обвинении был главным, совсем главным – поскольку обвинение было исключительно американским. Кроме того, невозможно без уважения относиться к его позиции, занятой по отношению к Вьетнамской войне…
Заместитель главного обвинителя от США бригадный генерал Телфорд Тейлор
Тейлор родился 24 февраля 1908 года в Скенектади, в одноименном графстве штата Нью-Йорк. Образование он получил в частном гуманитарном колледже Уильямса (в Уильямстауне, штат Массачусетс) и в Гарвардской школе права (HLS) Гарвардского университета в Кембридже (все тот же Массачусетс) и в 1932 году получил звание доктора права. С самого начала своей юридической карьеры Тейлор связал свою жизнь с государственной службой, и после нескольких лет стажировки, в 1935 году, был назначен юрисконсультом (юридическим советником) подкомитета Сенатского комитета по межгосударственной торговле. (Здесь он, кстати, познакомился с Гарри Трумэном, который был членом этого подкомитета.) С 1940 года он служил главным юрисконсультом – начальником юридической службы Федеральной комиссии по связи (FCC). Вполне закономерно, что во время Второй мировой войны, 5 октября 1942 года, Тейлор был зачислен на военную службу, получил сразу звание майора и по линии армейской разведки направлен в Англию. Он возглавил группу американских специалистов в Блетчли-парке – теперь он занимался анализом информации, полученной из перехваченных англичанами немецких сообщений с помощью ULTRA. Таким образом, он оказался причастным к, наверное, главной тайне разведок Союзников в той войне.
Показав себя хорошим аналитиком и организатором, Тейлор быстро рос в чинах: в 1944 году он был произведен в полковники и прикомандирован к Роберту Джексону, став его помощником по разработке Устава Международного военного трибунала. Он показал себя «крепким специалистом», однако в целом его действия нельзя назвать удачными: ему было поручено готовить и поддерживать обвинения против Генерального штаба и Верховного командования вермахта – их предлагалось признать преступными организациями. Он сделал все возможное, но по результатам обсуждения Трибунал – под достаточно надуманным предлогом – таковыми их не признал. Возможно, с этим связаны в целом критические отзывы Тейлора о Нюрнбергском процессе и негативная реакция, которая просматривается и в его мемуарах «Анатомия Нюрнбергского процесса»[27], вышедших в 1992 году. При всем этом он всегда признавал огромное значение процесса, как минимум потому, что на нем были определены правовые основы преступлений против мира и человечности.
Изначально предполагалось, что международных процессов будет целая серия. Когда стало ясно, что бывшие союзники по Антигитлеровской коалиции уже ни о чем не договорятся, США решили проводить дальнейшие процессы самостоятельно. Причем обвинение должно было сохраниться: т. е. Джексон и его сотрудники, накопившие огромный опыт и колоссальное количество материала, должны были продолжить работу в Германии, не останавливаясь только на суде над главными военными преступниками. Однако Джексон посчитал, что «Большого Нюрнберга» с него вполне достаточно и все какие можно политические дивиденды он уже получил и необходимости его дальнейшего пребывания в Германии нет. Можно было возвращаться на родину и пожинать плоды успешной карьеры. Может быть, причины были и другие, более прозаические, но как бы то ни было, Джексон убыл в США, оставив американское обвинение накануне «Малых Нюрнбергов» без руководителя. Его преемником 17 октября 1946 года был выбран как раз получивший звание бригадного генерала Армии США Телфорд Тейлор – с одной стороны, он был военным, т. е. не мог, как тот же Додд, отказаться, с другой – он явно стремился продолжить свою деятельность в Германии. Так Тейлор оказался в роли главного обвинителя на всех двенадцати «последующих Нюрнбергских процессах» Американского военного трибунала. На них вывели 185 обвиняемых, из которых 142 были признаны виновными. Приговоры были довольно суровыми: 24 человека приговорены к смертной казни, 20 – к пожизненному заключению, 98 – к различным (довольно приличным – до 25 лет) срокам заключения. Но все это было лишь на бумаге: казнили всего 12 человек, а начиная с 1951 года приговоры начали массово смягчаться, и вскоре в тюрьмах уже никого не осталось.
После окончания работы в Германии Тейлор вернулся в США, вышел в отставку с военной службы и открыл в Нью-Йорке собственную юридическую практику. При этом занимал довольно активную позицию, крайне резко выступая, в частности, против маккартизма и с критикой действий США во Вьетнаме. Так он выступил за судебное преследование американских летчиков, участвовавших в бомбардировках Северного Вьетнама. Его книга «Нюрнберг и Вьетнам: американская трагедия»[28], вышедшая в 1970 году, имела успех. В ней он, основываясь на собственном опыте, утверждал, что по стандартам Нюрнбергского процесса действия США во Вьетнаме и Камбодже столь же преступны, как и действия нацистов во время Второй мировой войны.
Заместитель главного обвинителя от США бригадный генерал Телфорд Тейлор за рабочим столон в своем кабинете
В 1962 году Тейлор стал профессором Колумбийского университета, позже также профессором права в Нэше, приглашенным профессором Гарвардской и Йельской юридических школ, был избран членом Американской академии искусств и наук (в 1966 году). С 1976 года Тейлор преподавал в Школе права Бенджамина Н. Кардозо Университета Йешива в Нью-Йорке и только в 1994 году вышел на пенсию.
Он умер 23 мая 1998 года от последствий инсульта в госпитале Святого Луки – Рузвельта на Манхэттене, ему было 90 лет.
Начальником Следственной части американского обвинения был еще один заместитель главного обвинителя – полковник Джон – «Джек» – Харлан ЭЙМЕН (Amen). Он руководил проведением следствия, допросами подсудимых и свидетелей, фиксацией их слов прежде всего не в зале Высокого суда во время собственно слушаний, а в тюрьме Дворца юстиции вне судебных заседаний.
Начальник Следственной части американского обвинения и заместитель главного обвинителя полковник Джон Эймен
Он родился 15 сентября 1898 года в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир в семье известного педагога Харлана Пейджа Эймена (1853–1913), директора независимой частной старшей мужской школы Академии Филлипса в Экзетере. Естественно, он окончил ту самую Академию Филлипса, затем – в 1919-м – Принстонский университет, а в 1919–1923 годах продолжил образование в Гарвардской юридической школе Гарвардского университета в Кембридже (штат Массачусетс).
Эймен сделал довольно впечатляющую и успешную юридическую карьеру: в 1923 году он поступил в коллегию адвокатов Нью-Йорка и принят на работу юристом в одну из крупнейших нью-йоркских юридических компаний Shearman & Sterling. Стоит отметить, что на карьеру Эймена благотворное влияние оказала и женитьба: 25 июля 1926 года он сочетался узами брака с Мэрион, дочерью 22-го президента США Гровера Кливленда (невеста была вдовой и на три года старше жениха)… В 1928–1938 годах он был уже младшим партнером юридической конторы Duryee, Zunino, & Amen, а в 1938 году стал партнером юридической фирмы Parker & Duryee. При этом одновременно с частной практикой Эймен 10 лет – с 1928 по 1938 год – являлся специальным помощником генерального атторнея США по делам, связанным с антимонопольным законодательством. (Надо понимать, что это американский эвфемизм: Эймен занимался борьбой с организованной преступностью, но с помощью применения к ней антимонопольного законодательства, поскольку по уголовке доказать никто ничего не мог. Эймен получил прозвище Racket-Buster – Разрушитель банд.)
Широкую известность в США он получил после того, как 26 октября 1938 года был назначен специальным прокурором по расследованиям коррупции среди чиновников в Бруклине (в т. ч. полицейских). Его деятельность в расследовании противоправных действий полицейских привела к массовым увольнениям, а участие в следствии по делу еврейско-итальянской мафии (пресса окрестила его делом «Корпорации убийц») – к росту его популярности. После начала Второй мировой войны Эймен был зачислен 2-м лейтенантом в Резервный летный корпус морской пехоты США. Поскольку реально служил он в американской военной разведке, то в чинах он рос стремительно: в 1942 году Эймен стал подполковником, а в 1944-м – уже полковником.
После Нюрнберга Эймен вернулся в США, где вместе со своим бывшим помощником в прокуратуре Германом Л. Вейсманом (1904–1999) основал в Нью-Йорке юридическую фирму Amen, Weisman & Butler, которая в 1980-е годы стала одной из крупнейших подобных контор в Америке.
Эймен скончался в госпитале Святого Луки – Рузвельта на Манхэттене 10 марта 1960 года в возрасте 61 года.
Наконец, последним с списке заместителей главного обвинителя от США значится Ральф Герхард АЛЬБРЕХТ (Albrecht). На процессе он участвовал в сборе доказательств против нацистских лидеров, таких как Герман Геринг и Альберт Шпеер. Он происходил из семьи немецких эмигрантов и родился 11 августа 1896 года в Джерси-Сити, в графстве Хадмон (штат Нью-Джерси). Юридическое образование он получил в Пенсильванском университете, где в 1919 году ему было присвоено звание бакалавра права, а в 1923-м он получил звание доктора права в Гарвардском университете в Кембридже (Массачусетс). В следующем году он стал полноправным членом Коллегии адвокатов штата Нью-Йорк и начал свою юридическую карьеру, став успешным адвокатом с конторой на Манхэттене. В 1927 году начал стажировку при Верховном суде США. В течение 15 лет – с 1924 по 1939 год – он успешно выступал на целом ряде судебных процессов, в т. ч. и имевших международный резонанс (как то взрыв немецкими шпионами склада боеприпасов в июле 1916 года).
Заместитель главного обвинителя от США Ральф Альбрехт во время выступления
Во время Второй мировой войны Альбрехт был призван на военную службу и в 1941-м направлен в противолодочную разведку ВМС США, в его задачи входила подготовка и трансляция пропагандистских передач, ориентированных на командиров немецких подводных лодок. В 1945 году он был назначен заместителем директора Управления стратегических служб по расследованию военных преступлений и специальным помощником генерального атторнея США. С этого поста он вполне логично переместился в американскую делегацию в Нюрнберге. Позже его работа вновь оказалась связанной с Германией, и в 1950–1953 годах он работал по декартелизации крупных немецких корпораций в рамках выполнения решений Потсдамской конференции 1945 года. В Нью-Йорке он был старшим партнером юридической фирмы Peaslee, Brigham, Albrecht & MacMahon и в 1970 году вышел на пенсию. Также он значился вице-президентом Американской ассоциации международного права (ASIL).
Альбрехт умер 27 сентября 1985 года в доме престарелых в Уотертауне (штат Массачусетс), в возрасте 89 лет.
Помощников главного обвинителя от США было больше, чем в других делегациях, – 16 человек (например, в советской делегации таковых было 5, а во французской – 11). Им мы уделим несколько меньше внимания, чем заместителям, – все же они не играли столь важной роли на процессе. Хотя, надо признать, среди них были и действительно знаковые фигуры, да и случайных людей не было.
Первым в списке значится полковник Леонард «Энди» УИЛЕР-младший (Wheeler Jr.; 1901–1995). Как выходец из приличной семьи Уорчестера (штат Массачусетс), он окончил находившийся в этом же штате Гарвардский колледж, в 1922-м получил степень бакалавра права, а в 1925-м – еще и Гарвардскую юридическую школу одноименного университета. В 1929 году он поселился в Кембридже и начал успешную карьеру в бостонской влиятельной юридической фирме Goodwin, Procter & Hoar. После начала Второй мировой войны Уилер поступил в армию, и хотя ранее он никакого опыта подобной службы не имел и в действующих частях не служил, тем не менее к 1945 году он был уже полковником. Во время Нюрнбергского процесса он кроме помощника главного обвинителя также являлся заместителем начальника отдела Роберта Стори, причем среди помощников он был самым старшим по званию. После войны он в течение многих лет активно занимался общественной деятельностью как в Кембридже, так и в районах Чокоруа и Тамворт на юге Нью-Гэмпшира, где семья проводила лето.
Подполковник Уильям Х. БОЛДУИН (Baldwin; 1917–2005) был неприлично молод – на момент начала Нюрнбергского процесса ему было всего 28 лет. Он родился в семье юриста в Детройте (штат Мичиган), в 1938 году окончил Уильямс-колледж в Уильямстауне (Массачусетс), затем юридическую школу Мичиганского университета и в 1941 году получил там степень доктора права. В 1942 году Болдуин был призван в ВВС США, окончил офицерское училище и получил звание 2-го лейтенанта. В апреле 1945 года, уже будучи подполковником, он был назначен в составе американской делегации в Нюрнберге. Демобилизовавшись в 1946 году, Болдуин вернулся в Детройт, где сначала создал юридическую контору вместе с отцом, а затем стал партнером более крупной юридической фирма Dykema & Gossett, здесь он активно работал в 1977 года, когда отошел от дел, но остался советником фирмы. В 1978–1987 годах он занимал пост председателя благотворительного Фонда Кресги, который занимался финансированием муниципальных программ городов США в сфере искусства, культуры, образования, экологии, здравоохранения, социальных служб и общественного развития.
Уроженец Вашингтона (штат Айова) подполковник Смит Уилдмен БРУКХАРТ-младший (Brookhart Jr.; 1906–1993) был сыном влиятельного сенатора-республиканца от Айовы Смита Брукхарта-старшего (1869–1944), прославившегося последовательной и яростной борьбой за сохранение «сухого закона». С 1920-х годов он работал у своего отца и одновременно учился в юридической школе Университета Джорджа Вашингтона. В 1930–1931 годах он служил в морской пехоте, а позже работал в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Во время Второй мировой войны Брукхарт служил в армии, откуда и был откомандирован в американское обвинение. После процесса он вышел в отставку, причем получил очередное звание полковника резерва, в котором числился до 1960 года. В мирной жизни Брукхарт занимался частной юридической практикой в Вашингтоне, специализируясь на законодательстве по ценным бумагам, и в 1975-м вышел на пенсию. Он умер от сердечной недостаточности в больнице в Лейквуде (Колорадо).
В наши дни коммандер[29] Джеймс Бритт ДОНОВАН (Donovan; 1916–1970) известен среди людей, интересующихся историей США, возможно, даже больше, чем сам Роберт Джексон. Хотя эта известность связана совсем не с Нюрнбергским процессом, а с жизнью Донована, полной авантюр, тайных операций и скандалов. На процессе Донован представлял суду визуальные доказательства, в т. ч. документальный фильм «Нацистский план».
Помощник главного обвинителя от США коммандер Джеймс Донован
Он родился в нью-йоркском Бронксе в семье ирландского происхождения; его отец был успешным хирургом. Он окончил католическую школу Олл-Хэллоус, затем – Фордехэмский университет в Нью-Йорке, где в 1937 году получил степень бакалавра искусств. Отец настоял, чтобы Джеймс получил юридическое образование в престижной Гарвардской юридической школе в Кембридже (Массачусетс), хотя самого молодого человека, обладавшего явной авантюрной жилкой, тянуло к журналистике. Тем не менее в 1940 году он окончил учебу со степенью бакалавра права и начал свою карьеру адвоката в частной конторе.
Во время Второй мировой войны Донован поступил в ВМФ США, причем, как и большинство юристов, был направлен в аналитические подразделения разведывательной службы и довольно быстро достиг ранга коммандера. В 1942 году он стал первым помощником генерального юрисконсульта в Управлении научных исследований и разработок. В 1943 году он был переведен начальником юридической службы в Управление стратегических служб (УСС) – предшественника ЦРУ. По этой линии он был командирован в Нюрнберг. Фактически он стал представителем спецслужб США в американском обвинении. (вроде как ходили слухи, что он будет не помощником, а заместителем обвинителя). И Донован сразу же попытался – по старой традиции спецслужб – перетянуть одеяло на себя. Когда на процессе наметились проблемы из-за возможного организованного противодействия подсудимых, он начал пытаться за спиной суда и обвинения наладить контакты с кем-то из них. Роберт Джексон изначально был против – он считал, что Правосудие – это главное и любые сделки могут разрушить основы нового нарождавшегося международного права. Но Донован не слушал – еще в ноябре 1945 года он начал переговоры с адвокатом Шахта, обещая возможное оправдание в обмен на помощь. Джексон возмутился самоуправством своего помощника и запретил ему допрашивать свидетелей защиты. Донован в ответ резко раскритиковал действия американского обвинения и покинул Нюрнберг.
Вскоре после выхода в отставку Донован, явно использовав свои связи в спецслужбах, основал в 1950-м процветающее, специализировавшееся на страховых делах юридическое агентство Watters & Donovan. В нашей стране Донован более известен тем, что он защищал на суде нашего легендарного разведчика Рудольфа Абеля (Фишера), а также вел переговоры с советской стороной по освобождению американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса, что в конце концов привело к обмену его на Абеля. Он же в 1962 году договорился с Фиделем Кастро об обмене 1113 кубинских контрас, захваченных в заливе Свиней, на 53 миллиона долларов, еду и медикаменты. Его история – авантюрный роман, еще ожидающий своего русского автора… ну или переводчика.
Еще один уроженец Массачусетса (Беверли, графство Эссекс) – майор Фрэнк Брауэр УОЛЛИС (Wallis; 1903–1982). Образование получил в Дартмутском колледже, который с отличием окончил в 1925 году, а также уже неоднократно упоминавшуюся Гарвардскую юридическую школу в Кембридже. Получив диплом в 1928 году, он поступил в известную бостонскую юридическую фирму Goodwin, Proctor & Hoar – сначала юристом, а в 1935 году – партнером. Во время Второй мировой войны Уоллис поступил в армию и в 1942–1946 годах служил юридическим советником при начальнике медицинской службы Армии США. На процессе Уоллис представлял доказательства планов нацистского правительства по уничтожению евреев Европы, в т. ч. того, что «Хрустальная ночь» – всегерманский погром в ноябре 1938-го – была не спонтанной, как утверждали нацисты, а тщательно спланированной. После окончания процесса Уоллис демобилизовался в звании подполковника и вернулся в родную контору, в которой возглавил судебный отдел (в ранге старшего партнера) и успешно трудился до своего выхода на покой в 1968 году.
Помощник главного обвинителя от США Фрэнк Уоллис
Майор Уильям Фрэнсис УОЛШ (Walsh) был в числе тех помощников главного обвинителя, кто занимался подготовкой и представлением доказательств преступлений нацистского режима против евреев (в 1945–1946 годах еще не было слов «геноцид» и «Холокост»). На его долю пришлась демонстрация доказательства использования газвагенов на оккупированных частях Советского Союза и др. Также он представлял альбом-отчет (52 фотографии) группенфюрера СС Юргена Штропа о подавлении восстания в Варшавском гетто в 1943 году.
Майор Уоррен Ф. ФАРР (Farr) впервые появился на процессе только 19 декабря 1945 года, когда представлял суду доказательства преступной деятельности СС – нацистских Охранных отрядов. Более себя он ничем не проявил.
Майор Уоррен Фарр выступает на процессе МВТ
Ньюйоркцу капитану Сэмюелу «Сэму» ХАРРИСУ (Harris; 1912–1980) на момент начала Нюрнбергского процесса было всего 33 года. Он запомнился прежде всего своим началом выступления. Когда высокий, стройный офицер подошел к микрофону и сказал: «Звук, который вы слышите, – это дрожат мои колени. Они не дрожали так с того дня, как я предложил своей супруге выйти за меня замуж». Соблюдая приличия, члены британской делегации улыбнулись, русские удивленно пожали плечами… После процесса и демобилизации Сэм Харрис сделал успешную карьеру и дослужился до поста исполнительного директора и исполняющего обязанности председателя правления крупной коммуникационной корпорации Communications Satellite Corporation, более известной как COMSAT.
В отечественных документах фамилию этого помощника главного обвинителя пишут как Шпрехер. Возможно, это и правильно – скорее всего, его предки приехали в США из Германии, однако он был природным американцем, и следовательно, писать по-русски его надо: капитан Дрексель Андреас СПРЕЧЕР (Sprecher; 1913–2006). На процессе он представлял доказательства против Бальдура фон Шираха и Ганса Фриче. Этот уроженец деревушки Индепенденс (штат Висконсин) провел довольно бурную молодость: работал на ферме, ездил на Аляску, а летом 1930 года совершил поездку по Европе, включая и Германию. Одновременно он учился в протестантском колледже в Иллинойсе и Висконсинском университете. На последнем курсе – в 1933 году – он написал курсовую работу по экономике немецкого фашизма, только-только пришедшего к власти. Полтора года он проучился в Лондонской школе экономики и в 1935-м вновь съездил в Германию. Наконец, он окончил Гарвардскую юридическую школу и приступил к работе в Национальном совете по трудовым отношениям. В армии Спречер оказался в июне 1942 года, когда его в звании сержанта отправили в Англию, в Департамент генерального инспектора. Он выполнял различные задания по расследованию, например, нарушений при обращении с пленными, а в 1944-м был переведен в Управление стратегических служб (УСС) и приступил к тренировкам диверсантов, которые позже были заброшены в Германию.
Тому, что он оказался в Нюрнберге, Спречер обязан только своей напористости: узнав, что готовится этот процесс, он взял отпуск и отправился в Вашингтон с просьбой вернуть его на службу в УСС и откомандировать в Нюрнберг. Так и получилось. После «Большого Нюрнберга» Спречер остался в Германии и в 1946–1949 годах участвовал в последующих процессах американского военного трибунала (например, процессе по делу I.G. Farbenindustrie AG) в качестве старшего атторнея и прокурора. После возвращения в США Спречер успешно занимался юридической практикой, бизнесом, а также играл активную роль в местной организации Демократической партии. В 1999 году он выпустил двухтомный капитальный труд, посвященный событиям 1945–1946 годов: «Нюрнбергский процесс изнутри: полный отчет прокурора»[30]. Он умер в Вашингтоне всего за неделю до своего 93-го дня рождения.
Среди помощников главного обвинителя от США двое были однофамильцами: уже упоминавшийся Сэм Харрис и лейтенант-коммандер[31] Уитни Робсон ХАРРИС (Harris; 1912–2010), причем в отечественных источниках первого почему-то постоянно писали Гаррисом, а второго – Харрисом, видимо, чтобы не путать… В Нюрнберге Харрис готовил и представлял доказательства вины Эрнста Кальтенбруннера, провел несколько допросов, в т. ч. коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса. Уроженец Сиэтла и сын успешного автодилера, Харрис поступил в Вашингтонский университет, откуда перевелся в Беркли, в Калифорнийский университет, где и благополучно завершил юридическое образование. Во время Второй мировой войны он служил в юридической службе ВМФ США, а затем отправлен в Нюрнберг. Позже он посвятил свою жизнь международному праву и охране окружающей среды. В знак признания его заслуг в феврале 2002 года Институт глобальных правовых исследований Юридической школы Вашингтонского университета был переименован в Институт мирового права Уитни Р. Харриса. Бывший помощник обвинителя скончался от рака в своем доме в Фронтенаке (штат Миссури) в возрасте 97 лет.
На Нюрнбергском процессе помощник главного обвинителя лейтенант Томас Фрэнсис ЛАМБЕРТ-младший (Lambert Jr.; 1914–1999) участвовал в подготовке обвинения и доказательств против НСДАП как преступной организации, а также против Мартина Бормана. Ламберт получил степень бакалавра права в Оксфордском университете, затем учился в Йельской юридической школе и в 1940 году – в возрасте всего 26 лет – стал деканом юридического колледжа Стетсонского университета в Санкт-Петербурге (штат Флорида). К 1945-му он был для своего возраста достаточно известным юристом. Когда началась подготовка Нюрнбергского процесса, Роберт Джексон лично обратился к Ламберту с предложением стать его помощником на процессе. В 1955 году он возглавил юридический журнал Национальной ассоциации поверенных по вопросам компенсации заявителей (NACCA; ныне – Американская ассоциация правосудия; AAJ) и руководил им более 40 лет. Во многом именно благодаря его деятельности эта некоммерческая правозащитная и лоббистская организация превратилась в одного из самых влиятельных политических союзников Демократической партии. С 1963 года Ламберт преподавал в Юридической школе Бостонского университета, а затем в течение 27 лет – с 1972 года – был профессором и заведующим кафедрой Юридической школы Саффолкского университета в Бостоне.
Семья лейтенанта Генри Вольпи АТЕРТОНА (Atherton; 1911–1967) была очень состоятельной и пользовалась в Бостоне большим влиянием и уважением. Его прямой предок – один из первых поселенцев Новой Англии ланкаширец Джеймс Атертон, который появился в Массачусетсе в 1630-х годах и стал одним из основателей на этой земле нового города, который назвал Ланкастером. Отец Генри – Перси Атертон (1877–1940) – был известным юристом, владельцем юридической конторы, специализировавшейся на ведении делах в федеральных судах. Карьера Генри была предсказуемой – Гарвардский университет, Гарвардская юридическая школа в Кембридже (Массачусетс). В 1932 году 21-летнего молодого специалиста отец пристроил в качестве юриста к федеральному судье Окружного суда США по Массачусетскому округу Хью МакЛеллану. Когда последний вышел в отставку в сентябре 1941-го, Атертон перебрался во влиятельную бостонскую юридическую фирму Herrick, Smith, Donald, Farley & Ketchum. Во время Второй мировой войны Атертон был призван в армию, но на фронт, естественно, не попал, а осел в центральном аппарате Корпуса главного военного судьи Армии США, где получил звание лейтенанта, а в 1945 году оказался в составе американского обвинения в Нюрнберге. На процессе он представлял доказательства преступлений, совершенных Артуром Зейсс-Инквартом. После возвращения в Бостон Атертон вернулся в свою юридическую фирму, где и проработал до своей скоропостижной смерти в возрасте 56 лет.
Лейтенант Брэйди Оливер БРАЙСОН (Bryson; 1915–2006) был самым молодым из помощников главного обвинителя от США, выступавших перед Международным военным трибуналом. В январе 1946 года он представил доказательства обвинения против Ялмара Шахта; дело было очень трудное, а вот особого опыта у Брайсона не было… Хотя он родился в Овертоне (штат Невада), но бо́льшую часть жизни провел в Мэриленде, куда его семья переехала в 1920-м. Он окончил колледж Западного Мэриленда в 1935 году со степенью бакалавра, а юридическое образование получил в Юридической школе Колумбийского университета и в 1938-м начал карьеру адвоката по налоговому праву в Вашингтоне. Он состоял в резерве ВМФ США и в 1944 году был зачислен на действительную военную службу и направлен в отдел разведки ВМФ в Вашингтоне, занимавшийся взломом советских кодов, в связи с чем неплохо изучил русский. Весной 1945 года выяснилось, что он – единственный сотрудник морской разведки, говорящий по-русски, в этом качестве ему предложили отправиться в Нюрнберг или Токио, чтобы взять там на себя связь с советской делегацией. Брайсон выбрал Германию. Правда, вскоре выяснилось, что особо активных связей с советским обвинением не будет, и Брайсона задействовали уже по его прямым обязанностям помощника обвинителя и поручили готовить доказательства о преступлениях против евреев.
Поскольку Брайсон изначально подписал договор на пребывание в Нюрнберге в течение полугода, в марте 1946 года он был демобилизован и уехал на родину. В 1947 году он переехал в Нью-Йорк и стал младшим партнером юридической фирмы Chapman, Bryson, Walsh & O'Connell, а затем в течение восьми лет был партнером фирмы Morgan, Lewis & Bockius в Вашингтоне и Филадельфии; он специализировался по налоговым делам. Также он входил в руководство Independent Publications Inc., Remington Rand Corp., С.Х. Tevis & Son Inc., Westminster oil Co. и др. В 1980 году Брайсон вышел на пенсию, а в 2004 году выпустил небольшие мемуары «Вспоминая Роберта Х. Джексона в Нюрнберге десятилетия тому назад»[32]. Он умер от почечной недостаточности на своей ферме Father's Care в Вестминстере (Мэриленд) в возрасте 90 лет.
Лейтенант (младшего ранга) Бернард Дэвид МЕЛЬЦЕР (Meltzer; 1914–2007) возглавлял группу юристов, которая собирала доказательства против тех, кто финансировал нацистов, а также тех, кто нес ответственность за разграбление оккупированных территорий, за депортацию и принудительный труд миллионов рабочих. Кроме того, он представлял обвинение против Вальтера Функа, а также по делу о концентрационных лагерях. Он родился в Филадельфии в еврейской семье эмигрантов из Российской империи Юлия и Розы Мельцер. Образование он получил в Темпльском и Чикагском университетах, в 1935 году стал бакалавром. В 1937 году он окончил Юридическую школу Чикагского университета, а в 1938-м – Гарвардскую юридическую школу. В 1938 году он получил назначение в отдел главного юрисконсульта Комиссии по ценным бумагам и биржам. В 1940-м Мельцер поступил в чикагскую юридическую фирму Mayer, Meyer, Austrian & Platt, но в 1941 году уехал в Вашингтон, где получил должность юридического консультанта Консультативной комиссии национальной обороны.
В 1941–1943 годах Мельцер был специальным помощником помощника госсекретаря Дина Ачесона и исполнял обязанности начальника отдела контроля иностранных фондов; он участвовал в разработке соглашений о ленд-лизе, а после вступления США в войну подал прошение о зачислении в армию (получил отказ из-за плохого зрения). В 1943 году Мельцер был зачислен в ВМФ лейтенантом и направлен в Управление стратегических служб (УСС). После окончания процесса Мельцер уже осенью 1946 года начал преподавательскую деятельность в качестве лектора Юридической школы Чикагского университета, в 1947 году он стал профессором (а в 1980-м заслуженным профессором) и вскоре получил известность как ведущий ученый в области трудового права, заслужив как ученый-правовед международное признание. В 1985 году он вышел на пенсию. Умер Мельцер в Чикаго (Иллинойс) в возрасте 92 лет.
Парадокс ситуации заключался в том, что один из помощников главного обвинителя от США не был американцем, совсем наоборот – он до 1935 года был гражданином Германии! В Нюрнберге он представлял обвинения против Германа Геринга и Вильгельма Фрика. Родившийся в баденском Фрейбурге-в-Брейсгау Роберт Макс Василий КЕМПНЕР (Kempner; 1899–1993) был сыном выдающихся микробиологов Вальтера и Лидии Кемпнер, а его мать (уроженка Каунаса) вообще была второй в истории Пруссии женщиной-профессором; его родители были евреями, и хотя сам Роберт был крещен в протестантизм, происхождение сыграло огромную роль в его дальнейшей судьбе. Он изучал юриспруденцию и политологию в Берлинском, Бреслауском и Фрейбургском университетах и в 1920-е годы работал прокурором в Берлине. В 1928 году он был назначен главным юрисконсультом Министерства внутренних дел Пруссии. На этом посту, будучи последовательным противником нацистов, он предпринял несколько попыток – правда, неудачных – привлечь Адольфа Гитлера к ответственности за государственную измену и запретить нацистскую партию. Кемпнер написал несколько статей, разоблачающих нацизм, а в 1932 году под псевдонимом Эйке фон Репков выпустил книгу «Сумерки правосудия: Прелюдия к Третьему рейху»[33].
Помощник главного обвинителя от США Роберт Кемпнер
Вскоре после прихода нацистов к власти Кемпнер в январе 1933 года был уволен с госслужбы за «политическую ненадежность и еврейство». Затем его арестовали, однако дело получило международный резонанс, и его были вынуждены освободить – впереди была Олимпиада, и Гитлер пока что оглядывался на Запад. Получив свободу, Кемпнер в 1935-м бежал из страны, сначала в Италию, а в сентябре 1939-го – в США. Он стал советником Администрации президента, занимался в Пенсильванском университете исследованием европейских диктатур, а также часто привлекался Департаментом юстиции и другими конторами для консультаций по немецкому вопросу. В 1943 году его включили в состав Комиссии Объединенных наций по военным преступлениям. В 1945 году его опыт, знания Германии и немецкой судебной системы грех было не использовать, и он был включен в состав американской делегации. Ему поручили самое сложное направление работы – он возглавлял секцию опровержения аргументов защиты, а также группу, отвечавшую за прогнозирование стратегии защиты и за подготовку перекрестных допросов.
Кемпнер также выступал в качестве заместителя главного обвинителя на процессе американского военного трибунала по Вильгельмштрассе. В марте 1947 года именно ему удалось обнаружить знаменитый Ванзейский протокол, где шла речь об «окончательном решении еврейского вопроса». После окончания процессов Кемпнер остался в Германии и в 1951 году открыл адвокатскую практику во Франкфурте-на-Майне, однако ему пришлось жить то в Германии, то в США, поскольку он занимался в основном вопросами реституции и представлял интересы евреев, пострадавших от нацистов. Также в 1961 году он был в качестве свидетеля-эксперта привлечен к процессу против Адольфа Эйхмана в Иерусалиме. Несколько неприятный осадок остался от того факта, что Кемпнер присвоил и перевез в США тысячи страниц документов, которые использовались американским обвинением – так, после его смерти именно у его наследников были обнаружены украденные им дневники Альфреда Розенберга… Кемпнер скончался в Кёнигштейне-в-Таунусе (Гессен) в возрасте 93 лет.
Последним в списке помощников главного обвинителя от США значился Уолтер Вольф БРУДНО (Brudno; 1914–1992), на процессе он представлял обвинение против идеолога нацистской партии Альфреда Розенберга и доказательства его роли в разграблении европейских художественных сокровищ, а также в создании Института изучения еврейского вопроса. Отец юриста Авраам Брудно (1872–1960) владел сигарной фабрикой, а вообще он происходил из многочисленной еврейской семьи, проживавшей в Литве – в Шяуляе и Вильне; бо́льшая часть литовских родственников Брудно не пережила нацистской оккупации – из десятков человек выжил только один… Уолтер был привлечен в состав американской делегации, будучи штатским, но за пару недель до своего официального выступления на процессе был зачислен в Армию США в звании рядового 1-го класса и поэтому появился перед Трибуналом в военной форме. После войны Брудно вернулся в США, где в 1965–1980 годах был адъюнкт-профессором юриспруденции в Южном методистском университете в Далласе (Техас).
Помощник главного обвинителя от США Уолтер Брудно
Обвинение от Великобритании
Главный обвинитель: Хартли Шоукросс.
Заместитель главного обвинителя: Дэвид Максуэлл-Файф.
Главный консультант – помощник главного обвинителя: Джордж Д. Робертс.
Помощники главного обвинителя: подполковник Дж. Мервин Г. Гриффит-Джонс; полковник Генри Дж. Филлимор; майор Ф. Элвин Джонс; майор Джон Харкурт Баррингтон.
Очень колоритной личностью был главный обвинитель от Великобритании Хартли Уильям ШОУКРОСС (Shawcross). Интерес вызывает уже то, что будущий главный обвинитель руководителей Германии родился именно в этой стране – в Гиссене, который в то время находился на территории Великого герцогства Гессенского. Это произошло 4 февраля 1902 года, в это время его отец – Джон Шоукросс (1871–1966) – преподавал английский язык в местном университете.
Главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс
Сам Хартли получил довольно разностороннее образование – это и Далвичский колледж, и Лондонская школа экономики, и юридический факультет Женевского университета (причем на своем курсе он был первым) и получил награду 1-го класса от Почетного общества Грейс-Инн – одного из четырех юридических объединений Лондона. На заре своей адвокатской карьеры Шоукросс защищал интересы шахтовладельцев Гресфорда и в этом качестве упорно боролся за их интересы и против Союза горняков. В 1918 году Шоукросс сделал главный выбор в своей жизни, который и привел его на пост главного обвинителя – он вступил в Лейбористскую партию. Как уже упоминалось выше, консерваторы выборы 1945 года проиграли и поэтому все ведущие должности в британской «делегации» достались лейбористам.
В 1939 году Шоукросс стал королевским адвокатом. После начала Второй мировой войны он, сославшись на травму позвоночника, не пошел на фронт и был назначен председателем трибунала по делам иностранцев, ведущих враждебную деятельность. На этом посту Шоукросс должен был стать «британским Биддлом», но не стал – он всегда подчеркивал, что политика политикой, а закон – законом и трактовать его в зависимости от политической конъюнктуры очень большая ошибка. Затем он состоял заместителем комиссара Юго-Восточного района и комиссаром Северо-Западного района – это должности преимущественно административные. На выборах 5 июля 1945 года он был избран членом Палаты общин от Сент-Хеленса в Ланкашире (и оставался депутатом до мая 1958 года) и при дележе постов в правительстве 4 августа того же года получил должность генерального атторнея Его Величества Англии и Уэльса (примерно то же самое, что в других странах генеральный прокурор). В 1945 году Шоукросс стал рыцарем.
На процессе, однако, Шоукросс пришелся не к месту. Дело в том, что он считал, что приоритетом при рассмотрении дела должно стать международное право: «Горе побежденным. Пусть они расплачиваются за горечь поражения. Но не такова точка зрения британского правительства», – заявил он. Свою вступительную речь он зачитывал два дня – 26 и 27 июля 1946 года – и говорил о верховенстве закона. «Наступает момент, – заявил он, – когда человек должен отказаться отвечать перед своим лидером, если он также хочет отвечать перед своей совестью». Ему претил агрессивный стиль, который изначально избрали для себя его коллеги из американской, советской и французской делегаций. Но ситуация сложилась несколько по-другому, и, оказавшись не в своей тарелке, Шоукросс потерял интерес к процессу и фактически самоустранился (тем более, что в 1945–1948 годах он также являлся главным делегатом от Великобритании в ООН): на большинстве заседаний трибунала Великобританию представлял его заместитель Дэвид Максуэлл-Файф. Шоукросс появился в Нюрнберге только два раза – в т. ч. для того, чтобы зачитать обвинительное заключение. Это его выступление, по мнению очевидцев, стало одним из самых ярких на процессе.
По возвращении на родину после процесса Шоукросс стал главным организатором и обвинителем на процессах против британских коллаборационистов – «лорда Хау-Хау» (диктора немецкого радио Уильяма Джойса) и Джона Эмери (командира «Британского легиона» СС и сына британского министра колоний). Он обвинил их в государственной измене, притом что оба они к этому времени уже давно отказались от британского подданства и тем самым априори изменить своей «Великой Родине Англии» не могли, поскольку она по закону их родиной не являлась. Впрочем, поборника закона это совершенно не остановило – оба были приговорены к смертной казни. Шоукросс был прокурором на процессе физика-атомщика Клауса Фукса, который передал СССР ядерные секреты. Ему удалось заставить Фукса выдать властям своих «подельников» – супругов Розенберг, которые были позже казнены в США (Фукс получил 14 лет тюрьмы). Участвовал Шоукросс и в суде над одним из самых известных серийных убийц Великобритании – Джоном Джорджем Хейгом, причем ему удалось при минимальных уликах (практически при их отсутствии) добиться смертного приговора.
24 апреля 1951 года Шоукросс сделал свой последний шаг в политической карьере и совершенно неожиданно был назначен президентом Совета по торговле (т. е. министром торговли) Великобритании. Однако уже осенью 1951 года лейбористы выборы проиграли и Шоукросс вполне закономерно 26 октября свой пост потерял. Большинство в политических кругах, хорошо знавших прокурора, считали, что он ради своих амбиций немедленно перейдет в другой лагерь, к консерваторам, и даже получило широкое распространение его прозвище – сэр Шортли Флуркросс (Sir Shortly Floorcross – т. е. сэр Скоро переходящий в другую партию), но все ошиблись – он остался верен лейбористам, а в 1957 году вообще отошел от «большой политики» и сосредоточился на занятиях верховой ездой и гольфом.
Через почти 12,5 лет после окончания процесса – 14 февраля 1959 года – бывший главный обвинитель на Нюрнбергском процессе удостоился титула пэра и стал 1-м бароном Шоукроссом из Фристона в графстве Сассекс (Baron Shawcross of Friston in the County of Sussex) и, таким образом, членом Палаты пэров. В 1961 году он был назначен председателем 2-й Королевской комиссии по прессе, а в 1967 году также стал одним из директоров The Times, причем отвечал за обеспечение ее редакционной независимости. Он ушел в отставку в 1974 году после назначения председателем Совета прессы (Press Council), который он возглавлял следующих 4 года. В 1965–1985 годах Шоукросс занимал почетный пост канцлера Сассекского университета.
Он остался публичной фигурой: входил в советы директоров крупных концернов (в т. ч. EMI, Rank Hovis MacDougall, Caffyns Motors Ltd, Morgan et Cie SA, Times Newspapers, Upjohn & Co Ltd), был членом двух масонских лож, двух британских и одного американского яхт-клуба. К этому времени относилось и довольно оригинальное заявление бывшего обвинителя от Великобритании: он как-то сказал, что хотел бы отправить на виселицу вслед за нацистскими преступниками и тех, кто им противостоял, – Сталина, Черчилля и Рузвельта.
Главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс
За свою бурную жизнь сэр Хартли был женат три раза: его первая супруга Альберта Розита Шиверс (они поженились в мае 1924 года) покончила с собой 30 декабря 1943 года; вторая жена – Джоан Винифред Мазер (свадьба состоялась 21 сентября 1944 года) погибла 26 января 1974 года, упав с лошади. Уже будучи 95-летним старцем, Шоукросс 18 апреля 1977 года женился на Сюзанне Монике Хуискамп. Последний брак сопровождался скандалом: родственники потребовали, чтобы бывший главный обвинитель прошел медицинское обследование и тесты. Результаты были однозначными: старину Хартли признали слабоумным. Но новобрачные уехали в Гибралтар и там зарегистрировали брак. От второго брака он имел троих детей, включая сына Уильяма Шоукросса, который стал писателем и историком – более известным, чем его отец.
Лорд Шоукросс скончался 10 июля 2003 года в возрасте 101 года в своем поместье в Коубиче (Восточный Сассекс) – на этот момент он был последним остававшимся в живых членов кабинета Клемента Эттли.
Как указывалось выше, фактически британское обвинение возглавлял честолюбивый, хотя и слишком сильно политизированный заместитель главного обвинителя Дэвид Патрик[34] МАКСУЭЛЛ-ФАЙФ (Maxwell-Fyfe). Он родился в столице Шотландии Эдинбурге, в семье директора Абердинской гимназии[35] 29 мая 1900 года – т. е. он был на два года старше Шоукросса и, как показывает его биография, готовился к должности главного обвинителя уже давно и теоретически должен был стать им, но теория и практика, как это часто бывает, не всегда совпадают. И хотя злые языки утверждали, что перекрестный допрос – не его сильная сторона, он блестяще провел допрос такого сложного подсудимого, как Герман Геринг.
Заместитель главного обвинителя от Великобритании Дэвид Максуэлл-Файф
Максуэлл окончил эдинбургский колледж Джорджа Уотсона и престижный Баллиольский колледж в Оксфорде. В 1918–1919 годах он сделал небольшой перерыв в учебе, чтобы пройти военную службу в рядах Шотландской гвардии. Получив диплом юриста, Максуэлл устроился секретарем к члену Палаты общин сэру Патрику Хэннону и только в 1922 году был принят в Крейс-Инн и признан полноправным барристером. Максуэлл-Файф выбрал карьеру практикующего юриста, присоединился к конторе Джорджа Лински, и довольно скоро имя бойкого адвоката стало «широко известно в узких кругах». Кроме того, он активно занимался политикой и был деятельным членом Консервативной партии – это, с одной стороны, способствовало его карьере, но с другой – позже стоило ему места главного обвинителя. В 1934 году он стал королевским адвокатом, а с 1936-го по 1942-й являлся регистратором (recorder) Олдхэма.
После нескольких неудачных попыток баллотироваться в Палату общин Максуэлл-Файф в июле 1935 года на дополнительных выборах был избран членом Палаты от Ливерпуля Западного Дерби (он оставался в Палате до 1954 года) и вошел во фракцию консерваторов. Он поддерживал политику Невилла Чемберлена по умиротворению Германии и приветствовал подписание Мюнхенского соглашения, которое фактически стало прологом мировой войны. Но когда немецкий вермахт вошел в Прагу, Дэвид проявил патриотизм и вступил в ряды Территориальной армии. Теперь он стал ярым приверженцем Уинстона Черчилля и после вступления Соединенного Королевства в войну в сентябре 1939 года был зачислен в армию (причем сразу в звании майора) и направлен для прохождения службы в Департамент начальника военно-юридической службы. В сентябре 1940 года майор Максуэлл-Файф стал еще и «боевым офицером» – он был тяжело ранен (правда, не в бою, а во время авианалета, но все же от рук немцев).
Авторитет Максуэлла-Файфа в Консервативной партии постепенно рос, и 4 марта 1942 года Черчилль доверил ему пост генерального солиситора (т. е. заместителя генерального атторнея) Англии и Уэльса; приятным добавлением к должности стал титул рыцаря. Именно он взял на себя работу по разработке процесса привлечения к ответственности нацистских военных преступников, причем на первом этапе он чрезвычайно активно продвигал идею Черчилля, что руководителей Третьего рейха надо просто казнить по мере того, как они будут попадать в руки союзников: мол, в доброй старой Англии пиратов всегда вешали без каких-либо судебных проволочек… Впрочем, когда премьер-министр дал согласие на публичный процесс, он организовал работу по сбору материалов о преступной деятельности высших должностных лиц Третьего рейха, фактически под его руководством готовилось обвинение британской стороны. 25 мая 1945 года он вошел в состав кабинета в качестве генерального атторнея Англии и Уэльса. Казалось бы, лучшей кандидатуры главного обвинителя просто не найти. Но в дело в очередной раз вмешалась политика. Выборы 1945 года Черчилль проиграл, а консерватор Максуэлл-Файф 26 июля лишился своего поста в правительстве и надежд на руководство обвинением в Нюрнберге – все досталось его преемнику на обеих должностях сэру Хартли Шоукроссу. Правда, при всем желании обойтись без него лейбористы не могли – все следствие было в его руках, а до процесса оставалось уже немного времени. Максуэллу дали (с понижением) должность заместителя генерального прокурора, а затем отправили в Нюрнберг в качестве заместителя главного обвинителя, помощника лейбориста Лоуренса.
Дэвид Максуэлл-Файф в рабочем кабинете
Карьера же Максуэлла после окончания процесса была очень успешна – не то что у Шоукросса. Причем в 1949-м им вновь пришлось встретиться в суде, но теперь уже как противники: Шоукросс был обвинителем, а Максуэлл-Файф защитником серийного убийцы Джона Хэйга – убийцу приговорили к смертной казни и повесили. На политическом поприще его акции постоянно росли, он стал заметным членом Консервативной партии, членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (в 1949–1952 годах). А в начале 1950-х годов консерваторы вернулись к власти. Здесь уж Максуэлл наверстал упущенное: 27 октября 1951 года он стал статс-секретарем Департамента внутренних дел (т. е. министром – главой соответствующего ведомства) и министром по делам Уэльса, причем в следующем году в его подчинение передали знаменитую спецслужбу МИ-5. Англичанам Максуэлл-Файф запомнился чрезвычайно активной компанией против гомосексуалистов: он обещал «избавить Англию от этого мужского порока… этой чумы». Число арестов геев за год выросло почти до 5,5 тысяч. Сложно сказать, принесло ли ему это популярность, а вот критику со стороны более толерантно настроенных коллег он получил. Тем не менее, когда речь зашла о выборе нового лидера Консервативной партии, оказалось, что бывший заместитель главного обвинителя занимает почетное третье место (его это расстроило, он реально рассчитывал на первое).
Лорд верховный канцлер Великобритании Дэвид Максуэлл-Файф
18 октября 1954 года Максуэлл-Файф был назначен на высокий, но не слишком властный пост лорда верховного канцлера Великобритании и на следующий день возведен в достоинство 1-го виконта Килмурского из Круча в графстве Сазерленд (Viscount Kilmuir of Creich in the County of Sutherland). Окончательно надежды Максуэлла-Файфа на высший пост в стране разбились после того, как Гарольд Макмиллан 13 июля 1962 года провел полное обновление своего кабинета и среди прочих отправил в отставку лорда-канцлера. Ходили слухи, что обиженный Максуэлл-Файф заявил Макмиллану, что его уволили с меньшим вниманием, чем уделяли бы повару, на что Макмиллан ответил, что хорошего лорда-канцлера найти значительно легче, чем хорошего повара… Правда, горечь отставки была смягчена пожалованием 20 июля 1962 года новых титулов – 1-го графа Килмурского (1st Earl of Kilmuir) и 1-го барона Файфа Дорнохского из Дорноха в графстве Сатерленд (Baron Fyfe of Dornoch of Dornoch in the County of Sutherland).
Умер граф Килмурский 27 января 1967 года в Уитихэме, в Сассексе. Поскольку сыновей у него не было, титулы в наследство не получил никто… Что касается Нюрнберга, то в 2009 году о Максуэлле-Файфе вспомнили: тогда общественности была представлена переписка Дэвида и его супруги Сильвии. Письма считались утерянными, пока их внучатый племянник случайно не обнаружил на складе семейной юридической фирмы. В более чем двухстах посланий заместитель главного обвинителя довольно подробно описывает процесс.
К величайшему сожалению, мне не удалось найти хотя бы какую-то заслуживающую доверия информацию о главном консультанте – помощнике главного обвинителя от Великобритании Джордже Додде РОБЕРТСЕ (Roberts). Известно лишь, что он был королевским адвокатом и уже к началу процесса был награжден орденом Британской империи.
Более известен был другой помощник главного обвинителя – подполковник Джон Мервин Гатри ГРИФФИТ-ДЖОНС (Griffith-Jones). Хотя стоит отметить, что прославился он отнюдь не своей деятельностью в Нюрнберге, а состоявшимся лет через 15 скандальным судебным процессом.
Мервин Гриффит-Джонс. Фото 1960-х годов
Гриффит-Джонс родился в лондонском районе Хэмпстед 1 июля 1909 года в семье преуспевающего адвоката-барристера. Поскольку он решил не нарушать семейную традицию, карьера его шла по накатанной: престижные Итон и Тринити-холл в Кембридже, в 23 года принятие в Почтенное общество Миддл-Темпла, специализация по уголовному праву… Во время Второй мировой войны Мервин был призван в ряды вооруженных сил, проходил службу в престижном полку Колдстримской гвардии и в 1943 году получил Военный крест. Оставаясь на военной службе – к этому моменту он был уже подполковником – он был командирован в Нюрнберг, где был одним из многих и ничем не отметился.
Уволившись из армии в октябре 1946 года, Гриффит-Джонс, видимо учитывая приобретенный опыт, стал специализироваться на обвинении. С 1946 года он служил советником короны в квартальном суде Северного Лондона, а в 1950–1964 годах – в Центральном уголовном суде Олд-Бейли. Ему довелось поучаствовать в обвинении Рут Эллис (1955 год) – последней женщины, повешенной в Великобритании. Но известность ему принес процесс по делу о непристойности, на котором он в 1960 году требовал наказать издательство Penguin Books за публикации книги Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Всю Англию обошли его пламенные слова, обращенные к присяжным: «Одобрите ли вы, чтобы ваши маленькие сыновья и маленькие дочери (потому что девочки умеют читать так же, как и мальчики) читали эту книгу? Вы бы хотели, чтобы эта книга валялась у вас дома? Эту книгу вы хотели бы прочитать даже своей жене или своим слугам?» Присяжные сочли волновавшую обвинителя проблему «забавной», и процесс Гриффит-Джонс проиграл. В 1964 году он занял пост второго по старшинству судьи в Олд-Бейли и председательствовал на процессах по уголовным делам 15 лет – вплоть до 1979 года. К концу жизни у него прорезался талант художника, и в 1970-е в Лондоне состоялись три его персональные выставки.
Бывший помощник обвинителя скончался от почечной недостаточности в больнице Святого Стефана в Челси (Лондон) 13 июля 1979 года в возрасте 70 лет.
Другой помощник главного обвинителя – полковник Генри Джоселин ФИЛЛИМОР (Phillimore) – также мало кому запомнился в Нюрнберге, а вот сделал после войны неплохую карьеру в британской судебной системе. Он родился 25 декабря 1910 года в семье, представители которой из поколения в поколение служили судьями и адвокатами, добившись на этом поприще высоких отличий и титулов; правда, его отец – Чарльз Огастес – семейной традиции изменил и пошел по линии финансов, став в конце концов совладельцем банка Coutts Bank. Генри блестяще окончил Итон и Крайст-Черч в Оксфорде и в 1934 году был принят в Почтенное общество Миддл-Темпла. В июле 1939-го он поступил в артиллерию Территориальной армии, а после начала войны, в декабре того же года, переведен в действующую армию. В 1940 году Филлимор принял участие в Норвежской кампании, после которой – возможно, подключив свои связи – был переведен в Военное ведомство, в Департамент по делам военнопленных. По этой линии он как военный юрист принимал участие в работе Ялтинской конференции в 1944 году.
В 1945 году Филлимор был произведен в полковники, а в следующем году он получил звание полковника и был назначен секретарем Британского ведомства по военным преступлениям и в этом качестве принял достаточно активное участие в подготовке процесса Международного военного трибунала. Вполне закономерно он в конце 1945-го отправился в Нюрнберг, причем за свою деятельность во время процесса он по его окончании был награжден орденом Британской империи.
По возвращении на родину Филлимор занимал посты регистратора Пула (1946–1954) и Винчестера (1954–1959) и в 1952 году получил звание королевского адвоката. В 1959 году он стал судьей Высокого суда и получил рыцарское звание. Сначала он работал в подразделении по делам завещаний, разводов и Адмиралтейства, а с 1962 года – в Суде королевской скамьи. В 1968 году он достиг пика своей карьеры, получив должность лорда-судьи Апелляционного суда Англии и Уэльса. В апреле 1974 года Генри Филлимор вышел в отставку, а уже 4 июня того же года скончался в возрасте 63 лет.
Самым известным и влиятельным среди помощников главного обвинителя от Великобритании, безусловно, был Фредерик Элвин ДЖОНС (Jones) – он уже на тот момент был членом Палаты общин, и если честно, то должность помощника была для него несколько маловата, хотя, с другой стороны, депутатом он был молодым и не слишком опытным…
Помощник главного обвинителя от Великобритании Элвин Джонс
Он родился 24 октября 1909 года в валлийском городе Лланелли, в графстве Кармартеншир. После окончания школы он в течение года изучал историю в Уэльском университете в Аберистуите, а затем продолжил образование в колледже Гонвилл-энд-Киз в Кембридже. Затем он работал адвокатом-барристером и регистратором Мертира Тидфила, а параллельно показал себя талантливым журналистом и некоторое время подвизался на телевидении. В качестве журналиста он в 1930-е годы довольно долго жил в Германии и прекрасно знал немецкий язык, что позже, возможно, сыграло важную роль при принятии решения о его отправке в Нюрнберг.
После начала Второй мировой войны Джонс поступил в артиллерию Территориальной армии и 23 декабря 1939 года был произведен во 2-е лейтенанты, войну он закончил в звании майора. Джонс был лейбористом и на всеобщих выборах 1945 года, когда его партия одержала сокрушительную победу над консерваторами, он был избран членом Палаты общин парламента от Плейстоу (Восточный Лондон).
В конце 1945-го Джонс был направлен в Нюрнберг, где принял активное участие в работе британского обвинения. Возможно, за этим назначением стояло желание дать ему опыт работы обвинителем, поскольку в будущем предполагался еще целый ряд процессов над военными преступниками. Так и получилось: в августе – декабре 1949 года Джонс был ведущим обвинителем на Гамбургском процессе британского военного трибунала над генерал-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном – подсудимый был признан виновным в «недостаточном внимании к защите жизни гражданского населения» и применении тактики выжженной земли и приговорен к 18 годам заключения.
На очередных выборах в 1950 году вновь был избран в Палату общин, но теперь от Южного Уэст-Хэма. 16 октября 1964 года Джонсу пришлось забыть об активной парламентской деятельности (хотя членом Палаты общин он и остался), поскольку состоялось его назначение на пост генерального атторнея Англии и Уэльса, одновременно он был возведен в рыцарское достоинство. 19 июня 1970-го он оставил свой пост, а в феврале 1974 года вновь избрался в Палату общин, теперь уже от Южного Ньюхэма. Однако уже 4 марта того же года он был назначен лордом верховным канцлером Великобритании, а 11 марта ему был присвоен титул барона Элвин-Джонса из Лланелли в графстве Кармартен и Ньюхэма в Большом Лондоне (Baron Elwyn-Jones of Llanelli in the County of Carmarthen and of Newham in Greater London), одновременно он стал членом Палаты пэров, а его фамилия была официально изменена на Элвин-Джонс. Пост лорда-канцлера он занимал до 4 мая 1979 года
Умер барон Элвин-Джонс 4 декабря 1989 года в возрасте 80 лет в Брингтоне (Восточный Сассекс).
Наконец, последним помощником главного обвинителя был майор Джон ХАРКУРТ БАРРИНГТОН (Harcourt Barrington). Он входил в комиссию трибунала, которая исследовала обвинения против нацистских организаций, а также несколько раз выступал на процессе, например, он представлял доказательства обвинений против Франца фон Папена (который был в конце концов оправдан) и провел несколько допросов свидетелей.
Помощник главного обвинителя от Великобритании майор Джон Харкурт Баррингтон
Он родился 3 марта 1907 года в Лондоне в семье, имеющей ирландские корни, но уже в XIX веке переселившейся в Англию. Он получил образование в престижных Клифтон-колледже и Тринити-колледже в Кембридже, причем в последнем как лучший в успехах по юриспруденции получил государственную стипендию. В 1930 году он стал практикующим адвокатом-барристером. После начала Второй мировой войны Харкурт Баррингтон поступил в Королевскую артиллерию, в составе которой в 1944 году участвовал в высадке в Нормандии. Он успешно воевал во Франции, Голландии и Северной Германии, а в 1945-м вернулся в адвокатуру и практически сразу же получил предложение отправиться в Нюрнберг. После процесса он продолжил карьеру в судебной системе Англии и в 1955 году был назначен судьей окружного суда Бенча. Через 15 лет, в 1970 году, по состоянию здоровья Харкурт Баррингтон вышел в отставку, а еще через три года – 20 апреля 1973 года – скончался в Лондоне. Ему было 66 лет.
Обвинение от Франции
Главные обвинители: Франсуа Б.М.Ф. де Ментон (до января 1946 года); Ж. Ж. М. Огюст Шампетье де Риб (с января 1946 года).
Заместители главного обвинителя: Шарль Дюбо; Эдгар Ж. Фор.
Помощники главного обвинителя, начальники отделов: Пьер Мунье; Шарль Жертоффер; Дельфин Дебене; Жан Лери.
Помощники главного обвинителя: Жак Б. Эрцог; Анри Дельпеш; Серж Фюстер; Констан Катр; Анри Моннерей; Алин Шалюфур; Жан-Жак Лануар.
Французское обвинение оказалось единственным, где в ходе процесса сменился главный обвинитель. Сначала Францию представлял офицер Почетного легиона граф[36] Франсуа Бернар Мари Фидель де МЕНТОН (Menthon). По договоренности о распределении обязанностей между обвинителями, на процессе он представлял доказательства о преступлениях нацистов во Франции, а также Бенелюксе.
Главный обвинитель от Франции Франсуа де Ментон
Он родился 8 января 1900 года в Монмире-ла-Виле (департамент Юра) и происходил из древнего аристократического рода, ведущего свою историю от Святого Бернара и обладавшего когда-то довольно значительными поместьями. В 12 километрах к югу от Анси возвышается величественный замок Ментон-Сен-Бернар, который и в наши дни принадлежит сыну главного обвинителя. Его отец[37] – граф Анри де Ментон (1865–1952) – в 1919–1928 годах был депутатом Национального собрания от Верхней Соны. После окончания дижонской школы Сен-Франсуа-де-Саль де Ментон в 1916 году начал изучать юриспруденцию в Дижонском университете, а в 1920-м окончил юридический факультет Парижского университета. С молодых лет он интересовался политикой и в 1917–1930 годах входил в Католическую ассоциацию молодых французов (ACJF), причем сначала был ее генеральным секретарем, а в 1927–1930 годах – президентом. В 1929 году де Ментон стал преподавателем, а в 1930-м доцентом политической экономии в Университете Нанси и вступил в Народно-демократическую партию (PDP). В 1935 году он баллотировался в Национальное собрание, но проиграл, а в 1938-м вместе с Пьером-Анри Тетжаном основал журнал Droit social («Социальное право»).
С началом Второй мировой войны он был мобилизован в армию, в звании капитана принял участие в неудачной для Франции военной кампании 1940 года, 18 июня был тяжело ранен в боях на линии Мажино и взят немцами в плен. Его отправили лечиться в госпиталь в Сен-Дье, но, немного поправившись, де Ментон в сентябре 1940 года оттуда бежал и добрался до Верхней Савойи. В 1940–1942 годах он работал профессором Лионского университета (на территории подконтрольной правительству Виши). Вопрос для де Ментона «с кем быть» не стоял – уже в ноябре 1940 года он примкнул к движению Сопротивления. Ментон организовал выпуск подпольной газеты Liberté («Свобода»), выходившую в Анси, а затем и Марселе. В ноябре 1941 года вместе с Анри Френе возглавил более мощную группу Combat, которая объединила группу Liberté и «Движение за национальное освобождение». В ноябре 1942 года он стал членом Национального комитета советников – одного из руководящих органов Сопротивления. Ментон принимал участие в создании единого Национального совета Сопротивления, который объявил о своем подчинении находившемуся в Англии Шарлю де Голлю.
1 августа 1943 года де Ментон покинул Францию и бежал в Алжир, где присоединился к де Голлю и вскоре занял при нем пост комиссара юстиции Французского комитета за национальное освобождение. 10 сентября 1944 года он стал уже полноправным министром юстиции в первом – Временном – правительстве де Голля и принял участие в работе Конституционной ассамблеи. Отметился Ментон и в создании Народно-республиканского движения (Mouvement républicain populaire; MRP). Среди прочего он отвечал за суды над маршалом Петеном и Шарлем Моррасом, а также руководил чисткой судебной системы от вишистов, хотя левые его постоянно критиковали за, с их точки зрения, недостаточное рвение. 30 мая 1945 года он оставил министерский пост и вскоре был выбран де Голлем руководителем обвинения на будущем международном процессе над военными преступниками. На встрече в Лондоне участвовал в создании Международного военного трибунала, выработке его Устава и Регламента. Стоит отметить, что в принципе де Ментон был скорее политическим деятелем и специалистом по политической экономии, а не профессиональным юристом, что, казалось бы, должно быть важным при решении вопроса о кандидатуре обвинителя на столь представительном процессе. Этим французское руководство как бы показывало, что его точка зрения на этот процесс лежит скорее в политической, а не в юридической плоскости.
Главный обвинитель от Франции Франсуа де Ментон
От процесса де Ментона постоянно отвлекали политические проблемы на родине, он часто отсутствовал, а его обязанности исполнял Шарль Дюбо. На выборах в Учредительное собрание 21 октября 1945 года MRP добилась значительного успеха (да и сам де Ментон был избран депутатом), но одновременно проект Конституции был полностью провален, причем во многом этому способствовала позиция MRP. Де Голль не стал терпеть «оппозиционера» и 21 ноября 1945 года де Ментон потерял пост министра юстиции. В январе 1946 года во Франции разразился новый политический кризис – режим де Голля пал, а вместе с ним лишился своей должности в Нюрнберге и де Ментон. Правда, в июне – ноябре 1946 года он занимал пост министра национальной экономики в составе голлистского кабинета Жоржа Бидо.
В июне 1948 года де Ментон вновь привлек к себе внимание – он составил проект Основного закона «Объединенной Европы» (тогда эта идея поддержки не получила). Политику де Ментон не оставил – в 1946–1951 годах он был депутатом Национального собрания от Верхней Савойи, а затем вице-президентом (в 1949–1952 годах) и президентом (в 1952–1954 годах) Консультативной ассамблеи Европы, продолжая последовательно отстаивать идеи общеевропейской интеграции. 8 декабря 1958 года депутатские полномочия де Ментона завершились, и он сосредоточился на преподавании: в 1958–1968 годах он являлся профессором политической экономии в Университете Нанси. Кроме того, более 30 лет – с 1945 по 1977 год – он был мэром Ментон-Сен-Бернар.
Скончался профессор де Ментон 2 июня 1984 года в Анси и был погребен в семейном склепе в Ментон-Сен-Бернар.
20 января 1946 года за прокурорской кафедрой де Монтона сменил Жан Жюль Мари Огюст ШАМПЕТЬЕ де РИБ (Champetier de Ribes), который также был больше политиком, нежели юристом. Тем не менее он сыграл важную роль на процессе и выступил в т. ч. с большой заключительной речью.
Главный обвинитель от Франции Огюст Шампетье де Риб
Он родился 30 июля 1882 года в окружном и кантонном центре Антони (департамент О-де-Сен) в семье потомственных юристов: его дед был членом Парижского апелляционного суда, а отец – нотариусом. Начальное и среднее образование он получил в самой престижной частной католической школе в Париже – гимназии Станисласа. В 1900 году в Парижском университете ему вручили диплом бакалавра, а в 1903-м – магистра филологии и права. В 1905 и 1906 годах он проходил стажировку в семейной нотариальной конторе, а 12 марта 1907 года вступил в Парижскую коллегию адвокатов.
С началом Первой мировой войны 11 августа 1914 года он был призван в армию сержантом 50-го пешего егерского батальона, за отличия в боях в Лотарингии 8 октября 1915 года ему было присвоено звание су-лейтенанта, и он был назначен заместителем командира 50-го егерского батальона. 17 октября 1915 года Огюст в боях под Рейоном получил свое первое ранение (пулей в левое плечо), а в следующем году (24 октября 1916-го) получил тяжелое ранение в боях под Верденом и лишился двух пальцев на правой руке. 5 ноября 1916-го его храбрость в боях была отмечена, и он стал кавалером Почетного легиона, но на фронт уже не вернулся. 3 октября 1918 года он был произведен в капитаны, а 26 февраля 1919-го демобилизован с инвалидностью 60 %. В боях с немцами погибли один родной и три его двоюродных брата…
Уже в молодости Шампетье стал убежденным сторонником христианских социалистов, а во время войны примкнул к Народно-демократической партии (Parti démocrate populaire; PDP), от которой он в 1924–1934 годах избирался в Национальное собрание (от департамента Верхние Пиренеи). В 1929–1940 годах он занимал пост президента PDP, т. е. был политиком общефранцузского масштаба.
Уже будучи сформировавшимся и влиятельным политиком, Шампетье с 3 ноября 1928 года по 21 февраля 1930-го занимал пост заместителя государственного секретаря финансов, затем был министром пенсий (2 марта – 13 декабря 1930-го, 27 января 1931—3 июня 1932-го; в последний раз, кстати, в правительстве Пьера Лаваля, который во время следующей войны стал одним из лидеров французских коллаборационистов, а после войны был расстрелян по приговору французского суда). 9 декабря 1934 года Шампетье был избран в Сенат и оставался сенатором вплоть до падения Франции в 1940-м (формально его полномочия завершились 31 декабря 1944-го). 10 апреля 1938 года он занял пост министра по делам ветеранов и пенсионеров, 13 сентября 1939-го стал заместителем государственного секретаря по иностранным делам и оставался на этой должности практически до краха Франции 10 мая 1940 года. 2 июня он получил известие о гибели 1