Работа любви
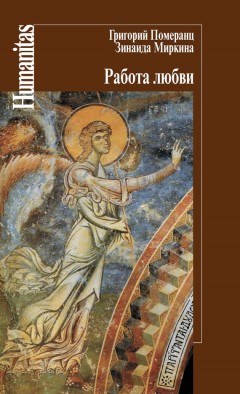
© Левит С.Я., составление серии, 2013
© Миркина З.А., 2013
© Центр гуманитарных инициатив, 2013
А все-таки оно есть. Методология счастья. О поэтессе Зинаиде Миркиной и философе Григории Померанце
В истекшее пятнадцатилетие писать о людях счастливых стало не только не принято, но едва ли не признаком дурного тона. Вспоминаю, как лет пять назад предложил одному солидному общественно-политическому журналу статью о Г. С. Померанце. Было это вскоре после дефолта. Редактор, пробежав глазами несколько строк, выразил явное недоумение: «Страна разваливается, а вы о Померанце»! Но страна, слава Богу, уцелела, а статья «Последний мудрец заката империи» вышла в не столь захваченной политическими страстями «Учительской газете». Анализировались в ней философские и культурологические воззрения мыслителя, сполна вкусившего от горечи века: фронт – лагерь – диссидентство и сумевшего выйти из этих испытаний с просветленной душой и ясным острым умом. Но с той поры меня не покидало чувство недосказанности об этом человеке чего-то важного, быть может, самого главного, и уж во всяком случае не менее ценного в его жизни, чем подвластные ему глубина мышления и поистине вселенская широта кругозора.
Имея честь из года в год близко наблюдать глубоко сокровенный личный, творческий союз Григория Соломоновича Померанца и Зинаиды Александровны Миркиной, я пришел к выводу, что оба они, пройдя через предельные испытания, научились быть счастливыми. «Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, – потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней и бед» (Померанц Г.С. Записки гадкого утенка. М., 2003, с. 213). Однако уместно ли говорить о возможности научиться счастью? Разве не даруется оно свыше, являя собой талант особого рода? Моцартовское ощущение полноты бытия, переполняющее душу через край, изливающееся в гармонии звуков, – награда не от мира сего. З. А. Миркина и Г. С. Померанц – люди исключительной одаренности. Но дар их, да простится этот невольный каламбур, не был ниспослан им даром, а обретен в результате собственной долгой, растянувшейся на десятилетия, напряженной духовной работы. Тем важнее педагогу хотя бы приблизиться к пониманию «методологии» обретения счастья, чтобы затем вооружить ею своих воспитанников. Записав последнее предложение, с большой долей самоиронии представил себе, как в планах воспитательной работы школы появляется новый раздел: методические рекомендации по обретению счастья. На память немедленно приходит хрестоматийная фраза Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастливым – будь им!».
Но разговор на эту тему, волнующую любого человека и тем более подростка, немедленно вызывает напряженное отчуждение, как правило, прикрываемое иронией. Почему? Тому есть много причин: религиозных, философских, психологических. Все мировые религии подчеркивают хрупкость, ненадежность любых земных устроений: «Всё суета сует…». Философские построения и выросшие из них социальные утопии, ориентирующие человека на построение Царства Божьего на земле, к исходу двадцатого столетия окончательно дискредитировали себя. Но даже в разгар официально навязанного приступа счастья, когда едва ли не в каждом углу висела вырванная из контекста фраза Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета», внимательные люди обращали внимание на то, что в рассказе писателя-демократа эту сентенцию произносит безногий, опустившийся инвалид. В ответ официальному оптимизму тогда родилась саркастическая шутка (в силу российской специфической истории), дожившая до наших дней: «С таким счастьем – и на свободе». Пожалуй, напрасно В. Каверин ради ложной красивости перефразировал для эпиграфа «Двух капитанов» известное изречение. У Каверина: «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Но если уже нашел, то с чего же сдаваться? Радуйся и торжествуй. В подлиннике, у Ромена Роллана: «Бороться, искать, не найти и не сдаваться». Согласимся, что в истинной, не искаженной редакции доблести все же больше.
Психологически можно понять людей счастливых, но предпочитающих умалчивать об этом редком состоянии души. Зачем говорить, когда и так все написано на лицах? Прилично ли ощущать радость бытия, когда вокруг всегда столько горя?
И, наконец, счастье счастью – рознь. Как и несчастье – несчастью…
Зинаида Александровна Миркина рассказывала, что по выходе из одного и того же лагеря у ее подруги поочередно побывали три его бывших узника. Первый, усевшись на табуретку, обхватив голову руками, произнес: «В лагере было ужасно!» Второй, более сдержанный в оценках, отметил, что в лагере было трудно. А третий, показавшийся ей тогда до крайности легкомысленным, заявил: «В Ерцеве было хорошо!». Это и был Григорий Соломонович Померанц. Перефразируя уже приведенную выше шутку, можно сказать: с таким счастьем и не на свободе! Сам бывший сиделец объяснял истоки своего состояния так: «Видимо, от рождения я был наделен чувством природы. А на Севере были удивительные белые ночи. Кто не видит природы, замечает лишь колючую проволоку». Особую достоверность и убедительность нашему разговору придавало то обстоятельство, что происходил он на палубе судна на обратном пути с Соловков, в самый разгар белых ночей. За двенадцать часов хода до Архангельска Зинаида Александровна проспала лишь час. Все остальное время она провела на палубе, вглядываясь в море и нескончаемый закат.
Даром созерцания природы они оба наделены безмерно. Хотя, что значит наделены? Кто-то ведь дал первый толчок, запустил, как выражаются психологи, дремлющий до поры механизм восприятия. Что касается Г. С. Померанца, то ответ на этот вопрос находим в его книге-исповеди «Записки гадкого утенка»: «Я помню, как мама в 1937 году показала мне на пляже поэта Нистора, часами глядевшего куда-то за горизонт. Я не пытался с ним заговорить, но искоса поглядывал на него… Что он там видел?». Вот так: созерцать созерцающего и постепенно учиться самому. Чем не методика? Последним из российских педагогов двадцатого столетия, кто осознанно, серьезно и последовательно учил своих воспитанников получать радость и испытывать счастье от волшебной встречи с природой, был В. А. Сухомлинский. Затем наступила эпоха экологического воспитания, отрицать важность и необходимость которого было бы в современных обстоятельствах, по меньшей мере, не разумно. Но в том-то и дело, что на одном разуме не строится личность человека.
Подобно князю Мышкину, Зинаида Александровна и Григорий Соломонович искренне не понимают: как можно видеть, к примеру, сосну и не быть счастливым? Для обоих (и они этого не скрывают) – природа выше музыки, поэзии и философии. Будучи, безусловно, людьми культуры, тонко чувствующими все ее ходы в прошлом и настоящем, они менее всего тяготеют к фаустовскому образу кабинетного мыслителя. Их кабинеты – лес с непременным костром, берег реки, морской залив. Именно там рождаются стихи, историософские прозрения и религиозные интуиции.
- Когда доходит до нуля
- Весь шум и, может быть,
- все время,
- Я слышу, как плывет земля
- И в почве прорастает семя.
- И, обнимая небосвод
- Крылами неподвижной
- птицы,
- Душа следит, как лес растет
- И в недрах смерти жизнь
- творится.
- Я осязаю ни-че-го.
- И всё. – Ни мало и ни много —
- Очами сердца своего
- Я молча созерцаю Бога.
Помимо прочих достоинств, эти стихи избавляют от необходимости подробно объяснять, чем созерцание отличается от простого и привычного любования природой уставшего от суеты горожанина.
- Созерцанье —
- не наслажденье.
- Это – слушанье и служенье,
- Зов архангельский, – звуки
- рога
- Сердце слушает голос Бога.
- Тот, что тише полета мухи.
- Это – богослуженье в Духе.
- Гармоничней, чем шорох
- лиственный.
- Это – богослуженье в Истине…
Два ярких творческих человека, соединенных семейными узами, – это всегда серьезная проблема. История культуры знает немало примеров плохо скрываемого напряженного внутрисемейного соперничества, приводящего к срывам, трагедиям, весьма запутанным отношениям. Блок и Менделеева, Ходасевич и Берберова – список можно продолжить… Но в данном творческом союзе никто не стремится к верховенству, интеллектуальному, моральному и психологическому доминированию. Ни тени попытки продемонстрировать свое превосходство ни друг другу, ни окружающим их людям. Здесь у Григория Соломоновича был долгий процесс самовоспитания. Обратимся к одному лагерному эпизоду, который многое проясняет…
«Мой товарищ объяснил мне и Жене Федорову особенности своего ума; выходило, что он всех лучше, но выходило медленно, потому что Виктор был действительно умный человек и не хотел грубо сказать: «я всех умнее», а тактично подводил нас к пониманию этого. Я слушал и думал: „врешь, братец, умнее всех я“, – но вслух ничего не говорил. В этот миг Женя, дерзкий мальчишка, сказал: «а я думаю, что я всех умнее». Виктор опешил и замолчал. Мы подошли к уборной, вошли в нее. Через очко было видно, как в дерьме копошатся черви. Почему-то эти черви вызвали во мне философские ассоциации. (Может быть, вспомнил Державина: я раб, я царь, я червь, я Бог?) Что за безумие, – подумал я, – как у Гоголя, в „Записках сумасшедшего“. Каждый интеллигент уверен, что он-то и есть Фердинанд седьмой. Было очень неприятно думать это и еще неприятнее додумать до конца: мысль, что я всех умнее, – злокачественный нарост; надо выздороветь, надо расстаться с этим бредом, приросшим ко мне. И с решимостью, к которой привык на войне, я рубанул: „Предоставляю вам разделить первое место, а себе беру второе». Я испытал боль, как при хирургической операции или при разрыве с женщиной, с которой прожил 20 лет (я жил с этой мыслью с 13 до 33). Но я отрубил раз и навсегда. С этого мига начался мой плюрализм. Я понял, что каждому из нас даны только осколки истины и бессмысленно спорить, чей осколок больше. Прав тот, кто понимает свое ничтожество и безграничное превосходство целостной истины над нашими детскими играми в истину». («Записки гадкого утенка», с. 20). Излагая устно этот эпизод, Григорий Соломонович обычно скороговоркой добавляет: «С этого начался путь к счастью». И когда я спросил: почему? Он ответил: потому что чувство превосходства, уверенность в своей правоте разрушает и любовь, и дружбу. Но если пробуждение от себя любимого произошло у него вследствие интеллектуального бесстрашия, привычки додумывать любую мысль до конца, какой бы неприятной она ни оказалась в итоге, то у Зинаиды Александровны оно связано с глубоким целомудренным религиозным чувством:
- О, Господи, при чем тут я,
- Когда вся глубина Твоя,
- Вся бездна бездн растворена
- И силы творческой полна?
- При чем тут я? При чем?
- Зачем,
- Когда так целокупно нем
- Простор бессолнечного дня
- И он берет в себя меня?
- При чем тут я, когда есть лес
- И в нем последний крик
- исчез
- Лишь дятел бьется,
- сук долбя…
- О, пробужденье от себя!
- Наплыв великой высоты…
- При чем тут я, когда есть Ты?
На Соловках Григорий Соломонович поведал о своем давнем сне в те годы, когда переводились сказки острова Бали: «Я умер и предстал перед Шивой. Бог Шива восседал во всем своем блеске. Вдоль стен большой комнаты на длинных скамьях, как в сельском клубе, располагались праведники, взиравшие на Шиву. И я подумал: какое счастье видеть стольких достойных людей, неизмеримо лучших, чем я. Однако сразу же пришла другая мысль: но ведь есть достаточно тех, кто гораздо хуже меня. И сразу разверзлась пропасть… И я проснулся».
Шива пришел из сказок, но сновидение его приняло, не смутилось странным обликом Бога. Ведь Григорий Соломонович по своим религиозным воззрениям – суперэкуменист, т. е. человек, который видит и чувствует глубинную, сокровенную общность главных установлений всех мировых религий. Он, по его же слову, привык жить в пол-оборота на Восток. (Диссертацию по буддизмудзэн в свое время диссиденту так и не дали защитить.) Прекрасно чувствуя себя в межконфессиональном пространстве, не боясь оторваться от перил богословия, он искренне убежден, что Бог выше и глубже наших слов и разногласий, а на самой большой глубине мировые религии сплетаются корнями. При этом ни малейшего стремления соединить голову овцы с туловищем быка, совместить несовместимое. А таких дилетантских попыток, связанных с поверхностной, наносной религиозностью, истекший век знал немало. Каждая великая религия – неотъемлемая часть великой культуры, но созерцание, медитация и молитва – это укорененные в разных культурах общие пути постижения вечности. Отсюда – равно уважительное, серьезное отношение и к евангельской притче и к буддистскому коану. У Зинаиды Александровны душа – христианка, что не мешает ей тонко чувствовать и переводить поэтов исламского суфизма, Рабиндраната Тагора и Рильке. Оба Дух ставят выше буквы.
- И я уже не знаю ничего.
- Я – чистый лист, я – белая
- страница.
- И только от Дыханья Твоего
- Здесь может буква зыбкая
- явиться.
- Да, Ты ее напишешь
- и сотрешь,
- И это – высший строй,
- а не разруха,
- Ведь есть всего одна
- на свете ложь:
- Упорство буквы перед
- властью духа.
Непредвзятость и открытость разным религиозным и культурным традициям предопределили успех их совместной книги «Великие религии мира», выдержавшей два издания и ныне принятой в качестве учебника в ряде высших учебных заведений.
О таких людях обычно говорят: живут напряженной духовной жизнью. Но в том-то и дело, что чрезмерное напряжение, чреватое экзальтацией и срывами, им совершенно не свойственно. Высокий строй души и глубина мысли дарят спокойствие, сосредоточенность, умение, выражаясь словами Г. С. Померанца, подныривать под абсурд или жить, поднимаясь хотя бы «на два вершка над землей». Спокойствие это не назовешь надменным, холодным, олимпийским. Оно мудрое, терпимое, лишенное ригоризма мучеников всяческих догм. Потому-то десятилетиями к ним тянутся люди разных чинов и званий: молодые и зрелые, уже оставившие свой след в культуре и только постигающие ее глубины.
Среди прочих бывал в доме поэт Борис Чичибабин. В своих «Мыслях о главном» он писал: «Да будут первыми словами этих моих раздумий на бумаге, которые сам не знаю куда меня заведут, слова благодарности и любви. В начале 70-х судьба подарила мне близкое общение с двумя замечательными людьми – Зинаидой Александровной Миркиной и Григорием Соломоновичем Померанцем, вечное им спасибо!
<…> Сейчас имена Миркиной и Померанца стали известны многим, а тогда, особенно если учесть, что жили мы далеко друг от друга, в разных городах, найти их и обрести в них родных и близких людей было чудом. На протяжении нескольких лет они были моими духовными вожатыми. (Разрядка моя. – Е. Ямбург) Если он останется в моих глазах примером свободного и бесстрашного интеллекта, то она, Зинаида Александровна, на всю мою жизнь пребудет для меня совершенным воплощением просветленной религиозной духовности, может быть, того, что верующий назвал бы святостью.
Величайшим счастьем моей жизни были их беседы, во время которых они говорили оба, по очереди, не перебивая, а слушая и дополняя друг друга, исследуя предмет беседы всесторонне, в развитии, под разными углами, с неожиданными поворотами. Хотя говорили она и он, это был не диалог, а как бы вьющийся по спирали двухголосный монолог одного целостного духовного существа, из снисхождения к слушателю, для удобства восприятия и ради большей полноты разделившегося на два телесных – женский и мужской – образа» (Чичибабин Б. И все-таки я был поэтом… Харьков, 1998, с. 7). Замечательно, что Г. Померанца и З. Миркину своими духовными вожатыми называет не юноша, обдумывающий житье, а зрелый, значительный поэт, много претерпевший в жизни: фронт – лагерь – отлучение от профессиональной литературы (до середины восьмидесятых работал бухгалтером в трамвайном парке г. Харькова). Как знать, может быть, под воздействием этих бесед появились его чеканные строки:
- Еще могут сто раз на позор и
- на ужас обречь нас,
- но, чтоб крохотный светик
- в потемках сердец не потух,
- нам дает свой венок – ничего
- не поделаешь – Вечность,
- и все дальше ведет – ничего
- не поделаешь – Дух.
Близкое общение с этой семьей судьба подарила поэту в 70-е годы, мне – в 90-е. Но смею уверить, что за два десятилетия мало что переменилось. Двухголосный монолог одного целостного существа, слава Богу, продолжается и по сей день.
- Я, ты и небо перед нами —
- Над нами небо, и вокруг
- Рассвета тлеющее пламя
- И сердца еле слышный стук.
- Чьего? Но нас уже не двое.
- Мы в этот час одно с тобою
- И с небом. И когда бы, где бы
- В нас не иссяк всех сил
- запас, —
- Нам только бы застыть под небом,
- Входящим тихо внутрь нас.
Как-то вскользь Григорий Соломонович заметил: «Пожилая женщина пишет как семнадцатилетняя девушка. Зиночка влюблена, влюблена в Бога!». Сказано было спокойно, без ревности. В самом деле, как можно ревновать к Высочайшему? Действительно, в редких стихах З. Миркиной местоимение «ты» не с заглавной буквы. Однако меньше всего хотелось бы представить обоих существами бесплотными, живущими в мире платоновских идей. Это совсем не так. Любовь к Богу ни в коем случае не отрывает Зинаиду Александровну от любви к мужу, а только бесконечно углубляет эту любовь. И возраст тут ни при чем. За 43 года их совместной жизни чувство это никак не изменилось.
- Мы два глубоких старика.
- В моей руке – твоя рука.
- Твои глаза в глазах моих,
- И так невозмутимо тих,
- Так нескончаемо глубок
- Безостановочный поток
- Той нежности, что больше
- нас,
- Но льется в мир из наших
- глаз,
- Той нежности, что так полна,
- Что все пройдет, но не она.
Не боясь упреков в отжившем свой век сентиментализме, со всей ответственностью свидетельствую: их личные отношения – не благостная идиллия старосветских помещиков, а глубокая взаимная страсть, облагороженная взаимной волей сделать счастливыми друг друга. Ее неослабевающий с годами накал – источник неиссякаемого вдохновения. Редко кому удается не утерять со временем «буйство глаз и половодье чувств». Есенинские строки всплыли в памяти не случайно. Поэт сожалеет об утраченной свежести, исчерпанности чувств; растраченность и опустошение – состояние, которое неизбежно наступает вслед за буйством и половодьем. Как же может быть иначе? На то она и страсть, дабы быть альтернативой сдержанности, выверенной осторожности. Сдержанная страсть – что-то вроде несоленой соли. Оказывается – может!
«Легче было лежать живой мишенью на окраине Павловки, чем сказать Ире Муравьевой (И. Муравьева – покойная жена Г. Померанца, сгоревшая от туберкулеза всего через три года после их брака. – Прим. Е. Ямбурга), что я прошу ее не прикасаться ко мне тем легким, едва ощутимым прикосновением, одними кончиками пальцев, на которое я не мог не ответить, а ответить иногда было трудно, и потом весь день разламывало голову. Ира приняла это по-матерински. И очень скоро пришло то, о чем я писал в эссе “Счастье”: достаточно было взять за руку, чтобы быть счастливым. Сдержанность вернула чувству напряженность, которой, кажется, даже в первые дни не было. (Здесь и далее разрядка моя. – Е. Ямбург) Я стал уступать порыву только тогда, когда невозможно было не уступить, – и относился к нему, как к дыханию, которое должно пройти сквозь флейту и стать музыкой. Сразу осталось позади главное препятствие в любви (когда не остается никаких препятствий). А как долго я медлил, как не решался сказать! Как боялся выглядеть жалким, смешным, ничтожным, слабым!
Если бы все люди вдруг увидели себя такими, какие они есть, и прямо об этом сказали – какой открылся бы простор для Бога, действующего в мире!» («Записки гадкого утенка», с. 77).
Во времена всеобщего раскрепощения, в том числе и в чувственной, эротической сфере, нам больше всего не хватает не фальшивого казенного пуризма предшествующей эпохи, с его внешними запретами и ограничениями, а тонкого инструмента, той самой флейты, рождающей музыку любви. Точнее – воли настраивать самого себя как инструмент счастья. И тогда – возраст не в счет. В дивной музыке захватывает все, включая послезвучие… Но самое главное: в симфонии любви исчезает отчаяние, отступает страх перед неотвратимым, которые поэт прекрасно знает в людях и описывает в своей поэме «Stabat Mater»:
- Как страшно вылезать
- из сна!
- Вдруг вспомнить: каждый
- в одиночку.
- Смерть лишь на миг дала
- отсрочку,
- Но – вот она. Опять она.
- Так, значит, можно
- разрубить
- Сплетенье рук, срастанье,
- завязь?!
- Не может быть, не может быть!
- Мы… милый мой, мы обознались!
- Ведь это – мы! Какой судьбе
- Под силу душу выместь, вылить?!
- Мне больше места нет в тебе?
- А где же быть мне? Или?.. Или?..
- Крик оборвался. Стон затих.
- Смерть глушит крик и всплески тушит.
- ……………………………………………………….
- Как может вдруг не стать живых?
- Как может смерть пробраться в души?!
Так и живут вместе долгие десятилетия эти люди: философ и поэт, мужчина и женщина, живут неслиянно и нераздельно, являя собой зримый, осязаемый пример достойного Бога земного человеческого существования.
Читающий эти заметки вправе задать вопрос: а что, собственно говоря, здесь нового? Разве все великие книги человечества не учат смирению гордыни и сдержанности в проявлении страстей, не призывают к созерцанию и молитве как способам постижения Высочайшего, не настраивают на добросердечие? Нового здесь действительно нет ни-че-го! Но в том-то и существо незамутненного временем педагогического взгляда на вещи, что воспитание чувств не по части модернизации образования и не по ведомству, отвечающему за формирование ключевых компетенций. Здесь более уместно говорить об архаизации в смысле возвращения к вечным, нетленным человеческим ценностям. Это достаточно очевидно для любого вдумчивого педагога. Проблема в другом. Многие из тех, кто сегодня отстаивает начала духовности и культуры перед натиском прагматизма, держатся не столько за суть, сколько за обветшалые формы, вызывающие естественное отторжение у нынешних молодых людей. Буква в который раз превозносится выше Духа. Тем бесценнее опыт людей, умеющих собирать себя (выражение Г. Померанца) даже перед лицом великих испытаний. Есть разные пути самостроительства личности. Разумеется, у каждого человека этот путь в определенном смысле уникален и неповторим: для кого-то толчком для движения в нужном направлении служит вовремя прочитанная книга, другому помогает волшебная встреча, третий прозревает при обрушившемся на него несчастье. Но при любых обстоятельствах услышать может лишь имеющий уши. А это означает, что для постижения вечных ценностей на каждом временном отрезке от каждого требуются неимоверные личные усилия и личное духовное творчество. Причем важными оказываются не только сами истины, но и созерцание процесса их бесконечного переоткрытия, личностного сокровенного обретения. «Ни одна заповедь не действительна во всех без исключения случаях; заповедь сталкивается с заповедью – и неизвестно, какой следовать, и никакие правила не действительны без постоянной проверки сердцем, без способности решать, когда какое правило старше. И даже сердце не дает надежного совета в запутанном случае, когда двое и больше людей чувствуют по-разному, и тогда решает любовь. <…> Иногда я решал интересные вопросы; но самое главное, что меня толкает к бумаге, – круженье вокруг неразрешимого, бесконечные попытки дать безымянному имя (сегодня, сейчас: вчерашние имена недействительны). («Записки гадкого утенка», с. 193–195).
Мне кажется, что об этом же, но по-своему, прекрасными своими стихами сказала Зинаида Миркина.
- Качнулся лист сырого клена,
- И тихо вяз зашелестел.
- Душа живет иным законом,
- Обратным всем законам тел.
- В ней нет земного тяготенья
- И страха перед полной тьмой,
- Ей все потери – возвращенья
- Издалека к себе самой.
- О, эти тихие возвраты…
- Листы летят, в глазах рябя.
- И все обрывы, все утраты
- Есть обретение себя.
В эпоху безвременья, хаоса, смуты в головах и сердцах, когда мысли вразброд, а чувства растрепаны, стоит присмотреться к людям искушенным, отмеченным редким даром сотворчества с Вечностью.
Зинаида Миркина и Григорий Померанц, безусловно, из этой когорты.
Евгений Ямбург
Предисловие
Эта книга – итог своеобразного начинания. В Ко (Коммуна Монтрё, Швейцария), на конференциях Общества морального перевооружения (впоследствии переименованного в «Инициативу перемен»), мне понравился «час общин», с 11 до 12 утра. Общины создавались каждые несколько дней заново, по мере приезда участников того или иного цикла занятий. Сходились по языку, на котором могли общаться без переводчика, и по привязанности к руководителю, по опыту прошлых лет. Я ходил к Хайнцу Кригу, старому учителю из Западного Берлина, инвалиду проигранной войны, для нас – Отечественной. К счастью, наша встреча в районе Сталинграда не состоялась. Увидев друг друга через полвека, мы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Он стал одним из самых чутких слушателей моих докладов, а я – одним из самых активных участников его «общины».
Хайнц захватывал своей искренностью. Он рассказывал какой-то трудный случай из своей жизни (иногда прося не выносить сора из избы – «ведь мы одна семья»), а потом мы обсуждали аналогичные проблемы. За большим столом сидели рядом рабочий-электрик и профессор, но каждый находил что сказать, и всем интересно было слушать. У нас в Москве это бы так легко не получилось. Не было традиции, созданной основателем общества, Фрэнком Букманом (так по-английски произносится его немецкая фамилия Бухман, 1878–1961. Есть книга о нем на русском языке – «Поспеть за Богом», не говоря о книгах на европейских языках). Надо было создавать традицию, и я решил расширить вводное слово, превратить его в маленькую лекцию, способную задеть за живое.
Так родилась моя первая лекция «Возможна ли чистая совесть?». Но как только я кончил, вошла уборщица с ведром и метлой и велела убираться. Ее рабочий день кончился, и она не согласна оставаться сверхурочно. Обсуждение произошло в раздевалке. Обрывки разговоров никто, конечно, не записывал. К сожалению, и в дальнейшем, когда метла нам не угрожала, запись прений оставалась ахиллесовой пятой наших занятий. Обсуждение иногда затягивалось часа на полтора, не уступая лекции по глубине, но сохранилось (если сохранилось) только в частных аудио- и видеозаписях, очень несовершенных.
Темы занятий, как читатель увидит, полистав содержание, все расширялись. Некоторые занятия напоминали зародыш Религиозно-философского общества. Постепенно в его работу втянулась и Зинаида Миркина, сперва только помогавшая мне отвечать на вопросы. В конце концов Зинаида Александровна стала выступать и с содокладами. В книге эта перекличка оборвалась на полуслове. По моей шутке, в которой есть доля правды, я разговаривал с историей, поглядывая с надеждой на Бога, а Зина разговаривала с Богом, поглядывая с ужасом на историю.
Кое-что из выступлений наших слушателей уцелело в аудио- и видеозаписях и может быть собрано, но у нас на это не хватает сил. Что есть, то есть. В книгу не вошли лекции «Созерцатели нашего века» («Уязвимость Антония Блума», «Вера и неверие Мартина Бубера», «Созерцание Томаса Мертона»), которые напечатаны в серии «Антология выстаивания и преображения» в 2003 году во 2-м томе «Неуслышанных голосов» (с. 344–375).
Быть может, книга даст толчок для нескольких дискуссий – более широких, чем наш маленький московский семинар. Мы с Зинаидой Александровной готовы принять в них участие.
Григорий Померанц
I. Лекции конца века
Работа любви
Когда мы говорим: «моя совесть чиста!»? Как раз тогда, когда дела идут плохо, не по совести, но ты думаешь, что от тебя ничего не зависело и ничего ты не можешь сделать. В этом возгласе есть нечто вроде алиби: не я убил, меня при этом не было.
Совесть может быть чиста там, где речь идет вообще не о совести, а о строго сформулированном праве: я уплатил за квартиру, за электричество, за газ, уплатил арендную плату… И то – если другие жильцы, другие арендаторы бойкотируют, отказываются платить, простой вопрос сразу становится сложным. А во всяком запутанном деле нельзя остаться чистым. Иван Карамазов уехал в Чермашню и оказался соучастником Смердякова. А если бы не уехал? Вот случай, о котором я недавно прочел: сын вычеркнул отца, фабриканта, из списка на высылку в Сибирь. Семья осталась в Литве – и погибла вместе с другими евреями в 1941 г. (в ссылке – могли бы уцелеть).
Чиста ли совесть у пенсионеров, клянущих Гайдара? Что пенсионеры думали в 56-м году, когда давили Венгрию, в 68-м, когда давили чехов? Одобряли и поддерживали. Между тем, я убежден: если бы реформы начались на тридцать лет раньше, когда не все насквозь прогнило, многих нынешних провалов удалось бы избежать…
Чиста ли совесть у демократов, у того же Гайдара? Он уверен, что чиста: его правильную теорию просто не дали правильно выполнить. А кто доказал, что русский человек, после 70 лет советской власти, будет действовать по правилам, установленным в Америке?
Чиста ли совесть у диссидентов, просто отказывавшихся думать, что делать в случае победы, какую проводить политику? Выйдя из тюрем и лагерей, они ничего не могли предложить и постепенно успокоились на том, что это не их дело. Лариса Богораз признавала это своей виной.
Чиста ли совесть у солдата, выполнявшего приказ? В 1944 году я совершенно вжился в свою военную форму, приказ был для меня закон. Приказ разрешал рукоприкладство, и во время ночной смены позиций я ткнул в бок солдата, загремевшего снаряжением. Солдат, годившийся мне в отцы, выговорил свою обиду и пристыдил меня; до сих пор помню свой стыд. А потом стыд, что не помогли восставшей Варшаве. Мы без приказа стали сматывать палатки, как вдруг неожиданно: ставить палатки на место! И потом по радио: помочь Варшаве нельзя. По стратегическим причинам. Целый день офицеры, встречаясь глазами, отворачивались, стыдно было. На другой день привыкли: не наше дело – высокая политика, и я привык. Не стал додумывать мысль до конца. Хотя умел это делать и в 38-м, 39-м году не блеял, как овца. Связал страх остаться одному против всех (все ложь Главнокомандующего проглотили). Пока я был один – мыслил, а укоренившись в стае, в почве, в народе, – лаю по-собачьи, блею по-овечьи.
Я образ и подобие Бога, и я наследник зверей, оставивших след в моих генах. Апостол Павел плакал об этом. Он не знал про гены, писал другими словами: в членах моих нахожу желание греха, плоть моя противится Божьему слову. В духе сознание Целого Вселенной, сознание капли, тождественной океану, – и во плоти сознание умного животного, ищущего, как обойти, обогнать другого, съесть другого.
Пушкин писал: не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. А что, если мысль о продаже вмешивается в само вдохновение? И повернет перо так, чтобы выгоднее продать? Я пишущий человек, я это знаю.
Выгоды могут быть разные, очень иногда тонкие: желание славы, желание посмертной награды; думать о достойном ответе на Страшном суде – одно, а рассчитывать на награду – совершенно другое. Отец Сергий подгнил от любования своей святостью, и Силуану было сказано: «держи ум свой во аде и не отчаивайся!».
Есть общий смысл в христианском принципе «я хуже всех» и в буддийской теории иллюзорности «я», «анатта». Разные философские высказывания, но направленность у них одна: преодолеть обособленность «я», выйти из двойственности. Но преодоленная двойственность всплывает заново. Поиск выгоды неотделим от жизни. Целостность не может до конца поглотить частный интерес. Отсюда нешуточный ответ александрийского сапожника святому Антонию: «все спасутся, один я буду гореть в аду», и понимание Антония, что этот ответ выше всех его подвигов. Вот первый раскол: целостность и частный интерес.
Второй раскол – внутри разума, сознающего Целое, внутри долга. Существует такое понятие – коллизия законов. Один закон велит, другой запрещает. Но так и с заповедями. Приведу сразу пример. Об этом было в газетах. Диссидент Болонкин получил срок – три года. Он не был сломлен, и в лагере ему пришили еще три года. За это время сын Болонкина подрос и стал заводить плохие знакомства. Письма в лагерь проходят сквозь цензуру, и гэбэшники знают, что у кого болит. Болонкину опять предложили выбор: или он покается по телевизору, или третий срок. Чувства отца столкнулись с гражданским долгом. Болонкин согласился, на него надели приличный пиджак, а брюки остались лагерные, их под столом не видно, и все нужные слова попали на голубой экран. Среди моих друзей было много диссидентов, никто Болонкина не осуждал. Осуждали Дудко, Красина, Якира: струсили. А здесь долг столкнулся с долгом.
Безусловная верность одному долгу оборачивается топтаньем других долгов. Есть история 48 ронинов (т. е. безработных самураев-вассалов, оставшихся без сюзерена). Это подлинный случай, но он был пересказан Бакином, так что это и факт, и классическая японская литература XVIII в. Некий даймьё (лорд) вступил в конфликт с важным чиновником бакуфу (правительство) и был им погублен. Вельможа знал, что ему будут мстить, и нанял сильную стражу. Пришлось ждать несколько лет. Чтобы как-то прожить, многие ронины, оставшиеся без средств, продали своих жен в публичные дома. Наконец, подозрительность вельможи была усыплена, и он распустил часть стражи. Тогда ронины напали на его замок и выполнили то, что считали долгом чести. Потом они явились с повинной. Бакуфу вынесло приговор: всем 48 ронинам сделать себе харакири, и 48 ронинов разрезали себе животы.
Это экзотика, но ничуть не меньшей была жестокость русских революционеров. Меня учили в школе, что Разметнов проявил недопустимую слабость, пожалев семью раскулаченного (это из «Поднятой целины» Шолохова). И дело здесь не в идеях революции, в идеях язычества, Востока. История христианства тоже полна подобными примерами. Пуритане, строгие исполнители религиозного закона, славились своей жестокостью к чужому греху. На совести католичества – поход против альбигойцев, Варфоломеевская ночь. На совести православия – канонизированная царица Ирина, по повелению которой были перебиты сто тысяч иконоборцев (то есть христиан, верных заповеди «не сотвори себе кумира», нарушенной вселенской церковью – и католической, и православной).
Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело. А совершенное отсутствие рвения, духовная и нравственная вялость, – тоже от дьявола. Обе крайности – от него. И безусловная верность одной идее, одному долгу – и отказ от всяких идей, от всякого чувства долга, беспечность современных сибаритов, ищущих одних только наслаждений.
Долг – это не просто заповедь. Это мучительная задача, как примирить разные принципы. Когда началась война в Чечне, я долго молчал. Мне хотелось понять всех: и чеченцев, и русское население Чечни, и молчаливое большинство русского народа, скованное страхом за распад державы. Я стал писать, когда все участники конфликта заговорили во мне на равных правах, когда сложился внутренний диалог принципов. Я не верил в правду одного принципа. Я верил в правду диалога, кружения вокруг пустого центра, пустого места для примирения принципов, потерявших жесткость, ставших текучими. В поздние советские годы я балансировал между тремя принципами: гражданским долгом, профессиональным долгом и долгом семьянина. Я постоянно спотыкался, постоянно чем-то жертвовал, и совесть моя всегда была нечиста. Я легко решился протестовать против высылки Сахарова – но не решился, как Сахаров, протестовать против войны в Афганистане. Мне казалось, что для такого хода не было в руках подходящей карты – всемирной известности. Я протестовал против оккупации Праги в философском эссе, спустя несколько месяцев, в прозрачных, но не совсем открытых словах, и передал «Акафист пошлости» для публикации за рубежом, когда понял, что кроме меня некому выступить, всем заткнули рты, и сделал это не без расчета (на первый раз «предупредят»; меня действительно вызвали, промыли мозги и предупредили о применении какой-то статьи, кажется, 190-1). Выслушав «предупреждение», я обещал на будущее отказаться от прямых политических протестов, но сказал, что публикацию за рубежом моих статей литературного и философского характера санкционирую. Некоторые друзья считали, что я держался слишком откровенно. Другие – что всякие обещания им – слабость. Я сознавал, что кажусь дураком в одних глазах и слабаком в других. Подобного рода колебания были и в поведении ассистента Сахарова, Бориса Альтшулера, человека по натуре очень прямого, но не готового принести в жертву жену и детей. Он об этом рассказывает в своей статье, помещенной в сахаровский сборник.
Сейчас мне не грозит тюрьма, но однозначных принципов у меня и сегодня нет. Я понимаю доводы и за, и против смертной казни. Против – ближе моему сердцу, но даже в Израиле, где нет смертной казни, Эйхмана все-таки повесили. Я помню случай, когда стрелял (правда поверх голов), чтобы остановить бегство и уложить солдат в цепь. Мог бы стрельнуть и по ногам, если бы меня не послушались, и в голову, при явном мятеже. Я допускаю, что при нынешнем размахе преступности вполне возможна «шоковая терапия». Я убежден, что в Сумгаите[1] надо было стрелять на поражение и не допустить погрома, что возможны другие подобные случаи. Я склоняюсь к презумпции отказа от смертной казни, от стрельбы по толпе и т. п. – но презумпция не мешает осуждать преступника, если вина его доказана, и презумпция прав личности не может мешать чрезвычайным мерам в чрезвычайной обстановке. Я сознаю, что всякое практическое решение не безупречно, всякое действие монет вызвать лавину зла, и действующий человек идет на великий риск. Но бездействие, сплошь и рядом, еще большее зло.
Во всяком столкновении с другим я вспоминаю Сартра: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого – недопустимый скандал». Я признаюсь, что иногда сам так чувствую. Я знаю, что раздражение – знак моего внутреннего неблагополучия, что оно говорит о недостатке любви, но не сразу, не быстро, не мгновенно вспоминаю любовь, не сразу топлю раздражение в любви. И не с каждым человеком мне легко вспомнить про Бога (который любовь) и взглянуть на Другого Его глазами (в которых нет других). Перед всеми другими я виноват, что почувствовал их, как Другого. И каждый раз это вина перед Богом.
Без этой чуткости к своей вине доброе дело, начатое нами, легко становится источником отчуждения от Другого и зла, повернутого на Другого. Таким добрым делом была свобода прессы, радио, телевидения – и вдруг мы заметили, что свобода СМИ стала властью СМИ, свобода нации стада угнетением другой нации, свобода науки стала разрушением цельности культуры; и всякое частное добро где-то есть зло.
Зло – порождение жизни. Жизнь всегда – отдельная, и утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья – загораживая солнце. Еще больше – животные и птицы. И больше других – человек. Но человек – не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца – не может. И все же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева: «И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души отчаянный протест».
Власть слов, идей возникает во имя духа – и загораживает дух, как икона загораживала Рильке от Бога. Это постоянный вопрос, стоящий перед цивилизацией, нагромоздившей очень много слов. И время от времени разгорается борьба с омертвевшим, дурно пахнущим словом. Время от времени больно назвать то, что чувствуешь, совестишься его назвать. «Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи…» И все же наш долг – произнести слово. Долг, противостоящий другому долгу – молчания.
Солженицыну казалось, что все зло – от нарушения каких-то правил. Примерно так думал и Лев Толстой. Но есть еще благодать – чувство, когда закон добра становится законом зла, когда лекарство начинает давать противопоказания. Это чувство нигде не записано. Его постоянно ищешь и все время чувствуешь неточность, грубость своего понимания. Это чувство внушило мне мысль, что стиль полемики важнее предмета полемики, важнее правоты в споре. Ибо правота никогда не бывает совершенной и никогда нет такого ясного и твердого добра, что против его оппонента хороши все средства. Отстаивая добро, мы постоянно грешим против добра. Даже тогда, когда в формальном, правовом плане мы чисты, – кто знает все последствие своих действий? И, наконец, мы всегда грешим неисполнением первой заповеди: Возлюбить Бога всем сердцем, каждым помышлением своим. Прав Швейцер: чистая совесть – уловка дьявола…
Но поэт опытно знает состояние чистой совести:
- Чистая совесть – дыханье простора,
- Чистое веянье духа, в котором
- Бог развернулся сплошною дорогой.
- Чистая совесть – согласие с Богом.
- Чистая совесть – согласье с мирами,
- К нам доносящими дальнее пламя,
- С каждой звездой и душою зеркальной,
- Той, что звездою была изначально.
Моя совесть не может быть чистой. Но совесть чиста, когда исчезло мое, исчезло эго, со всеми его проблемами и грехами. Это состояние утраты «я» и полноты присутствия Бога. Только состояние. Но оно есть.
- О Господи, меня ведь нет.
- Расплылись все черты.
- Все было суетой сует,
- Остался только Ты.
- Остались на исходе дня
- Вод тихих зеркала.
- О Господи, прости меня
- За то, что я была.
- За то, что тратила запас
- Вселенской тишины.
- Прости меня за каждый час,
- Что мы разделены.
Всякое приобретение – потеря; или, по меньшей мере, – забота, как избежать потери и постоянная угроза потери, а всякая потеря, если вынести ее, становится приобретением. Иов заговорил с Богом только после всех своих потерь, и полный Богом, он стал больше самого себя, прежнего.
Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф – о золотом веке (а потом серебряном, медном и, наконец, о нашем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычаев сохранилась до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.
Второй, утешительный миф – прогресс. Сегодня лучше, чем в темные века; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частностей, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта. Человечество прошло через несколько великих кризисов. Первым был кризис устного слова. Изобретение письменности создало таблицы, свитки, книги, которые можно было изучать, анализировать, сравнивать, толковать без непосредственной передачи мудрости из глаз в глаза, из уст в уста. Логика комментаторов стала почвой для логики философских систем, отбросивших предание. Несколько веков философского развития, – не зависевшего один от другого, в Элладе, Индии, Китае, – кончились одним и тем же тупиком. Любой принцип можно развернуть в систему, но ни одна система не имела преимуществ перед другой. Споры философов кончились сомнением во всех принципах и упадком нравов, не находящих больше опоры в единых символах. Племенные религии повисли в пустоте. Выходом оказалось новое откровение, сперва устное, но быстро нашедшее свою плоть в новой книге, главной книге, Книге Книг, вокруг которой был выстроен духовный мир Средних веков. Он уже книжный, но рукописный. Книг немного; Фома Аквинский благодарит Бога, что не встретил ни одной, которую не мог понять.
Книгопечатанье создало объем книжности, недоступный даже гению. Новое возникало и распространялось в стремительном темпе. Сперва это вызывало ликование, а кончилось чувством заброшенности и запутанности в потоках информации. Наш современник Альфред Шнитке чувствует новое как демоническую силу. Человек теряется в непривычном, и дьяволу здесь легче подшутить. Чем больше средств достичь цели, тем труднее определить свою цель. Понятие смысла жизни отделялось от жизни и стало недоступным.
Достоевский писал, что жизнь надо полюбить прежде, чем смысл ее (сформулированный в каких-то отвлеченных словах). Ребенок не сможет объяснить смысл своей жизни, но его жизнь полна смысла. Взрослые могут хорошо рассуждать о смысле жизни, но это не значит, что их жизнь действительно имеет смысл. Скорее – «скучная история» чеховского профессора. Школа учит говорить о смысле жизни, но жизнь школьника гораздо менее осмысленна, чем жизнь ребенка. Смысл начинает переноситься вперед, после окончания школы, университета. Но приобретение профессии дает гораздо больше обязанностей, чем прав, больше забот, чем радостей, больше узости, чем широты.
Путь человека повторяет путь человечества: все больше информации, все меньше мудрости. Ребенок хочет в школу. Ему кажется, что очень интересно ходить с ранцем, пеналом, тетрадями. Но эти игрушки быстро надоедают. Школа отымает радость игры – и дает вышколенность. Говорят, что воробей – это соловей, окончивший консерваторию. Рисунки маленьких детей гораздо интереснее, чем рисунки школьников. Я сам малышом неплохо рисовал, мне даже наняли учительницу рисования, но школа быстро вытравила во мне этот талант и взамен наделила скукой. Чем больше книг, чем больше знаний, тем больше скуки, едва книга отложена в сторону.
Есть сказка о рассеянном мальчике, вечно забывавшем, куда он дел куртку, чулки и т. п. Менаше (так звали мальчика) составил список, где что положил, и закончил строкой: «я на кровати». Утром Менаше все собрал по списку, но кровать была пуста. Где же я? Помню картинку в детской книжке: мальчик в недоумении перед пустой кроватью. По-моему, эта сказка очень хорошо описывает, как мы теряем себя в своих интеллектуальных приобретениях.
Ученье – вход в лабиринт знаний и в лабиринт общества, где нет никаких предписанных ролей. Надо выбрать свою роль или создать ее заново. Этого мученья не было в доброе старое время. Тогда все было ясно. «Наших бьют!» Значит, беги и бей ненаших. «Моя страна, права она или нет», – говорят англичане. Так творилось много зла, но было и добро: не было мук свободы. Фортинбрас не колеблется, нужно ли выполнять законы чести. Колеблется и мучается Гамлет. Он приобрел свободу – и потерял уверенность в себе. Толстой увидел в сомнениях путь от предписанной решительности к обдуманной решительности. Но обдуманная решительность – скорее цель, чем положительное приобретение. Все время надо думать и заново решать. Это не твердая почва предписанного поведения, а только процесс, вечная незавершенность. Большинство людей к ней до сих пор не привыкли, и не знаю, привыкнут ли. Жизнь обгоняет способность ориентироваться в жизни.
Общество предписанных ролей хорошо ладилось с религией предписанных символов. А обдуманная решительность житейского выбора не ладится с догмами – разве что толковать догмы как иконы, как образы, не имеющие прямого логического смысла. Из всех средневековых религий ближе подошел к решению загадки буддизм дзэн, требующий от своих адептов великой веры, великого рвения – и великого сомнения (во всех словах о предметах веры, во всех символах, чтобы буква не загораживала дух). Начало христианства было восстанием духа против буквы, но очень быстро сложились новая жесткая буква и новое законничество.
Это было необходимостью для народной религии. Дзэн никогда народной религией не был, и неизвестно, сможет ли принцип великого сомнения стать общим правилом в ближайшие сотни и тысячи лет. Потому что обдуманная решительность и вера сквозь постоянные сомнения – тяжелый груз. Не всякий его подымет. И будущее здесь вряд ли может в корне изменить дело. Даже если развитие не пойдет – как оно идет сейчас – в сторону массы видеотов, мыслящих роликами и клипами.
Весной 1935 года нам предложили сочинение на тему «Кем быть». Предполагался выбор профессии, одной из предписанных ролей в обществе строителей социализма. Я с иронией перечислил профессии, увлекавшие меня в раннем детстве (извозчика, а потом солдата), и кончил словами: «я хочу быть самим собой». Это был бунт, это был буржуазный индивидуализм. Задним числом признаю: возмущенный учитель отчасти был прав: я испытал серьезное влияние «эготизма» Стендаля. Но по сути я был мальчиком Менаше, искавшим себя утром на пустой кровати.
Я искал себя в Гамлете, в стендалевском Люсьене Левене, потом в героях Достоевского (ближе других мне был Кириллов, с его «памятью смертной»). И в музыке – та же память смертная: миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать… О, верно смерть одна, как берег моря суеты… При этом к смерти у меня не было никаких склонностей; но жизнь без мысли о смерти была мелкой, неполной даже в самых ярких эротических образах, надолго застревавших в уме.
Трудно жить в обществе без предписанных ролей. Где даже роль мужчины и женщины не совсем твердо предписана. Несмотря на анатомию, физиологию и гормоны. Симона де Бовуар права: женщиной не рождаются, ею скорее становятся. И мужчиной тоже. Роллан в «Очарованной душе» пишет, что Марк не совсем понимал, чего ему хочется: прикоснуться к женщине или стать женщиной, почувствовать ее тело изнутри его самого. У девочек желание быть мужчиной еще чаще. Женщина рассказывала мне, что тело ее, почти мальчишеское до 11 лет, стало внушать ей отвращение, когда начались неотвратимые сдвиги. Она пыталась почти ничего не есть, чтобы сохранять мальчишескую худобу, но ничего не помогало. Потом воображение ее стало двойственным, перенося то в плоть мужчины, совершающего подвиги, то в плоть женщины, покоряющей мужчин своей красотой. Только годам к 15 женственное вполне победило.
Бисексуальность – не патология, скорее норма становления – в обществе, где роли выбирают; опираясь на свою бисексуальность, развивая ее, японские артисты играют женщин, а в европейском театре есть особое амплуа – травести, актрис на роли мальчишек. Некоторые актрисы играли даже Гамлета. Писатели превосходно умеют войти в женские чувства (Чехов восхищался, как замечательно это делал Толстой). В норме способность чувствовать Другого как себя ведет к семье, где женщина чувствует мужчину и мужчина женщину и Другой становится частью самого тебя. Но возможен эмоциональный вывих, задержавшееся мальчишеское восприятие только мужского как прекрасного и презрения к женской полноте форм; возможны подобные вывихи у женщин – отвращение к мужской грубости, отвращение к своей пассивной роли при близости, желание сыграть активную, мужскую роль еще лучше мужчины; а у мужчин – отсутствие воли к активности, радость от пассивной роли в отношениях с любимой. Наконец, возможен травматический опыт неудачи при попытке исполнить то, что предписано, и след на всю жизнь от этой травмы (у П. И. Чайковского, у Софии Парнок). Мне напомнила обо всем этом «Тетрадка Петры» во втором номере «Знамени» (1997). Стихи Петра Красноперова настолько выстраданы, что заражают и заставляют продумать чужой опыт как свой.
Я не стою за то, чтобы узаконить такие страсти. Если порядок природы создан Богом и носит на себе Его отпечаток, то можно требовать, по крайней мере, усилия следовать вселенскому порядку. В разделении на два пола есть духовный смысл, есть задача полюбить Другого, совершенно другого, как самого себя и в этой любви к Другому получить образ любви к Богу, совершенно иному, чем люди. В Индии подобная мысль хорошо разработана в некоторых формах бхакти, до полного уподобления религиозного чувства и половой страсти. Ни одна высокая религия не использует в качестве эротической метафоры однополую любовь, а любовь мужчины и женщины – и в Библии, и в разных толках индуизма, в суфийской лирике. Что же делать эротическим дальтоникам?
Кришнамурти[2] различал путь святости и путь мудрости. Он никогда не объяснял, что это такое, но насколько я могу понять, путь святости – это примерно то, что один из русских святителей назвал романом с Богом, а Пушкин описал в своем «Бедном рыцаре», во втором варианте, где профанация стерта: «С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел…». Путь мудрости не отвергает страсти, но сдерживает ее до решающего выбора любви, захватившей сердце, принимая ее сразу же как служение и как долг, и отвергает прихоти, капризы. На этом пути мужчина для женщины, а женщина для мужчины становятся образом и подобием Бога, а прикосновение друг к другу – причастием.
Другая ассоциация, возникающая при мысли о пути мудрости, это индийская лестница трех возрастных ступеней: брахмачарья (целомудренного ученичества), грихастья (семейная жизнь) и варнапрастха; вырастив взрослых сыновей, брахман, даже при живой жене, оставляет семью и уходит в лес, искать бессмертия (об этом в Майтри-упанишаде). Впрочем, третья ступень даже в традиционной Индии не всегда достигалась, а в обществе без предписанных ролей может иметь смысл скорее как внутренний уход, без «реализации метафоры», как при бегстве Толстого. Просто «пора о душе подумать».
Все это в неразвернутой форме промелькнуло в моем сознании, когда я услышал от молодого человека, просившего моего совета, что его волнует не женское, а мужское тело. Я сказал, что если он сможет, то лучше избрать путь одиночества.
На что я опирался? Это трудно объяснить. Я вижу открытое море без ясных ориентиров, куда плыть. Мой компас – сознание иерархии собственных духовных уровней. Я выбираю роль, выбираю путь на самой большой, доступной мне, глубине, и в часы оставленности духом глубины выполняю свою роль усилием воли. Здесь нет фальши. Когда говорят, что он или она играют роль, предполагается исполнение чужой роли, артистический обман или сознательный обман. Этого нет, когда играешь свою роль, самого себя, свою собственную глубину, не придуманную, а в иные часы совершенно реальную. Без такой установки на глубину, в которой Я не только я, выходит не путь святости и не путь мудрости, а путь своеволия. Беру нарочно крупный пример: Юлия Цезаря. Когда он праздновал триумф, солдаты, следуя за триумфальной колесницей, распевали частушки: вот едет лысый развратник; берегитесь, римские матроны… Вот едет жена всех своих друзей и муж всех римских матрон… Это тот путь, по которому, кажется, следует современный Запад, увлекшись освобождением от всех предписанных ролей. Есть некое предписание, которое не должно нарушаться: глубина духа повелевает поверхностью души. Это неписаное, но великое правило нарушено мыслителями постмодернизма, поставившими глубокое и мелкое на один уровень.
Я понимаю тех, кто испугались своеволия и бросились назад, к строгим предписаниям религии, даже явно нелепым, как запрет регулировать рождаемость. Этот пример стоит разъяснить. Запрет имел смысл, когда жена обязана была родить своему индийскому мужу по меньшей мере шестерых детей. Опыт говорил, что из шести четверо умрут, из двух оставшихся один ребенок может быть девочкой а остается один сын, чтобы совершить поминальные жертвы. Такой же смысл имеет осуждение Онана, изливавшего свое семя на землю. Он обманывал Бога, велевшего родственнику умершего мужа возлежать с вдовой, чтобы продлить род покойного (обычай, описанный в книге «Руфь»), Христианство оставило в забвении книгу «Руфь», но включило в свои запреты осуждение Онана – хотя это две части одного целого, одной заботы о потомстве, бесчисленном, как песок морской. При нынешнем взрывном росте населения древний запрет явно вреден, но его боятся тронуть, чтобы не повалилось все здание заповедей и запретов.
Видимо, надо мысленно отделить основное здание от пристроек, прилепившихся к храму. Но где четкий рубеж между тем, что можно и что нельзя «деконструировать»? Это задача философии, которая придет на развалинах, оставленных «деконструктивизмом». Пока такого ясного рубежа нет. Освободившись от предписанных ролей, мы потеряли чувство собственной правоты.
Права молния любви, соединяющая человека с истиной или двух людей – в общем чувстве. Но молния не длится годами. Нужна работа любви, как выразился Рильке, превращение пути, по которому прошла молния, в надежный провод. Ненадежные провода легко рвутся. И тогда «одиночество хлещет реками» (стихотворение Рильке «Одиночество» несколько раз хорошо переведено на русский язык. Видимо, чувство разрыва близости очень многими пережито; несравненно чаще, чем любовь к Беатриче).
Дети торопятся стать взрослыми, не представляя себе, какое это хлопотливое дело. Они мечтают жить по своей воле, без предписаний папы и мамы. Они не понимают, что предписывать себе самому – постоянный духовный труд, постоянная забота.
Сколько мучений доставляет начало половой зрелости! Сколько в нем оскорбительного, физиологически грязного, как прискорбно лишение свободы детского воображения, порабощенность эротическими образами! Как немыслимо соединить эти грубые образы с присутствием живой женщины, с общением мальчиков и девочек в школе! Счастливы те, кого захватила сердечная влюбленность и соединила душу с телом и очеловечила бурю гормонов; но если влюбленность задерживается? Как пережить эту борьбу ума с чреслами, в обход сердца?
А иногда, особенно у девочек, созревшее сердечное чувство противится «взрослой» любви, хочет на всю жизнь остаться с нежными поцелуями, как выросший ребенок – со своими игрушками. Этот страх очень обоснован. Только немногие пары не сталкиваются с искушением близости, когда плоть причастия заслоняет его суть. Большинство теряет больше, чем приобрели. Некоторые теряют человеческий облик, открывают в себе (или в своем партнере) «зевоту тигра» (что-то подобное писала Цветаева Бахраху). Оставляю открытым вопрос, кто дальше от Бога: пара, живущая в содомском грехе и в любви, или супруги, создавшие себе и своим близким семейный ад. Мне кажется, что иерархия тяжести грехов, установленная преданием, может быть пересмотрена – не отказываясь от понятия иерархии и греха.
Потеря детства – одна из самых тяжелых жизненных потерь. Я перенес ее сперва как пролог к драме, а потом уже как саму драму. Пролог был довольно смешным. Вернувшись к началу учебного года в Москву, мы начали какие-то забавы с Люсей, соседкой по квартире. Вдруг я заметил, что у Люси за лето образовались припухлости вокруг сосков. Я очень огорчился. Люся в свои 11 лет начала выходить из детства, становиться тетей. Она этого еще не заметила, но я понимал, что у тетенек и дяденек свои игры, в которых я, в свои 10 лет, ничего не смыслил и для которых был не нужен. Я потерял подружку своих игр. Это не было трагедией, но мир стал холоднее. Дети – единый народ, а дяди и тети – два разных народа с какими-то очень сложными и болезненными отношениями (папа и мама непрерывно ссорились). Жизнь намекнула мне, что в этих сложных отношениях придется разбираться. А я был не готов.
Настоящей драмой был отъезд мамы в Киев. Я не просил маму остаться. Я был сознательным мальчиком и понимал, что ее призвание актрисы требовало уехать вместе со студией «Фрайкунст», влитой в Киевский государственный еврейский театр. Но до этого я жил в каком-то симбиозе с мамой, словно мне было не двенадцать, а семь или даже пять лет. И вдруг этот симбиоз оборвался. Вдруг оказалось, что я очень одинок. С одним бедствием совпало другое: мои сверстники как раз тогда (с 5-го класса) сдвинулись в сторону повышенной шумной развязности, а я не находил себе места и обособлялся, уходил в себя. Одинокий в школе, одинокий дома (отец все вечера пересчитывал свои бухгалтерские ведомости). Это было очень трудно. Но, кажется, именно в одиноком отрочестве я начал принимать решения, самостоятельно выбирать свою жизненную роль.
Вторым кризисом была потеря метафизической почвы под ногами, сознание себя песчинкой в бесконечности и невозможность с этим согласиться. Впервые это ударило в шестнадцать лет. Потом, по второму кругу, в двадцать. Чувство бесконечности пространства и времени рядом, прямо за стеной комнаты, где я сидел, с этих пор постоянно беспокоило меня и толкало мыслить.
Много позже я дружил с Петром Григорьевичем Григоренко, и как-то я подумал; он мыслит, чтобы действовать, а я действую, ставлю над собой эксперимент, чтобы лучше понять. И поняв что-то, чувствую себя удовлетворенным. А потом еще больше удовлетворенным, когда удавалось перенести свое понимание в текст.
Понимание своего амплуа можно считать ограниченностью. Но всякое дарование неизбежно ограничивает, дает силам одно определенное направление, без этого человек останется бесплодной смоковницей. Так же как артист должен сознать свое амплуа, набор ролей, которые может хорошо сыграть, и не пытаться играть не свое. Амплуа бывает узким, бывает очень широким, но парадокс в том, что Смоктуновский, играя Моцарта или Скупого рыцаря, больше раскрывается, больше верен себе, чем в частной жизни, когда он обедает или торгуется за гонорар. Быть самим собой – это роль, набор ролей, это своя дверь к целостности бытия. Потеря метафизической почвы под ногами была дверью в философию.
Третьей большой потерей было изгнание из гражданского общества. Такой смысл имела в 1946 г. формулировка: «исключен за антипартийные заявления». Я потерял себя как советский человек и нашел себя как человек антисоветский. Эта потеря и это приобретение сделали для меня легкой четвертую потерю: тюремное заключение, лагерное заключение, утрату внешней свободы, приобретение свободы внутренней.
С внутренней свободой я легко перенес пятую потерю – потерю надежд на возвращение к профессии ученого-филолога, избранной в юности. Я принял свое положение люмпен-пролетария умственного труда и нашел в нем новые возможности для расширения своей области мысли и формулирования своего, неакадемического стиля мышления (один из друзей назвал его метахудожественным). Наконец, как-то незаметно, среди всех своих потерь, я потерял что-то, мешавшее мне любить, и очень поздно, в 35 лет, открыл в себе юность чувства – странно, не вовремя, но очень глубоко. Совпадение поздней юности с неюношеским опытом мысли помогло мне избежать ошибок, которые губят раннюю любовь, и делать то, что Рильке назвал работой любви; тема, которая слишком велика, чтобы сказать о ней мимоходом.
И наконец, когда я преодолел эти пороги, когда счастье стало полным и совершенным – наше единое тело разрубила смерть. Я два месяца чувствовал себя разрубленным вдоль позвоночника и левую сторону – похороненной вместе с Ирой. Небо в моих глазах падало на землю. Я тысячу раз готов был поменяться с Ирой, чтобы она жила, хотя бы без меня. Я не согласился бы на ее смерть ради самой великой цели во вселенной. Но когда я вынес свою потерю, мне открылась вера Иова, и я почувствовал силу смотреть Богу в глаза и видеть его сквозь ужас песчинки, летящей в пропасть.
Бог рассыпает свои подарки и свои удары, думая о нас не нашим умом. Нам остается радоваться каждому неожиданному подарку и собирать силы, чтобы приобретением стала сама скорбь.
Есть что-то общее, соединяющее музыку, молитву, прислушиванье к лесу, волну любви, вдохновение поэта. Это общее – углубление жизни. Иногда глубина раскрывается внезапно и полностью, в один миг. Так Рамакришна увидел стаю диких гусей, выхваченную лучом света на фоне черной тучи, и сразу на всю жизнь понял что-то главное, только не знал, как назвать. Но он жил в Индии, и традиция подсказала ему слова. Серафим Саровский жил в России и осознал свой опыт в других словах. А иногда никакие термины не приходят в голову. Кришнамурти говорит о безымянном переживании…
У меня был свой опыт, который я долго не мог понять, опыт внутреннего света. Просто света, вспыхнувшего в груди и погасившего все предметы, ослепившего меня на несколько часов для дробного мира. Потом я читал разные книги и сравнивал это состояние с тем, что прочел у мистиков разных традиций и у писателей (Достоевского, Набокова). Мне кажется, что я увидел реальность целостного и вечного, как его ни называй. И в понимании разных учений я опираюсь прямо на свой опыт, пусть очень скромный и не идущий ни в какое сравнение с великим опытом пророков, святых и поэтов, потрясенных красотой. У меня в руках был пятачок – но он дал мне понять, что такое монета.
Очень легко переоценить свою монетку и считать ее Монетой Монет. Мелкие монеты экстаза рассыпаны довольно часто – то есть сравнительно часто, сравнительно с великими событиями в духовной истории. Мышкин, Ставрогин и Кириллов – проекции одного человека Достоевского. К чему толкнет экстаз, зависит от нравственного склада личности. Я просто называю пятачок пятачком. А другие монеты оцениваю на глазок. Я думаю, что единой шкалы оценок нет, и мне не хочется оскорблять никакую веру.
Так же по-разному можно понимать опыт тьмы, опыт бездны. Ибо чаще всего глубина раскрывается как бездна, в которую рухнуло все доброе, а целое еще не засветилось. И мужество вглядывается и вглядывается, пока не доглядит до зарниц света; а трусость прячется от страшного, как страус, засовывая голову в песок. Толстой не мог забыть чувства бездны. Тютчев постоянно к нему возвращался, и духовный взлет моей юности прошел под знаком его опыта ночи:
- Пришла, и с мира рокового
- Ткань благодатного покрова
- Сорвав, отбрасывает прочь.
- И бездна нам обнажена
- С своими страхами и мглами,
- И нет преград меж ней и нами…
Бездна смерти, бездна пространства и времени, бездна абсурда леденит и воспламеняет сердце. Арджуна не выдерживает и одного мига целостного созерцания. Гаутаму этот миг заворожил и не отпускал от себя, пока царевич не стал Буддой. Первая благодарная истина, которую Будда возвестил, была истина о страдании: все сущее болезненно и несовершенно… «Мир во зле лежит», в переводе на язык христиан. Но то и другое – только первая истина, первый шаг от пестрой очевидности к целостной глубине. В мужественном созерцании ужас бездны вдруг исчезает, уступает место свету, смыслу, голосу Бога, голосу, к которому взывает Иов и которого требует теология после Освенцима.
Мы живем в век, когда все вечные вопросы поставлены заново и каждый ищет ответа по-своему. У Гумилева, в «Звездном ужасе», ответ – простая песня. Рильке отвечает песней Орфея. Но Орфей – Бог, и его песня – Божья Песня. Разница не только в словах. Ответ Рильке – песня, ставшая молитвой, и молитва, ставшая песней. Ответ – в той глубине, где сходятся параллели, где этика, религия, искусство, истина не разделились или, может быть, сходятся заново.
Тиллих называет всю эту глубину религией. Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, ибо предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия (Тиллих П. Теология культуры. М., 1995, с. 240–241. См. также с. 254). Собственно религия, с его точки зрения, – только напоминание об этой глубине, понукание – не забывать глубины. Вероисповедание – только частица непостижимой бездны религии, где есть и благочестие, и вызов на суд, и бунт. Поэтому Бог заговорил с Иовом и поэтому древние книжники включили Книгу Иова в Библию: ибо Иов отвергал благочестие во имя религии, отвергал представления о Боге во имя живого Бога. Отвергал постигнутое во имя непостижимого.
Можно понять как нового Иова и бунт Ивана Карамазова. Так его понял Сергей Иосифович Фудель (в своей книге «Наследие Достоевского»). Он не согласен с Сергеем Булгаковым, считавшим бунт Ивана Карамазова чем-то вне души самого Достоевского. «Бунт Достоевского существует, – пишет Фудель, – но он, так же как все его неверие Фомино, только углубляет веру его и нашу. Это „бунт“ Иова.
Не совсем только личные невинные страдания давят своей тайной Иова… „Почему… бедных сталкивают с дороги… (и) в городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет и Бог не воспрещает того“. Разве это место Библии нельзя было бы продолжить рассказом о ребенке, затравленном генеральскими собаками?..
Не вера в Бога колеблется в Иове, а вера в божественный миропорядок.
«Не Бога я не принимаю, – говорит Иван, – я только билет ему почтительнейше возвращаю». В черновиках романа после изложения бунта есть такой диалог:
– Алеша, веруешь ли ты в Бога?
– Верую всем сердцем моим и более, чем когда-нибудь.
– А можешь принять? Алеша молчит.
– Можешь понять, как мать обнимет генерала?
– Нет. Еще не могу. Еще не могу.
– И Иов не может, а вслед за ним и Достоевский» (я пользовался машинописью, воспроизводящей текст автора без редакторской правки).
Нельзя благодарить Бога в газовой камере. Но можно понять, что Бог не извне страдальцев, что он вездесущ и страдает вместе со всей тварью, как Христос на кресте. На какой-то глубине мы вдруг выдерживаем взгляд на мир глазами Бога – одновременно внутри страдания и вне страдания. Взгляд, который Бог подарил Иову.
- Мне некому вернуть билет,
- Мне некого проклясть.
- И у души отдушин нет,
- Куда б излиться всласть.
- К никого на стороне.
- Никто не виноват,
- А я во всем и все во мне,
- Весь рай и целый ад.
- И смерть не выход. Нет как нет
- Во мне небытия.
- Перед собой держать ответ
- Всю вечность буду я.
Бог откликается на вызов. Чем интенсивнее вызов, тем вероятнее ответ. Вызов на суд может быть ближе Богу, чем формулы благочестия. Когда вся душа вкладывает себя в вызов – Бог отвечает (не на формулы, созданные умом, а на порыв сердца). И явление Бога в сердце преображает его. И тогда приходит чувство собственной ответственности за весь мир. До этого Иван Карамазов не доходит. Он остается на пороге. Он колеблется в самой вере. Он мыслит: «Если Бога нет…» Тогда нигилизм. Тогда смердяковщина. Отсюда двойственное отношение Достоевского к Ивану Карамазову. И все же бунт Ивана Карамазова – это бунт Достоевского, и в Иване Карамазове он борется с самим собой. И эта борьба – плоть и кровь религии.
Благочестие, обряды, таинства ее не исчерпывают. «Чин» религии – только напоминание о глубине, только противовес дробности мира, в которой слишком легко затеряться. Религия позволяет понять затерянность в мире как потерю Бога, как богооставленность, и толкает к молитве, к открытию Бога как собеседника. Для атеиста затерянность – это только затерянность, абсурд, потеря смысла, трагический тупик.
Ребенок играет, не думая о смысле. То, что его увлекает, еще не оторвано от смысла, от целостности бытия. Жизнь связана для него «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Каждая игрушка – узел. Вопрос о смысле жизни – признак потери смысла. Взрослые осознают эту потерю, ставят вопрос о Смысле и находят ответы. Но все ответы, оставшиеся на словах, – выцветшие синие птицы. Они сверкают небесной синевой в миг открытия и блекнут, когда что-то, стоящее за словом, исчезает. На уровне слов всегда можно ответить человеку, нашедшему смысл: «А зачем?».
Арджуна не хотел выполнять свой кастовый долг воина, он не видел смысла в битве. Кришна отвечает примером: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому сражайся, Бхарата». Но может быть, они не многого стоят, эти миры, полные страдания, и лучше небытие, угасание мук? Внутренняя сила ответа Кришны не в логике, а в чувстве. Кришна захватывает Арджуну своим творческим огнем. Его ответ так же нелогичен, как ответ Бога Иову и так же захватывает.
Этот захват – едва ли не главное в искусстве. Художник нарисовал кувшин. Что нас остановило? Почему я простоял минут десять около натюрморта с селедкой (Сутина, если я не ошибаюсь). Всамделишная селедка интересна только одним: своим вкусом. Нарисованная – она становится символом. Символом Целого, присутствующего в любой дроби. Символом творческого состояния художника, увидевшего Целое сквозь дробь. Творческое состояние художника само по себе божественный узел, и в искусстве мир становится сетью божественных узлов, Божественной сетью, второй Божественной сетью. Первая божественная сеть – сама действительность: Бог – поэт наивысший, сказал Тагор. Но только поэт видит мир как создание Поэта. Откликаясь на красоту природы и доводя до красоты мир торопливо сделанных человеком, несовершенных вещей. Связывая заново мир, разорванный, рассеченный хлеба ради насущного.
Зачем мы идем в театр? Что нам Гекуба, спрашивает Гамлет. Что нам Гамлет? Почему мы выходим из театра обновленными? В чем суть катарсиса (не только в трагедии, во всяком искусстве)?
В творческом состоянии художника, которое искусство передает. В углублении жизни до уровня, на котором законы дробного мира слабеют и сквозь дробный мир проступает великое Целое. Все равно – через спектакль из пяти актов или через тихую жизнь вещей, схваченную на полотне.
Зачем мы подымаемся в гору и застываем на ее вершине? Чтобы увидеть картину кисти Иеговы. Почему это созерцание – важнейшее дело (или, как говорят аскеты, – делание)? Потому что без созерцательного делания дело становится рядом дел, потерявших связь, и теряется смысл. Герой чеховской «Скучной истории» занимался хорошими и полезными делами, но потонул в своих делах, потонул в дробности, потерял Целое, потерял смысл. Потому итог его жизни стал «скучной историей».
Выход не в безделье и не в пренебрежении грубой работой ради особой, одухотворенной. Думаю, что у чеховского профессора были часы одухотворенного труда. Но он не пропитал каждый свой день чувством Целого. А средневековый китайский поэт Пан Юнь, о котором я уже несколько раз писал, нашел Божественный узел в самом простом: «Как это сверхъестественно! Как чудесно! Я таскаю воду, я подношу дрова!».
Об этом же самом говорит суфийская притча. Учителю рассказали о человеке, которого дух возносит над землей. «Птицы летают еще выше», – ответил шейх. А такого-то видели сразу в двух местах, не унимались ученики. «Дьявол может быть сразу в тысяче мест». – «Что же есть высочайшее?» – «Пойти на базар, купить провизии, приготовить обед – и не забывать Бога».
Сегодня эта задача стала гораздо труднее, чем прежде. Очень уж далека от природы современная работа, очень уж разделилась на множество работ и требует полной отдачи всех сил частным, дробным задачам. Время для созерцания – только в паузах, и не во всякую паузу под руками природа, или картина художника, или великая музыка.
Молитва возможна всегда, молитва возможна и для верующего, и безо всякого символа веры. Я понимаю символы и догмы как словесные иконы, за которыми скрывается непостижимый лик Бога, так же как за хорошей иконой, писанной красками. Мне достаточно понимать, что целостная вечность не менее реальна, чем мир пространства и времени. И что Целое есть полнота бытия, максимум бытия, полнота всех качеств в простом единстве, ближайшее подобие которого – «сильно развитая личность» (выражение Достоевского, под которым он понимал подобие Христа). Целое может быть воспринято как личность, как божественное Ты, реальность которого раскрывается в диалоге с Я. Это Ты грозит исчезнуть, когда мы начинаем рассуждать о Боге в третьем лице[3]. Но в молитве оно реально. И в молитве всплывают образы искусства, рожденные в молитве и медитации.
Молитва и медитация веками сплетались с искусством. Каждая литургия – такое сплетение. Каждый культ обрастает художеством, и без художества трудно себе его представить. Этот опыт истории стоит перед моими глазами, когда я вплетаю молитву или медитацию в созерцание природы и искусства. Возвращение к молитве не стало для меня разрывом с поисками катарсиса. Я думаю, что и в Греции катарсис нес на себе отпечаток религии, и в Новое время театр называли храмом. Меняются формы переплетения. Сегодня они могут быть и каноническими, и свободными от рамок канона; важен всегда только канон творческого состояния, внутренняя верность глубине, внутренний настрой на глубину.
Христианская молитва возникла в языческое время, когда искусство было языческим, а природа казалась полной демонов. И мир молитвы подвижников противостоял всему мирскому. Так же обстоит дело с медитацией в раннем буддизме. Потом ревнивая исключительность стала слабеть. До конца ее преодолел буддизм дзэн. В его живописи каждая травинка может стать иконой, каждый цветок единосущ Будде и связан с ним «неслиянно и нераздельно». В христианстве эстетическое и религиозное до сих пор не совсем слились. Достоевский подходит к этой задаче трижды: в словах «мир красота спасет», в статейке Ивана Карамазова о церкви, которая должна стать всем, и в Сне о планете смешного человека, где вовсе не было храмов. И лучи заходящего солнца становились для него, как для св. Василия Великого, «благодатью вечернего света».