Правила бессмысленного финансового поведения
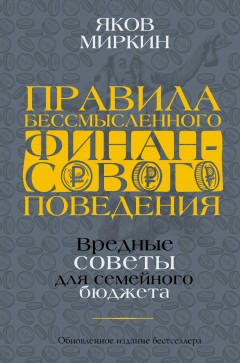
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие к третьему изданию
«Правила бессмысленного финансового поведения» (2019) имели большой успех. Стали «Экономической книгой года – 2019». Ее читали семьями. Автор метался с радостной улыбкой из угла в угол. И каждое письмо, в котором было сказано: «Вы спасли мне деньги» – чистил щеточкой и складывал в сундук.
Ко 2-му изданию (2022) было что добавить – всего за четыре года мы получили еще две девальвации и два финансовых кризиса. И кучу потерь в семейных финансах.
К 3-му изданию во весь рост в России встают мобилизационные финансы, растут налоги. Санкции во многом отключили страну от международных расчетов и мировых финансовых рынков. Внутри страны – дедолларизация. Все это – крупнейшие риски и изменения для имущества семей.
«Правила…» стали широко читаемыми, бестселлером, имеют очень высокие читательские рейтинги.
Что я сделал для нового издания? Подчистил лирику, добавил правил (мы все их любим), обновил числа, ввел части и новые главы, прибавил истории и новые рисунки, кое-что укоротил, чтобы было легче читать, и ответил на множество вопросов и пожеланий, возникших за эти буйные годы.
Объем книги увеличился на 40–45 %.
Впереди – фантастическое время, и нам понадобится масса искусства, чтобы удержать свои семьи на плаву. Очень надеюсь, что «Правила…», эта книга, будут подспорьем для думающих семей, для тех, кто умеет управлять своей жизнью, а значит, и семейным денежным состоянием. Пусть имущество вашей семьи будет большим, непотопляемым и дарит вам свободу – думать, действовать, жить.
А автор будет стремиться быть для вас всегда на связи в социальных сетях, стараясь ответить на каждый ваш вопрос, на каждое письмо.
Книга. Зачем она написана?
Чтобы быть в помощь, быть под рукой, но не как назидание и не как инструкция по полетам.
Просто как точка отсчета для думающего, рационального человека, стремящегося быть независимым.
И состоятельным.
Автономным в деньгах, имуществе и, значит, в своей свободе быть, двигаться, решать, принимать риски, строить новое для своей семьи.
Это ни в коем случае не учебник и не скучное чтение.
Просто точка отсчета – как удержать семью на плаву, когда у нее отбирают ее деньги, ее активы.
Развивающиеся рынки, такие как российский, всегда – драма.
Она ставит в тупик всех тех, кто пытается быть рациональным.
Поэтому:
1) не дремать;
2) рассчитывать риски;
3) холодно, рационально видеть, как устроена большая конструкция, внутри которой мы живем, не обольщаться, не поддаваться тысячам идей, которые сваливают на нас, не быть распропагандированным;
4) пытаться играть на усиление – в любой позиции, в любом возрасте, на любой временной дистанции;
5) жить с резервами и не слишком высоким кредитным рычагом – постсоветские экономики и финансовые рынки настолько волатильны (колеблемы, по-русски говоря), что всегда готовы выбить семьи, которые приняли на себя слишком много обязательств;
6) знать, что все впереди – самые высокие взлеты и самые глубокие падения, они обязательно будут на всем постсоветском пространстве – на горизонтах в 5, 10, 15, 20 и т. п. лет;
7) считать, жить, получать удовольствие, планировать на длинную дорожку, а там уж боги сами решат – посмеяться над нашими лучшими намерениями или же протянуть руку (крыло, длань?) и помочь.
У российского мира – очень высокая сейсмика, особенно в том, что касается семейных денег, имущества. Хватательный рефлекс – умопомрачительный.
Это значит – всегда быть в пути. Никогда не подводить черту. Мы обязаны двигаться, чтобы удержать наши семьи на плаву.
Эта книга о том, как семье удержаться на плаву, прирастить доходы и имущество, когда она живет под Везувием и вокруг полно финансовых идиотов, которые ни о чем не думают.
Как ее читать?
Да как хотите. С любого места. На ней можно даже гадать.
Это не учебник, с которым зеваешь. Книга – живое размышление вслух.
Но в ней есть своя логика.
1. Правила. Не только «нельзя», «нет» или «стой, стрелять буду!». Но еще и советы – как быть, что делать. Рациональное финансовое поведение.
2. Истории – иллюстрации к правилам. Все – реальные. Наши, новые и старые, за 200 лет российской жизни. Люди, в общем-то, мало меняются.
3. Историй много. Но есть правила без историй. Иначе пришлось бы сочинять толстенный том, его нельзя было бы удержать в руках.
Примите их, пожалуйста, на веру.
4. Книга сначала о том, что делать категорически нельзя.
Затем – сладкая тема «наш карман и государство».
Потом – отношения с соседями. Почему российская история нам говорит, что деньги должны быть тихими.
Наконец, на закуску – полкниги – много правил и историй о том, что нужно делать с имуществом семьи сейчас и в будущем.
Чтобы оно прирастало.
Как основа бытия семьи – дальше, больше, выше.
Кодекс правил финансового идиота
Каждое поколение россиян теряет свои активы, а новое начинает жизнь с нуля. Приблизительно один раз в 20–25 лет. Верно для XX века, а может быть, и для нынешнего. Каждую семью за последние 25 лет грабили 3–4 раза (разные люди и в разных формах, не считая государства). Только 1–2 % активов российской семьи способны пережить 3–4 поколения.
По статистике в экономиках, подобных российской, кризисы происходят один-два раза в 10–15 лет. Считали на примере 150 кризисов.
Что в итоге? Мы – временщики. В управлении нашими активами сильна генетическая память. Память о том, что любыми активами семья владеет временно. Для отъема всегда кто-то найдется.
Раз так, то каковы правила бессмысленного финансового поведения?
1. Надеяться на государство, на свой кусок от него. Считать, что государство – это прочная сухая почва.
В финансовом отношении государство – это лед, подтаявший весной, вечно меняющий очертания и проваливающийся под шагами и полозьями тех, кто полагается на крепость этого ледяного пространства.
Государство часто отнимает, а не дает.
2. Копить на старость. Запасаться. Лет за двадцать до пенсии. Под процент. Или под будущие высокие дивиденды.
Пока дело до старости дойдет, инфляция, кризисы, закрытия банков, перетряхивания пенсионных схем, исчезновения инвестфондов, смерть страховых компаний, девальвации, дефолты – вся эта сутолока развивающегося рынка съест все сбережения и пустит по миру. Не запасешься. Просто деньги имеют свойство таять и исчезать. Никуда не денешься, имуществом придется управлять, засучив рукава.
Об этом в главе «Вся надежда на государство. Способ раздеться».
3. Деньги должны быть громкими.
Роскошь нужно показать. А иначе зачем все это? В превосходстве – смысл.
Об этом в главе «Громкие деньги. Радость для соседей».
4. Как-нибудь отдам. Слишком высокий «финансовый рычаг», слишком быстрое расширение имущества и расходов за счет кредитов под высокий процент, при двузначной инфляции и неустойчивом курсе национальной валюты.
Главная ловушка – валютные обязательства. Курс рубля может держаться годами, но потом обязательно случится девальвация. 1998, 2008–2009, 2014, 2015, 2018, 2020, 2022 гг. – это годы разовых крупных девальваций. Они усеяны обломками тех семей, которые брали на себя высокий «финансовый рычаг».
5. Семейная финансовая пирамида.
Покрыть новыми долгами старые, не перекрывая их вложениями, приносящими доход. Потребление не по средствам.
6. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Или доходностью.
Холодная оценка рисков. Не ищите сверхвысокой доходности. Часто это последний крик отчаяния перед банкротством. Или открытое мошенничество.
Сколько полегло знакомых, отвергавших разумные финансовые предложения, чтобы съесть то, от чего нужно было бежать сразу, не втягиваясь в обсуждения.
Об этом в главах «Риски для семьи. Черные очи», «Как-нибудь отдам. Кредитный риск», «Как вас кинут» и «Убийственный процент».
7. Спекуляция, попытки заработать в высоких финансах (валютный рынок, деривативы, акции).
Эти рынки – чужие для мелкой розницы. Они живут по чужим правилам, неизвестным пешеходам. Их устанавливают крупнейшие финансовые институты. Валютные и срочные рынки глотают и выплевывают 99 % тех, кто на них приходит, играя по-мелкому. Вы берете деньги в долг, берете «финансовый рычаг», чтобы выигрыш был как можно выше. 1 к 100. 1 к 200. При первом колебании курсов – проигрыш. Первоначальный взнос «слизывается». Все равно проиграете. Против вас профи.
8. Приходить на рынок акций, когда рост уже исчерпан.
Толпы розничных инвесторов в ажиотаже бросаются на акции после того, как они долго, иногда годами, растут. И только почти у пика, когда вот-вот все рухнет, наконец массовый инвестор становится уверен, что рост цен акций будет всегда и он неисчерпаем, и бросается на рынок. Вот тут-то все и лопается. С начала 1990-х было неоднократно.
9. Пытаться в разгар кризиса спекулировать по-мелкому. Паниковать. Метаться, менять все время «стратегии». Покупать доллары, когда рубль на самом дне. Продавать доллары, когда рубль в самой силе. Делать все это на пиках или у дна, с огромными разницами в курсах покупки и продажи. Потери, потери, потери.
Есть известный анекдот по поводу того, сколько раз нужно обменять сумму рублей на одну валюту, потом «назад», потом на другую валюту, потом еще в одну и так далее, чтобы начальная сумма перестала существовать. Поверьте, не так уж много.
Эти постоянные рассказы банкиров в узком кругу, как при скачках курса рубля сначала очереди покупать валюту, потом очереди сдавать валюту, потом опять очереди покупать валюту и т. п. Все это – проигрыш.
Об этом в главе «Танго, рынок, ча-ча-ча».
10. Накупить кучу неликвида по дешевке и ждать, когда цены вырастут до небес. Набрать золота и брильянтов как того, что всегда в цене. Держать жилье под Везувием как отличный, растущий в цене актив, который всегда легко продать. И сидеть, радостно считая, что впереди – золотом блистающий щит.
Об этом в главе «Большая ликвидация».
11. Быть открытым, распахнутым – двери настежь. Не думать, что деньги – это еще и документы, технологии, защита данных. Напрашиваться на то, чтобы у вас украли, сломали, увели, чтобы напали, вытащили или просто потеряли. Не резервироваться, не страховаться, не перестраховываться, не покрывать любые риски. Не документировать – да ладно, зачем это. Связываться с теми, кто всегда ошибается по жизни – просто так устроен, кто мало думает, кто работает больше, как автомат. Или просто не надежен, не завершает дел, для кого вы и ваши интересы – где-то там, на периферии сознания.
Об этом в главе «Как изрезать деньги вдоль и поперек».
12. Считать, что есть только одно место во всей Вселенной, где может жить семья, – там, где родился. Радостно терпеть все глупости, когда они творятся в верхах, в столицах. Терять – есть на то высшие обстоятельства; лишаться – так быть должно; беднеть – что делать, такая судьба страны; все отдавать – так велено, иначе ослабеем; жертвовать – нам исконно так предназначено.
Об этом в главах «Вот вы и попались» и «Бегство имущества за границу».
13. Идеи, страсти, любовь, убеждения, этика и вера, все это – сущность бытия, имущество и деньги – привесок. Сначала – сущность, а потом – все остальное. Только потом, в строгой очередности. Я верю в то, во что я верю, и имущество семьи должно совершать свой оборот в строгом подчинении мне, мне, мне. Оно должно быть таким, каким оно мне нравится. Его движение вытекает из моих идей, страстей, веры и только из того, что я считаю истинным.
Об этом в главе «Под сенью мифов и страстей. Как надежно разорить семью».
Есть еще много правил, но начинать – хотя бы с этих.
Часть I
Большая кройка
Вся надежда на государство. Способ раздеться
Как избавить вас от имущества
Вы – семья среднего класса в 1917 году. Ваш кусок земли конфискуется безвозмездно. Частная собственность на землю отменяется (Декрет Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г.). Ваш дом в городе – его больше нет. Отменяется право собственности на земельные участки и строения в пределах городов (в рамках лимитов) (Декрет СНК от 23 ноября (6 декабря) 1917 г.).
Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и слитки), которые там есть (Декрет ЦИК от 14 декабря 1917 г.). Если вы не явитесь сами с ключами, все, что внутри, подлежит конфискации.
Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет СНК от 14 декабря 1917 г.). Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного комиссариата юстиции от 6 сентября 1918 г.). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 1918 г.). Если вы – писатель, ваши авторские права «переходят в собственность народа» (Декрет от 4 января 1918 г.). Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г.).
Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК «Об аннулировании государственных займов» от 21 января (3 февраля) 1918 г.). Запрет денежных расчетов с заграницей (Постановление Народного Комиссариата по Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г.). Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту (Постановление Народного комиссариата по финансовым делам от 3 октября 1918 г.). Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (Декрет СНК от 11декабря 1917 г.).
Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января (9 февраля) 1918 г.). У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 г.). Началось уплотнение.
Вашей доли в товариществе больше нет. Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций и т. п. Издательств, аптек, нотных магазинов. Частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). «Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь». Конфискации одного за другим. «За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду».
Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 г.). Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г.). Вам запрещается вывозить за границу «предметы искусства и старины» (Декрет СНК от 19 сентября 1918 г.). Вы не можете больше привозить из-за границы «предметы роскоши» (Постановление ВСНХ от 28 декабря 1917 г.).
Чтобы добить ваше имущество – единовременный чрезвычайный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918 г.). Москва – 2 млрд руб., Московская губерния – 1 млрд руб., Петроград – 1,5 млрд руб. Плюс права местных органов «устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги». «Должны взиматься преимущественно наличными деньгами» (Декрет СНК от 31 октября 1918 г.).
Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара статуэток. Деньги в банках съела гиперинфляция.
«Этот дом был наш»
Больше 100 лет прошло, но семьи все помнят. «Этот дом был наш». Или – «эта земля была наша». Вот один из множества рассказов (Александра Орджоникидзе). «Мой прадед, подкидыш в Московском воспитательном доме, работал лесным сторожем г. Брянска, имел 8 детей. Мой дед – восьмой, младший, встретил революцию студентом. Так вот – все дети лесного сторожа получили высшее образование (и две дочери тоже закончили Высшие женские курсы – акушер и учитель), далось это тяжелым ежедневным трудом. Двое старших (1873 и 1875 гг. рождения) выслужили личное дворянство, один по учительской, другой по инженерной (железнодорожной) части. Все они в 1918–1919 гг. лишились всего, что накопила семья, работая вдесятером».
«Разве был средний класс в 1917 г.?» – спрашивают многие. Но вот же он – средний, из самых низов, когда семья встает на ноги и готова много и трудно работать. Слушаем продолжение: «Другой мой прадед, Филипп Кузьмич Понитков, крестьянин Орловской губернии, герой Японской войны, Георгиевский кавалер, ранен. В поезде с востока в Питер у него началась гангрена и ему ампутировали ногу. В Питере попал в госпиталь императрицы Александры Федоровны (на 25 коек), получил второй Георгиевский крест из рук царя, разрешение на обучение за счет государства двух сыновей (один, мой дед, фельдшер, второй – священник) и… разрешение на торговлю спиртным (это было монополией государства). К 1917 г. у него было уже семь магазинов – в Туле, Орле, Брянске и др. В 1919 г. умный прадед бросил все и уехал в дальнее село никем».
Что сказать? Мы все очень разные – по доходам и имуществу. Одни семьи поднимаются, другие идут вниз, чтобы через два-три поколения снова встать на ноги.
Многие и сегодня хотели бы все отнять.
Главное – никогда больше. Никогда больше отъемов, никогда – изъятий и конфискаций, никогда – слез и сломанных судеб. Отнятое не приносит счастья. Это хорошо показала история России. А что приносит? Уверенность каждой семьи в том, что она может строить свой дом, свою состоятельность поколениями, не ожидая, что ей скажут: «Отдай все».
Цена рывков и реформ
Начало XVIII века, реформы Петра I – всеобщее разорение и одновременно то ли убыль населения, то ли уход его в тень, чтобы государство не видело, по крайней мере на 20 % (П. Н. Милюков, 1905). Октябрьская революция, 1917–1921 гг. – убыль населения на 8–10 % (П. Сорокин, 1923). Сталинская модернизация, 1930-е гг. – убыль населения на 4–5 % (А. Вишневский. Демография сталинской эпохи, 2003). Реформы 1990-х – убыль населения на 1,3 % в 1991–2000 гг. (прямая убыль, без учета нерожденных детей) (Росстат, МВФ).
Триста лет реформ в России, модернизационные рывки, множественные попытки догнать Запад, политические перевороты – все это всегда, за немногими исключениями, происходило в экстремальных формах, с высокой волатильностью, с точками выбора, в которых принималась не золотая середина, а способы достижения целей с наибольшими потерями.
А что впереди? Такая же сейсмика. Кризисы? Они обычны для таких развивающихся экономик, как Россия. Один-два раза в 10–15 лет – опять кризис. Само государство еще не устоялось. Оно существует с криками, вечными изменениями внутри, «непопулярными реформами». И каким оно будет через 10–15 лет – неизвестно. Переделы собственности, имущества. И, значит, у каждой семьи стоит вопрос: как сохранить не только себя, но и свое имущество. И в самом деле, как?
Правило отъема
На свадьбу нам подарили тысячу рублей. Деньги были трудовые, всей жизни, но приданое быть должно, никуда не денешься, пусть даже в панельных объятиях Москвы. Деньги и – легчайшие подушки, посапывающие до сих пор. Деньги были не наши, как бы абстрактные, где-то там лежащие, но все-таки на черный день, который не придет никогда. Между тем дни шли и шли, а рядом мирно спали другие деньги – у кого в пять, у кого в двадцать, а в знакомой семье – целых восемьдесят тысяч, что точно не меньше 20 млн рублей в любой день 2018 г. Как деньги всей жизни.
Ну и пришли. Деньги на тихую жизнь 60 плюс – эти деньги испарились вмиг на переломе 1990-х, оставив лишь злобу, компенсации и воспоминания о том, какие мы были идиоты. И долго потом мы вычисляли, и до сих пор это делаем, что стало бы и как бы мы жили, если бы не строили, как идиоты, то, что построить нельзя, любя все общее и не любя себя.
Что ж, проехали. Да не совсем проехали, потому что государство было отъем. Так было лет триста, и ему еще нужно сто раз доказать, что оно – источник, а не рука выводящая, чтобы мы в это поверили. И, когда вы снова услышите «денежный навес», то бегите с деньгами немедленно, потому что этот навес – ваши деньги, и к нему обязательно прикрутят то, что благонравно называется «денежная реформа» (их много было на Руси).
В самые горькие свои минуты государство любит взять. Делало это много раз. Для нас в эти времена важно сохраниться. Мы – дети тех, кто выжили в 1917-м, 1930-х, 1940-х. А наши дети – тех, кто выжил в 1990-х, когда было потеряно – ушли и не родились – несколько миллионов человек. И им нужно не только быть сохранными, но еще и – впервые в собственном отечестве – умножиться в имуществе, в земле, в домах и, конечно, в доходах. Хорошо бы, как мечта, как страстное желание – впервые, надолго, навсегда, в будущем и в настоящем.
Валюта – на выход! [1]
Вы можете свободно покупать и прятать – золото, серебро, камни и, самое главное, доллары. Все разрешено и приветствуется. Если, конечно, вы обретаетесь в 1922–1926 гг.
А с 1927 г. – ту-ту. За «укрывательство» серебряной и золотой монеты вас расстреляют. В августе 1930 г. Коллегией ОГПУ были приговорены к расстрелу: «1. Быков Ефим Евгеньевич, 68 лет, уроженец Москвы, гардеробщик Большого Театра. Обнаружено: 810 руб. серебра, большое количество дефицитных товаров и мануфактуры. 2. Леонтьев Гаврил Филиппович, 65 лет, гардеробщик Художественного Театра. Обнаружено: 865 руб. серебра. 3. Королев Николай Макарович, 1878 г., гардеробщик Малого Театра. Обнаружено: 449 руб. 50 коп. серебра» (Мозохин). И другие. Чтобы изъять серебро, произведено 485 тыс. обысков, 9,4 тыс. арестов, отобрано 2,3 млн рублей – серебряных разменных монет (на 27 сентября 1930 г. по СССР, Мозохин).
Доллары? В декабре 1931 г. – феврале 1932 г. «массовая операция по валюте» ОГПУ. «Были отмечены повальные обыски, которые, как правило, не давали результатов. Это объяснялось тем, что валюту, как правило, хранили в земле, в дровах, в стенах и т. д. Было отмечено, что результативность могла быть достигнута агентурной проработкой и сознанием арестованного, но отнюдь не обыском» (Мозохин).
Столовое серебро? «Циркуляр № 404/ЭКУ от 20 сентября 1931 г. дал указания на места об изъятии золотых и серебряных предметов домашнего обихода. Согласно этому циркуляру органы ОГПУ стали изымать у населения все ценные вещи. В связи с тем, что это уже было большим перебором, то циркуляр № 572/ЭКУ от 19 сентября 1932 г. разъяснил, что изъятие золотых и серебряных предметов домашнего обихода должно производиться только в тех случаях, когда количество их является товарным и представляет валютную ценность или же хранение их носит явный спекулятивный характер» (Мозохин).
В 1930 г. ОГПУ изъяло семейных ценностей на 10,2 млн золотых рублей (иностранная валюта – 5,9 млн руб., золото в монетах и слитках – 3,9 млн руб., серебро (изделия, лом, слитки, монеты) – 0,4 млн руб.). На 15 млн руб. – к маю 1932 г. Документ из архивов, мнение Сталина: «надо сказать спасибо чекистам» (Мозохин).
Как источнику индустриализации, конечно.
Вы зря зарыли клад. Он – не ваш
Если вы уехали за границы России по политическим побуждениям, то ваше имущество конфискуется, если вы не вернулись к моменту конфискации. Так гласит ныне действующий Сводный закон от 28 марта 1927 г. «О реквизиции и конфискации имущества» в статье 13.
Так что зарывать клады бесполезно. За кладами не возвращаются. Знаменитый нарышкинский клад из двух тысяч с лишним предметов столового серебра, пяти сервизов, таился в Петербурге, на улице Чайковского, 29, среди коммунальных квартир, под полами, в замурованной комнате, полтора на два метра. Сиял, не окислился, когда нашли его в мешках, пропитанных уксусом, и в газетах осени 1917 г. Дело было через 95 лет, в 2012 г. Нашлась и внучка, 84 лет, конечно, в Париже. Дело было безукоризненное – на каждом предмете нарышкинское клеймо, личная вещь. А отдать ее нельзя. И клад осел в Константиновском дворце (ныне – государственном).
Ибо – торжественно, медленно повторим: «конфискация имущества производится… в отношении лиц, бежавших за пределы Республики из политических побуждений и не возвратившихся к моменту конфискации». По статье 13 Сводного закона от 28 марта 1927 г. «О реквизиции и конфискации имущества», Постановление ВЦИК РСФСР от 28 марта 1927 г. «Об утверждении Сводного закона о реквизиции и конфискации имущества»). И этот закон действует!
Никто из них не вернулся в Россию к моменту конфискации. И больше никогда не вернется. Так что не делайте ям и потаенных комнат – за кладами не возвращаются и их не отдают – никому и никогда [2].
Ваших кладов больше нет
Были другие дома, и даже дворцы – и там были тоже клады большой силы. Знаменитый Феликс Юсупов, князь, женатый на племяннице Николая Второго, Ирине, писал в своих мемуарах 1917 г.: «Осенью я решил съездить в Петербург – припрятать драгоценности и самые ценные предметы коллекции. Как приехал, тотчас взялся за дело. Слуги, из самых преданных, помогали… Я собрал все фамильные брильянты и… поехали мы в Москву спрятать их. Схоронили под лестницей… Узналось все восемь лет спустя. Рабочие чинили ступеньки и нашли тайник». И добавил: «Из газет узнал я, что в Москве большевики нашли драгоценности, которые я так хитроумно спрятал в тайник под лестницей… Против рожна не попрешь… Пропали брильянты в Москве. Остается покориться судьбе и жить дальше» [3].
В то же время другой Феликс – Дзержинский – докладывал в ЦК РКП (б) 07.04.1924 «7-го апреля этого года нам сообщили из Военно-исторического музея (бывший особняк князей Юсуповых), что под лестницей вестибюля обнаружен тайник, в котором через отверстие в вершок-полтора, проделанном в стене, видны какие-то блестящие предметы… В тайнике оказались сложенные на полу разные старинные серебряные вещи (кубки, чаши и пр.) и несколько запертых сундучков… В одном из ящиков оказались драгоценные камни и украшения из них». Всего – на несколько миллионов рублей. 25 % стоимости мне нужны «на постройку опытно-образцовых домов для рабочих» [4]. 1 млн руб. 1924 г. – это не меньше 1 млрд руб. 2023 г.
Потомкам Юсуповых (а они есть) не досталось ничего. Из дворца Юсуповых в Петербурге только в Эрмитаж в 1923 г. было передано более 7 тыс. предметов, в т. ч. 277 картин (всего было их 1070), 1172 рисунка старых мастеров, удивительный фарфор на 268 предметов. Из тайников дворца в 1919 г. в Госбанк было передано больше 80 пудов столового серебра, потом еще 8 ящиков серебра, больше 13 кг золота и 4 ящика с драгоценностями [5]. Когда мы бродим вокруг «Амура и Психеи» Кановы в Эрмитаже – спасибо Юсуповым, когда-то и Амур, и Психея были их.
Что сказать? Кладов хочется, с детства хочется, таинственных, прекрасных. Но пусть не нужно будет зарывать их у нас дома, пусть никогда и никому не придется в вынужденных обстоятельствах спасать – и терять – свое имущество. Пусть все клады у нас будут только самых древних времен, и пусть никто из наших внуков, или даже праправнуков, не найдет ни одной металлической коробочки, в которой будет валяться все наше достояние. Пусть лучше наше имущество будет спокойно переходить из поколения в поколение, пополняя хорошую жизнь наших детей. Клады XXI века? Никогда!
Кладоискатели
Бессмысленно закапывать клады – их не отдают. Но мы ищем клады всю жизнь. Мой знакомый был кладоискателем в кубе. В старом, большеглазом двухэтажном доме – крепости его предков – были стены из толстых почерневших бревен, были полы с ямами под паркетной доской и еще внизу был просторный, безумный, злобный темный подвал, конечно, из кирпича, цепкого, как кошачий глаз. Не банкам же там валяться, набитым паучьей пыльцой, а золоту быть под покровом ночи.
Вступив в этот дом в сладком десятилетнем возрасте и сжившись с двором, кошкой, комнатами с вечнозелеными обоями и солнцем, он объявил отцу, что будет искать клад. Здесь должен быть клад. Он обязан быть закопанным. Или забитым под половицу. Или спрятанным в потемневшую масляную тряпочку, из-под которой проступают червонцы, но в шкафу с двойным дном.
– Нет, – сказал отец, – друг мой, ты ничего в нашем доме не найдешь.
– Ну, папочка, – заныл мой знакомый, конечно, в образе десятилетнего оборвыша. – Пусти меня в подвал, там – тайны, там могут быть даже призраки, которых нужно умолить уйти, пока не поздно!
– Однажды, – сказал ему отец, – поздним летним вечером, далеко до войны, к твоим бабушке и дедушке постучались два странника, он и она. Дело было в 1932 году, для тебя таком же далеком, как и годы пиратских наслаждений.
– Можно ли пройти на кухню, – спросила женщина твою бабушку, Полину Сергеевну, – и поговорить?
Никто ведь не помнит, как они выглядели. В темном, в синем, морщины, платок, выдававший его хорошее происхождение, может быть, седины, выцветшие глаза, что очевидно даже под хмуроватой лампой. Или так все было устроено, что они растворились в вечернем воздухе, как будто их и не было, оставив только след, что были.
– Простите, – спросил странник, высокий, сухопарый. – Как вас величать?
– Федор Иванович, – ответил твой дедушка.
– Поговорите с нами? – спросил он. – Стакан чая, может быть?
Чай, чай, чай. Над ним можно толковать, над кофейником, пожалуй, нет – терпкое разъединяет души. Но чай – да, конечно, и именно за чаем они признались – здесь не нужно имен, – что это их дом когда-то был – до реквизиций, до простраций, до выселений и просто бегств, но дом, старинный, плотный, был, несомненно, их. И можно без имен – хотя для взыскующего вынуть из бумаг их имена заняло бы полчаса.
За пять минут можно отторгнуть человека. А здесь прошлись по комнатам, и женщина застыла у печи, у изразцов, хотя и сгорбленных, но еще цветущих. «Я брала их у Кузнецова, – вдруг сказала она. – И у нас есть к вам нижайшая просьба».
Переночевать? Скрываться? Тайно подглядывать из окна? Не доносить властям?
– Видите ли, – и они переглянулись между собой, – мы надеялись вернуться и, когда спешно уходили из города, зарыли в подвале жестянку с червонцами.
– Золотыми, – добавила она, хотя и так было понятно, что не бумажки, не керенки, не гербы пустоглавые, а только николаевское золото могло быть закрыто, пусть и в жестянке или в промасленном кошельке, но только золото великое, самоцветное, пестро сияющее могло скрываться под земными глубинами.
– Клад, – добавил он и засмеялся. – Золотой клад, господи, как в детской книжке!
И попросил его отдать – для жизни советской, хотя, как зовут, где бытуют и потихоньку скрипят, конечно, не рассказал. Прилетели, сели, клюнули, выпили чайку, того, что липовый, – и скрылись во тьме, которой у нас много в душе.
В подвал вели литые, в узорах, ступеньки. В руках была керосиновая лампа, а гостям, или птицам – как их называть? – вручили лопату, не серп и не молот. Первый удар лопатой был глух, второй – беспочвенен, от третьего и мышь бы не зашевелилась, а вот на четвертом, нежном, почти скребке, был услышан не стон, а скрежет.
И был розовый восход. Из праха, из горечи пустынной появилась, с двуглавым жестяным орлом на крышке, большая, грешная цилиндрическая коробка «Товарищества Эйнемъ», набитая червонцами, как медно-тусклыми леденцами.
Бабушка ойкнула. Дед, наверное, заскрипел зубами. А затем двинулись вон, как пробитые пулей голуби. Не наше. Гости между тем набивали золотом малые емкости, но ежились, не запрут ли их сейчас в подвале, как бывает с кладоискателями и еще – правдолюбцами. Им было страшно. Наверху были люди и власти.
Наконец дверь сказала: «Заржавела, скриплю!» – и они появились из подвала на свет. Женщина держала в руке тряпицу с золотом – мерси за сохранение, за то, что сами клад не нашли, и за то, что не закрыли в подвале, ибо мало благоволения в наших проклятых лесах.
– Нет! – сказала бабушка Полина Сергеевна.
– Нет, нет! – сказал дедушка Федор Иванович.
Или они ничего не сказали – история об этом умалчивает, – а просто руку, к ним протянутую с тряпицей, полной золота, отодвинули, и пошли дальше, в год 1933-й, а потом в жестокий 1934-й и не менее проклятый 1935 год – дальше в войну.
Поэтому никто никогда не узнает их полных имен – благотворение должно быть слепым, глухим и немым.
– Но хотя бы в каком городе это случилось? – спросил я своего знакомого, так и не разрывшего подвал, как крот.
– В старинном купеческом городе Шадринске, – был ответ. – На реке Исети.
Бессмысленно закапывать клады в Москве. Никогда не вернутся они в Петербурге. Но, если в Москве встать лицом на восток и отсчитать ровно две тысячи километров, не больше и не меньше, то там, в городе Шадринске, на реке Исети, есть дом – куда ему деться, – где в подвале нет ни сундука, ни жестяной коробки, зарытой на полметра, ни даже царского пятака, вынырнувшего неизвестно откуда.
Этот дом стар, когда-нибудь совсем развалится, но он совершенно чист.
Любовь к денежным реформам
В XX веке в России – 2 гиперинфляции, 4 денежные реформы, 2 деноминации. В XXI веке пока ни одной, хотя исторической памяти не стоит терять: денежные потрясения – дело обычное.
У государства всегда была любовь к конфискационным реформам.
Поставьте запятую так, как считаете нужным. Но лучше все-таки помнить. Конфискационными денежными реформами был пронизан весь XX век. Рано или поздно кто-нибудь может захотеть согнать нули и с нынешнего рубля. Скажем, обменять 100 руб. на 1 руб. новый, вернуться к «полновесности» нашей валюты. Или добиться того, чтобы за 1 долл. США давали не 75–80 руб., как сегодня, а 75–80 коп. В России всегда любили сильный рубль, всегда считали его знаком силы государства.
Не факт, что это может быть так мягко, как в 1961 г. или 1998 г., когда денежный обмен свелся просто к деноминации.
Деноминация – не денежная реформа. Никаких ограничений по срокам обмена, никаких невыгодных курсов в обмене «старых» денег на «новые». Просто изменение масштаба цен плюс замена купюр. Скажем, деноминация 100:1 означала бы, что купюры с номиналом в 100 руб. будут заменены на купюры в 1 руб., валютный курс рубля станет автоматически вместо 85 руб. за доллар – 0,85 руб. за доллар, цена вместо 400 руб. – 4 руб., и так далее.
Деноминация – сложная техническая операция, ее не проведешь мгновенно (новые купюры должны замещать старые постепенно). Пример – 1998 г.: 1000 руб. – на 1 руб. Нужно миллиарды новых купюр напечатать, распространить и т. п.
Но бывает и так, что власти считают, что у населения – «денежный навес», что часть наличности накоплена неправедным путем, что ее нужно срезать и т. п. Тогда возникает конфискационная денежная реформа.
Так было в 1947 и 1991 гг. И так, по оценке, случилось в 1993 г., пусть и не в таких сокрушительных масштабах, как раньше.
Очень просто, нет проблем. Главная идея денежной реформы 1991 г. – убрать «денежный навес» (слишком много денег у населения и мало товаров). Но были еще и экзотические идеи – якобы начался контрабандный завоз фальшивой наличности из-за рубежа и диверсией этой занимаются западные банки.
Реформа была жестка, как жестяная банка. Объявлена «по телевизору» в 9 часов вечера 22 января 1991 г. Меняли не больше 1000 руб. на человека. Если больше, то спецкомиссии должны были это разрешить. Сразу же заморозили вклады в Сбербанке (на руки – не более 500 руб. в месяц). Те, кто копил на старость, могли лишь бессильно смотреть, как тают под ростом цен их сбережения. С апреля началась еще одна «конфискация» – повышение указами государственных розничных цен. Мясо стоило 2 руб., стало – 7 руб. Сахар был 85 коп. стал – 2 руб. Колбаса прошагала от 2 руб. к 10 руб.
На нас были сброшены все неудачи бывшего СССР. А какие? Что не удалось сделать? Сбалансировать военный и гражданский секторы. При падении мировых цен на нефть дать все стимулы росту. Обеспечить осторожный, двухсекторный переход к рынку, не уронить экономику. Накормить население – как лозунг, которому подчинено все на свете.
Денежная реформа 1991 г. – точка отсчета кризиса 1990-х, скачка инфляции. Бегства капитала из России. Кто будет вкладывать деньги там, где их отнимают?
Что в результате? Были съедены все сбережения тех, кто старше. В рынок вошли без главного инвестора – населения. Лучшего урока для тех, кто боится вкладывать в Россию, просто нельзя было придумать. На 25 лет вперед основными инвестициями в Россию стали спекулятивные, а главным риском – отъем собственности.
А как это было в денежную реформу декабря 1947 г.? [6] Цель – изъять большую часть наличности, резко сократить платежеспособный спрос тех, кто смог что-то «накопить» правдами и неправдами. Наличность, бумажные купюры, обменивались как 10 «старых рублей» на 1 руб. новый, вклады в сберкассах до 3 тыс. руб. (более 80 % вкладчиков) – как один к одному, суммы свыше 3 до 10 тыс. руб. – «за 3 рубля старых денег – 2 рубля новых денег», суммы свыше 10 тыс. руб. – «за 2 рубля старых денег – 1 рубль новых денег».
Одновременно тем же постановлением о денежной реформе «позолотить ручку» – отменялись карточки, уничтожалась двойная система цен (пайковые и коммерческие), вводились и единые государственные розничные цены (гораздо выше, чем в 1940 г., но ниже коммерческих). Цены на хлеб, муку, крупу и макароны снижались против пайковых на 10–12 % (и, значит, даже против 1940 г.), на табак и спички оставлены «пайковыми» (близкими к 1940 г.). Хлеб, как и все, что рядом с ним, должен быть дешев, иначе властям – не жить. Все остальные цены, сделав едиными, подняли в несколько раз (их уровень – между «пайковыми» и «коммерческими»).
А что в итоге? На начало декабря 1947 г. в обращении 59 млрд руб. наличности, к 16 декабря – 43,6 млрд руб., к концу декабря – 4 млрд «новых» рублей. Вклады в сберкассах на 16 декабря 1947 г. – 18,6 млрд руб., в конце декабря – 15 млрд руб. Количество денег, выпущенных в обращение, составило к концу 1947 г. 63,3 % от уровня 1940 г. [7] Экономический результат – экспроприация у населения более 90 % наличности (полученных ранее доходов, платежеспособного спроса) и 16 % вкладов в сберкассах. Вместо госдолга (облигационных займов населению) в 159 млрд руб. должно было остаться 59 млрд руб., т. е. сумма долга должна была сократиться в 2,7 раза [8].
А что с ценами? Перед началом денежной реформы государственные розничные цены были выше уровня 1940 г. в 3,04 раза. После ее завершения, в 1948 г., – в 2,56 раза [9].
Из денежной реформы население вышло с едиными государственными ценами (выше довоенных в 2,56 раза), при ликвидации более 90 % сбережений в наличности, имевшейся на руках, 16 % вкладов и более 60 % сбережений в облигациях.
Все началось 5 июля 1993 г. Банк России (наш главный, центральный) телеграфировал банкам – с 6 июля денежные знаки СССР в оборот не выпускать [10]. Почему? «В целях устранения множественности модификаций денежных билетов». Привычные всем бумажные рубли, трешки, пятерки, десятирублевки и т. п. – им вынесен приговор. Они еще есть, но будущего у них уже нет.
Но это еще не денежная реформа, не смерть старым деньгам. Зампред Банка России в «Известиях» заверяет, что замена банкнот будет мягкой, постепенной. Публика пока ничего не подозревает. Следует пауза, 3 недели – и вот наступает день Х.
Это – cуббота, 24 июля 1993 г. В выходные все закрыто. Мало что можно сделать, даже если кинешься менять, рыскать с деньгами по городам и весям, пытаясь их кому-нибудь всучить, пусть за немыслимый процент, лишь бы сохранить хотя бы часть стоимости. Лето, июль, разгар отпусков, масса людей – в отъезде. Президент России – в отпуске, министр финансов – в США.
Все готово для паники. В субботу, 24 июля 1993 г., банкам спускается новая телеграмма Банка России: с нуля часов 26 июля 1993 г. (т. е. с нуля часов понедельника) все бумажные деньги, выпущенные в 1961–1992 гг., «прекращают обращение на всей территории Российской Федерации» [11].
Вашим наличным – конец, они больше не деньги, их можно только обменять на «банкноты нового образца». И вам разрешено – так гласит телеграмма – обменять только 35 тыс. руб. А за это вам поставят в паспорт печать, чтобы вы— ни-ни, нигде и никогда не могли обменять сумму больше. Все, что больше 35 тыс. руб., сдадите в Сбербанк, и эти деньги вам зачислят на депозит сроком на 6 месяцев, без права на выдачу наличных. На весь обмен (разгар отпусков, жаркое лето) даются на всю страну, на все 148 млн человек, где бы они ни были, только 10 рабочих дней, с 26 июля по 7 августа.
Ответ – ужас, чувство беспомощности. Как пробиться сквозь очереди в сберкассы? Всего 10 дней на обмен! Старые деньги уже нигде не принимают. Люди в отпусках – как им вернуться, на что? Платежные карты? Их в стране практически нет.
Это означало только одно – конфискационную денежную реформу. Ну и что, что «один к одному»? Не успеть, не обменять – потерять деньги, имущество. Процент по депозитам – гораздо ниже инфляции.
А что такое 35 тыс. руб. в 1993 г.? Это примерно 30–35 долл. США. Средняя зарплата в России в 1993 г. – 58,7 тыс. руб [12]. То есть к обмену допускалась сумма ниже месячной зарплаты одного человека на 40 %. Цены 1993 г.: 1 кг мяса – 2,05 тыс. руб., 1 кг колбасы – 3,7 тыс. руб., 1 кг сыра – 2,5 тыс. руб., десяток яиц – 0,77 тыс. руб., 1 кг сахара – 0,7 тыс. руб., 1 кг яблок – 0,8 тыс. руб., водка – 4 тыс. руб. До зарплаты, которую выдадут «новыми деньгами», еще нужно дожить.
Вот репортажи «Российской газеты» о событиях в понедельник, 26 июля 1993 г [13]. Пенза: длинные очереди у отделений Сбербанка, в местном Сбербанке не хватает новых денег на размен. Самара: нет разменной монеты, в магазинах сдача спичками. Петропавловск-Камчатский: очереди в отделениях Сбербанка, многие в очередях усматривают «еще одну попытку властей ограбить народ», что делать отпускникам, получившим на руки 200–300 тыс. руб.? Сочи: паника в санаториях. На какие деньги купить обратные билеты?
«Известия»: [14] сдача жетонами на метро или жевательной резинкой, прекращена продажа газет, скандалы в очередях в магазинах – нет разменной монеты. Сбербанки Смоленска, Хабаровска – нет новых денег. «С утра обстановка в очередях накалилась, звучали даже угрозы применить оружие против работников сбербанка за отказ в обмене денег», «крайне накалена атмосфера среди отдыхающих на Черноморском побережье», появились уличные менялы со своим курсом, «большинство курортников оказались в безвыходной ситуации» (В. Коновалов). Что делать северянам, шахтерам, нефтяникам (у них высокие зарплаты), крестьянам (как добраться до отделений Сбербанка) (О. Лацис)? В валютных обменниках два курса: новые банкноты – 1150–1300 руб. за 1 долл., старые банкноты – до 2500 руб. за 1 долл. С резкими заявлениями («мы ничего не знали») выступили Председатель Верховного совета и министр финансов.
А что сказано в дневниках? Все то же. Татьяна Коробьина, 82 года, 26 июля. «Сегодня тысячи людей стоят около сбербанков, чтобы обменять деньги. А те, кто уехали куда-либо далеко в отпуск, в полной растерянности… У нас, как всегда, бестолковщина – новых денег почти нет, есть крупные купюры, а мелких нет… сдачи давать нечем». 27 июля. «Газеты… два дня никто не мог купить… Магазины наживались, так как некоторые уходили, не получив сдачи» [15].
А вот экстремал, аноним, его дневник, 25–27 июля: «Подлежат обмену деньги в сумме символической, на полпуда колбасы хватит той наличности». Или: «Эту акцию обмена провокация заела, сила черная засела». Или даже: «Сколько выдержит народ такие издевательства? Неужели нет границы этим надувательствам?»
А как отбивался Банк России? Вот ответ: Россия переходит на свою валюту, на российские рубли, нужно отсечь ее бумажноденежную массу от рублей, старых банкнот, в бывших республиках Союза. Они обрушиваются на российский рынок, товары – за бумажки, растет инфляция.
Но почему такие жестокие сроки? ЦБ РФ упирался – мы правы, старых купюр мало, всего 7–10 % в денежной массе (А. Хандруев, зампред ЦБ РФ) [16].
Затем со временем был дан другой ответ: ошибочка вышла. В. Геращенко (в 1993 г. председатель Банка России): «В 1961 г., когда производился обмен всех денег, было установлено, что старые и новые дензнаки будут иметь хождение три месяца. Но население тогда сдало старые деньги за три с половиной недели. Поэтому мы посчитали, что на этот раз успеем произвести обмен за две недели» [17].
В понедельник, 26 июля 1993 г., в обмен денег вмешался Президент РФ [18]. Это была срочная хирургия. Лимит обмена поднят до 100 тыс. руб., срок обмена продлен на весь август, мелкие купюры в 1, 3, 5 и 10 руб. снова признаны действительными (как «разменная монета», пока ее не хватает).
И все успокоились, и жизнь снова потекла полноводной рекой.
Только вот насилие над деньгами семей – внезапно, в момент летних отпусков – забыть уже невозможно.
По отчету Банка России за 1993 г. [19] обменяли 1,9 трлн руб. старого образца (0,7 трлн руб. – бизнес, 1,1 трлн руб. – население, 0,1 трлн руб. – мимо Сбербанка, через так называемые расчетно-кассовые центры ЦБ РФ). На депозиты в Сбербанк положили всего 0,04 трлн руб. (167 тыс. человек).
А сколько человек всего пришли менять старые купюры? С 26 июля по 31 августа 1993 г. – 24 млн человек, в среднем по 46 тыс. руб. на брата. А сколько денег было потеряно населением? Не смогли их обменять? Неизвестно. На начало 1993 г. масса наличных денег в обращении в России – 1,68 трлн руб. [20] Все они состояли из старых купюр и должны были быть обменены. Но на начало июля 1993 г. масса наличности была, по оценке, не ниже 5,1 трлн руб. [21] Все это время (6 месяцев) банками «наружу» выпускались не только новые, но и старые купюры.
Сравним эти числа – из 5,1 трлн руб. изъяли (обменяли) 1,9 трлн руб. А остальные? Это смесь из «старых» и «новых» денег, и сколько «старых» осталось за бортом, сколько их потеряло население – бог его знает! Хотя Банк России должен был бы это знать.
Но эти данные никогда не публиковались.
Наличные деньги – грубая, тяжелая материя. Реформа 1993 г. – замена миллиардов банкнот. А что с ними случилось потом?
В. Геращенко: «Мы сняли два цеха на заводе им. М. В. Хруничева… Кроме заводской охраны поставили свою. Очень пригодилась их железная дорога. В результате считали деньги пять лет!»
Пять лет! А дальше – что? «Деньги можно только сжечь и только на цементном заводе. Топки металлургических комбинатов не выдерживают, прогорают колосники. КПД сгорания настолько высок, что даже цементные заводы закатывают скандалы, когда им предлагаешь провести эту… процедуру» [22].
А есть ли они? Да, конечно! Не дай бог попасть в конфискационную денежную реформу. Не копите бумажные деньги. Не считайте их истинной ценностью. Есть масса примеров, когда они вдруг, в один час становятся просто резаной бумагой, хорошего качества, с прекрасными иллюстрациями и защитными знаками, но все-таки – бумагой. Вкладывайте, прежде всего в себя, в свою силу, в свое здоровье, в свои умения, в возможности генерировать доходы даже в самых старших возрастах. В свою семью, которая всегда поднимет и прокормит. В дома, в землю, в имущество, не теряющее в одночасье свою ценность. В то, что можно передавать из поколения в поколение, а не обклеивать им стены.
Седуксен [23]
«В сейсморазведке не было принято обращаться к другим по прозвищам, хотя в сейсмике всегда работало много бывших зэков, так как сейсмика давала и одежду, и кров, и пищу, и прописку, и хорошую зарплату. Да и в отделе кадров на судимость не смотрели, нужны были люди для работы в суровых условиях. Когда в Москве зарплата в 200 рублей считалась большой, а в 300 – очень большой, моя первая зарплата в сейсморазведке, когда у меня еще не было «северных», составила 600 рублей в месяц.
Работал у нас мужик, которого за глаза все называли «седуксен». Хороший мужик, тракторист, бывший зэк, регулярно глотал таблетки седуксена, за что и получил это прозвище.
Седуксен работал в сейсмике много лет и копил деньги на дом. Но не просто на любую развалюху, а на добротный, большой, ухоженный дом. И вот накопил, даже что-то присмотрел, но решил поискать еще получше.
В это время Михаил Горбачев назначил премьером Валентина Павлова и тот утверждал, что никакой денежной реформы не будет. Но в один не очень прекрасный день реформа началась, деньги на вкладах заморозили, и цены полезли вверх не по дням, а по часам.
Тут Седуксен понял, что на деньги, ради которых он горбатился, ремонтировал свой трактор в минус 40, гробил здоровье – он уже и развалюху не купит.
Седуксен заболел, слег в больницу и умер. А Михаилу Горбачеву и Валентину Павлову передал огромный привет…»
Секретная инструкция. Война с мельницами
У вас – деревенские корни? Тогда ваша cемья – кулацкая, если у нее есть мельница, маслобойня или крупорушка (ЦИК СССР, СНК СССР, Постановление от 23 февраля 1930 г.). Или – просорушка, волночесалка, шерстобитка, терочное заведение, картофельная, плодовая или овощная сушилка (тот же самый ЦИК).
Все это конфискуется. А также дом, любые постройки, инвентарь, запасы, сберкнижки, облигации и деньги. Все-все, кроме 500 рублей (Президиум ЦИК СССР, Секретная инструкция от 4 февраля 1930 г.). Дано задание: 60 тыс. кулаков – в лагеря, 150 тыс. – на поселение в Сибирь, на Урал и т. п. (Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 г.).
Имущество прочих? Сдать в колхоз все – землю в пользовании, лошадей, инвентарь и скот (ВЦИК, СНК СССР, Постановление от 16 января 1930 г.). Оставить дом, участок при нем и корову – и обложить их налогами. А церкви закрыть (Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 г.). «Покончить с противогосударственной и противоколхозной практикой попустительства в отношении единоличника» (СНК СССР, ЦК ВКП (б), Постановление от 19 апреля 1938 г.). А его имущество – загнать в колхоз.
Кстати, а колхозное – чье это? «Приравнять по своему значению имущество колхозов… к имуществу государственному… Применять… за хищение (воровство) колхозного… имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества» (ЦИК СССР, СНК СССР, Постановление от 7 августа 1932 г.).
Что имеем? Конфискованная деревня. Времянки, люди без имущества. Что еще? Наемные рабы («палочки»), без паспортов, то, что производят для себя, на участке, еще и обложено налогом. Любым способом – в город, человеческое опустынивание.
Нам же остается приезжать в пустынные места, в пустынные дома – или следы домов – и проклинать все то, что оставило большинство без наследства. И погубило сотни тысяч семей.
Это – не мы. Не мы это делали. Рабы – не мы. Но можем – это носится в воздухе – стать рабами.
Или становимся – кто радостно, кто тягуче, кто проклиная все – но ими.
Или все же нет? Не становимся?
Здесь нужно поставить знак вопроса, оставляя будущую историю тому чувству меры и предосторожности, которое должно было возникнуть у нас из прошлого.
Или просто сказать: «Увидим!»
Узнаем. Сами, на своей шкуре.
Госдолг. Как не вернуть вам деньги
У российского государства – кредитная история не очень. Последний дефолт – в 1998 г. Финансовая пирамида ГКО – ОФЗ, кризис 1998 г., крушения рубля, банков, инвестиционных фондов, вспышки инфляции – массовые потери для всех нас [24]. И, конечно, вечно находящиеся под ударом пенсии.
Это все новенькое? Или продолжение длинной истории?
Началось все просто – в 1917–1918 гг. все облигационные займы были аннулированы.
Дефолт. Ну и ладно.
В 1922–1957 гг. в СССР (Россия – правопреемник) выпущены около 60 облигационных займов, в 1957–1990-х – 5.
Каких только не было займов! В 1920-х – натуральные (хлебный на 30 млн пудов хлеба, сахарный на 1 млн пудов сахара). Их погашение делалось натурой или деньгами по рыночной цене хлеба, сахара. Займы на военные расходы (1937-й – начало 1940-х), на расходы в сельском хозяйстве (1925, 1927 гг.), на восстановление народного хозяйства (5 займов в 1946–1950-х), на индустриализацию (3 займа в 1927–1929 гг.), на развитие народного хозяйства (11 займов пятилеток в 1930-х, 7 займов развития в 1950-х).
В 1920–1930-е с высокой частотой, а начиная с 1940-х – через 10–15 лет выпускались государственные процентные выигрышные займы (9 %-ный заем 1930 г., 3 %-ные займы 1938, 1947, 1966, 1982 гг., 15 %-ный российский заем 1992 г.). В 1920-е – начале 1930-х выпущено около 30 отраслевых займов («автомобильные обязательства», «велосипедные обязательства» и т. п.), гарантированных государством. А Минфин как-то дал жизнь беспроцентным краткосрочным платежным обязательствам, с мелким номиналом (1927 г.). Это, по сути, деньги, они могли быть средством платежа.
Принудительные займы. В 1923 г. – первый государственный 6 %-ный выигрышный заем. Реализован среди имущих слоев в принудительном порядке (подрядчиков, комиссионеров, поставщиков, лиц, имеющих высокие доходы), т. к. «участие их в подписке на заем не соответствует тем средствам, которые сосредоточены у них на руках» (Декрет СНК СССР от 4 сентября 1923 г.).
Фактически принудительными были займы 1940–1950-х, распространяемые среди населения по подписке. «Дружной подпиской на государственные займы трудящиеся СССР демонстрировали свое морально-политические единство, сплоченность вокруг Коммунистической партии и готовность активно участвовать своими средствами в строительстве коммунизма» [25]. В 1957 г. выпуск таких облигаций был прекращен.
Дефолты? Конечно, были. Почти все займы 1927–1945 гг. были обменены на облигации с более длительным сроком погашения и меньшим процентом (например, вместо 10 на 20 лет, вместо 6 % на 3 % и т. д.).
Еще дефолты. Подавляющее большинство займов, выпущенных в 1947–1957 гг., были в 1957 г. продлены на срок в 20 лет, а фактически на больший срок, т. к. погашение по ним должно было идти тиражами выигрышей еще 20 лет (гаситься начали в 1974 г.).
Эти облигации были в каждой семье. Просто валялись.
Постоянно ухудшались условия облигаций. В 1920-х преобладали займы на короткие и средние сроки (до 1 года, до 5–6 лет). С конца 1920-х и до середины 1930-х наиболее распространенным сроком займа стали 10 лет. С июля 1936 г. и до конца 1980-х облигации выпускались, за единственным исключением в 1957 г., на срок 20 лет. Ставка по облигациям понизилась от 8–12 % в 1920-х – начале 1930-х до 3–4 % в середине 1930-х – начале 1950-х и до 2–3 % до конца 1980-х.
Что впереди? Верьте только себе.
Как не дать вам построить дом
Мы родом из рабства, ничего не поделаешь. И от рабства недалеко ушли. Языком документов – о нашем жилье. О нашем рабском жилье.
«В личной собственности гражданина может находиться один жилой дом (или часть одного дома). Размеры жилого дома юридически нормированы… Предельный размер жилой площади для индивидуального строения установлен в 60 кв. м.» (ГК РСФСР; Астановский Г. и др. Комментарии к ГК РСФСР. М.: Юридическая литература, 1982).
«1. Запретить повсеместно отвод гражданам земельных участков под индивидуальное дачное строительство. 2. Признать необходимым прекратить продажу гражданам дачных строений» (Постановление Совмина СССР от 30 декабря 1960 г. № 1346).
«1. Установить, что продажа легковых автомобилей, принадлежащих индивидуальным владельцам, может производиться только на комиссионных началах через магазины государственной торговли. 2. Поручить Советам Министров союзных республик: … б) запретить регистрацию в органах Госавтоинспекции легковых автомобилей, купленных гражданами у индивидуальных владельцев автомобилей помимо магазинов государственной торговли или собранных ими из отдельных агрегатов и запасных частей» (Постановление Совмина СССР от 23 марта 1961 г. № 277 «О дополнительных мерах борьбы со спекуляцией легковыми автомобилями»).
Летние садовые домики и моральные извращения, с ними связанные. Не больше чем от 4 до 6 соток. Запреты на второй этаж, на подвалы, на отопление, на проживание. Обязанность выращивать.
«В некоторых районах страны под видом летних садовых домиков ведется строительство особняков дачного типа с гаражами и банями. Все это не только наносит экономический ущерб народному хозяйству, но и ведет к серьезным отступлениям от моральных и нравственных норм советского образа жизни, извращению сущности коллективного садоводства и огородничества…
…Установить, что в коллективных садах членам садоводческих товариществ земельные участки выделяются в размере от 400 кв. метров до 600 кв. метров… Летние садовые домики не предназначаются для постоянного проживания и не включаются в жилищный фонд…
…Члены садоводческих товариществ и коллективов огородников обязаны рационально и высокоэффективно использовать выделенные им земельные участки для производства… фруктов, ягод, овощей…» (Постановление Совмина СССР от 29 декабря 1984 г. № 1286 «Об упорядочении организации коллективного садоводства и огородничества»).
Все это еще недалеко от нас и снова обязательно придет, если только мы не остановимся хотя бы в шаге от очередного приступа всеобщей мобилизации.
Рабство или свобода, дома и имущество у семей или запреты на них, собственность или отчаянная любовь к государству и кормление у него – в этих развилках мы по-прежнему живем.
Реквизиция со вкусом. Зинаида Морозова
Она была староверкой, но сходила замуж три раза. Вторым браком – за Саввой Морозовым, третьим – за московским градоначальником. Спасла его от тюрьмы. Отстроила в Москве пышнейшие особняки, вложилась во МХАТ, родила четверых детей, ее салон расцветал первейшими именами, и, наконец, исполнилась ее мечта – она была торжественно записана дворянкой Резвой. После чего еще раз развелась.
Как пышно она цвела! Устроила усадьбу, почти Афины, с колоннами и портиками, центральным отоплением, ваннами и телефоном, знатными коровами и бесконечными пространствами. Пятьсот яблонь, триста вишен и множество парников.
Ее загородный телефон был первым в Москве. Этот-то телефон и погубил ее. В усадьбу ее «Горки», нынче Ленинские, въехал новый большой начальник, во флигеля – охрана, ибо ни у кого больше в окрестностях Москвы не было телефона и прямой связи с Кремлем.
А что же Зинаида Григорьевна? Лисица была выгнана, хотя еще весной 1918 г. вроде бы все утрясла, получив охранное свидетельство от Республики на принадлежащий ей «дом с художественно-исторической обстановкой». Но дом понадобился властям.
А дальше была жизнь в коммунальных внутренностях Москвы. Еще тридцать лет. До 1947 г. Десять лет жила продажей вещей. Наконец, мелкая пенсия от МХАТ. И четыре фамилии, притороченные к ней как крылья: Зимина, Морозова, Рейнбот и, конечно, Резвая.
Способность обуздывать и усмирять никак не заснет в российской истории. И она же корчит странные гримасы. Дом был огромен, но Ленин умер в ничтожно малом будуаре Зинаиды Морозовой, у ее роскошного туалетного столика, у золоченого зеркала, идущего к самому потолку.
Она два года не дожила до того, как «Горки» открыли для всех.
Наши вещи Щукина и Морозова
Неловко идти мимо чужих вещей. Что в Пушкинском, что в Эрмитаже. Очи импрессионистов. Сотни. Хотя бы маркированы (в Эрмитаже) – вот это забрано у Сергея Щукина, а это – у Ивана Морозова. Руки до них дошли в ноябре-декабре 1918 г.
«Принимая во внимание, что Художественная Галерея Щукина представляет собой исключительное собрание великих европейских мастеров, по преимуществу французских конца XIX и начала XX века, и по своей высокой художественной ценности имеет общегосударственное значение в деле народного просвещения, Совет Народных Комиссаров постановил: 1) Художественную Галерею Сергея Ивановича Щукина объявить государственной собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики…» (Декрет СНК от 5 ноября 1918 г.)
Дальше уже без всякого обоснования «общегосударственным значением». «Совет Народных Комиссаров постановил: Художественные собрания А. И. Морозова, И. С. Остроухова и В. А. Морозова объявить государственною собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» (Декрет от 19 декабря 1918 г.).
Может быть, все дело в том, что мы живем среди чужих, навеки отнятых вещей, за которые никто не попросил прощения и не покаялся.
Как от вас избавиться. Коншины
В граде Серпухове, в 100 километрах от Москвы – рай для монастырей. Через реку, почти друг против друга, стоят женский и мужской монастыри, почти семья, обмениваясь опытом и дарами природы. На бугре, где был старый град, бродят свадьбы. Невесты не хуже московских.
Там ёжатся купеческие дома и обломки церквей. Там приколот к ним узкий темноглазый Ленин и ампир 1950-х. Стынет желтейшая на свете, когда-то свирепая гауптвахта. Мокнут улицы, мокнут кубы из силикатного кирпича, забитые зеленью. Мокнут перьями старушечьи дома, в сонном, сосновом своем существовании. Они везде, как голуби.
Там поверх Нары, узкой, как прищур, поверх ее вод, поверх холмов, пустынных ив и птичьих перелесков стоят пустые, из красного кирпича, старинные заводские корпуса. Звались они когда-то «Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина в Серпухове», и там работали одиннадцать тысяч человек. Пряли, ткали, набивали ситец, красили. С XVIII века. Парижская всемирная выставка. Совладельцы, два знаменитых Николая – Второв и Коншин – среди богатейших семей России в начале XX в. (1-е и 11-е места). И оба – не уехали, просто растаяли в 1918 г. В 1930-е сыновья Коншина были арестованы. Один из них, Сергей, дожил до 1964 г. Взят в 1932-м после встречи с англичанином – бывшим управляющим, приехавшим в Москву в посольстве. Почти 20 лет лагерей. После лагерей работал хормейстером. И оставил прямых наследников.
Неуемный Николай Коншин, растаявший в 1918-м. Именно он стал сеять хлопок в Туркестане. Выстроил электростанцию в Серпухове. Генконсул Королевства Сербии и княжества Болгарии. Создал сбыт по всему миру. Местная больница, кирпичные дома и казармы для рабочих (там до сих пор живут). Чайные для рабочих. Три храма. И, наконец, собственная усыпальница в Высоцком монастыре в Серпухове, на высоком берегу Нары, знаменитого архитектора Романа Клейна. Была разрушена, ныне восстановлена ради красоты своей.
Заводы – дело рук человеческих. Они появляются в муках на свет, по образу отцов-основателей. Чудесные фабрики Коншина, из красного непревзойденного кирпича, под гордыми кличками «Красный текстильщик» и «Серпуховский текстиль» прожили после него еще 90 лет. И наконец погибли в 2000-х.
Какой урок в том, что строитель, фабрикант, создатель, с любовью строивший собственную усыпальницу, для всей семьи, на святой монастырской земле, сгинул бесследно в 1918 г.? Какой смысл в том, что большой род с десятками детей и внуков, двести лет строивший собственную фабричную и торговую империю, растворился в небытии? Как случилось, что монастыри отстроились, а родовые фабрики уничтожены?
Улицы Серпухова – Ворошилова, Ленина, Пролетарская, Ленинского комсомола, Луначарского, Революции, Свердлова, Карла Маркса, Советская, Джона Рида. Толпа мастерских по производству памятников. Бывшие заводы, заполненные мелкими ремесленниками. Уникальные образцы тканей XIX века – как их сохранить?
Этот вид раскрытого, как раковина, кирпичного тела крупнейших столетних фабрик, вот это закончившееся умение прясть, ткать, разрушенный индустриальный дом, который строила из поколения в поколение большая семья, – все это создает для заезжего человека мучительное воспоминание о городе, в котором смешаны – в летней зелени – блистающие, пахнущие свежей краской, сияющие белизной монастыри, буденовки и почти черные тела умерших фабрик.
Что ждешь от государства
Недоверие к государству, предвкушение отбора, отъема, изменения правил игры к худшему – риск, который с 1990-х заставлял уходить российские капиталы на Запад. Этот риск + налоги.
Мы двойственны. Мы сызмальства привыкли полагаться на государство. Но где-то там внутри, у сердцевины, всегда был червячок сомнения в том, что государство играет за тебя.
«Все равно обманут» – вот наше уличное присловье. Или – «все равно отнимут». Кто-то. «Они», имея в виду государство, властные структуры. Поэтому мы все время строим времянки. Живем – в нашем имуществе – в короткую.
Самые пронзительные «имущественные» истории советского времени – тяжелейшие денежные реформы, с отбором «спекулятивных» денежных излишков; принудительные облигационные займы, по которым год за годом ухудшались условия и откладывались погашения, до полного умаления сумм и людей, когда-то занимавших. «Обнуление» сбережений на рубеже 1990-х.
У всего этого было продолжение.
Пирамида ГКО. Дефолт по госдолгу в национальной валюте, в государстве – эмиссионном центре, в условиях, когда 60 % госдолга держало само государство (ЦБ и Сбербанк), – почти неслыханное дело.
Пенсионная реформа с ее длинными деньгами, которые немедленно стали короткими. Выдержала только чуть больше 10 лет. Несколько пересмотров – к худшему. Замораживание пенсионных накоплений в 2010–2020-х.
Фонды «будущих поколений» (Стабфонд, потом Фонд национального благосостояния). Они могли опускаться почти до нуля.
Финансовые кризисы, девальвации, удары по карманам, вызванные внешнеполитическими рисками. Кампания «очистки» банков, брокеров, страховщиков, инвестфондов, которая привела к гибели в 2014–2021 гг. больше 60 % этих институтов, с утратой части финансовых активов населения и бизнеса.
В этом проблема – в отсутствии доверия.
В понимании того, что любая новая, самая благожелательная конструкция, вменяемая государством, – это времянка.
Что через 10 лет все станет по-другому.
В ветрености правил. В том, что государство всегда, «вечно», на нашей памяти, подписывая контракт с обществом, затем вычеркивает из него пункт за пунктом и, начиная с благих намерений, неизменно заканчивает чем-то худшим.
Доверие к государству – это знание того, что оно всегда в длинном историческом времени будет играть в твою пользу.
Это доверие либо есть, либо его нет.
Если оно есть, семьи будут богатеть, наращивать имущество из поколения в поколение. Учиться не разоряться, управлять своими активами.
Если его нет, наша имущественная жизнь – это времянки, вывоз капиталов и детей, крайняя нестабильность и бедность во всем.
Пока у государства неважная история.
И поэтому пока то, что ждем, – времянки. Надежда – только на себя.
Отбить свое имущество. Маленькие хитрости
Как сохранить поместье для женщины, когда этого сделать нельзя
Что ж, такое чудо случилось. При тотальной национализации. Чудо предусмотрительности.
Василий Поленов (1844–1927), известнейший художник, благодаря своей обширной общественной и благотворительной деятельности обеспечил свою семью на 100 лет вперед, на три-пять поколений в будущем.
Всем известное «Поленово» – построенная им усадьба из многих домов и сооружений в выбранном им месте на берегу Оки, на обширном участке земли в N га.
Когда в 1917 году жгли и грабили помещичьи усадьбы, Поленов собрал сход крестьян и просил их решения – остаться ему жить у себя дома или уехать. Усадьбу не тронули, семья осталась. Дальше диктатура пролетариата. Основная идея – отдать все «им», чтобы сохранить активы и семью. Поленов заключил своеобразный «своп» – создал в усадьбе частный музей за право семьи жить в усадьбе. Получил охранную грамоту Луначарского (не подлежит национализации и конфискации). Обеспечил право семьи на управление музеем, т. е. на жизнь у себя дома.
В сталинские времена, в 1930-е – второй «своп». Все имущество, все коллекции переданы в дар государству за подтверждение права семьи жить в усадьбе и руководить музеем, т. е. жить у себя дома. Директорский пост должен был передаваться по наследству только членам семьи при сохранении бывшего личного имущества, коллекций, активов. Конец 1930-х – момент наивысшего риска. Чудом не разграбили, не роздали по учреждениям, сын художника – директор музея – и его жена были репрессированы. Освобождены в 1944-м, в год столетия Поленова. Семья и ее активы смогли выжить.
Эта нитка дотянулась до сегодняшнего дня: 2018 год, директор музея-усадьбы «Поленово» – правнучка Поленова. Ей чуть за сорок. Способность удерживать контроль за активами семьи в далеком будущем.
Истинное чудо «правового и финансового инжиниринга». Сохранение в целостности того, что сохранить было нельзя. Каждый из нас был бы счастлив сделать это для своей семьи – сохранение активов, надежный кусок хлеба, хотя бы на несколько поколений вперед.
Но «Поленово» – федеральная собственность. Завершится ли этот круг, спустя 100 лет, реституцией? Вернется ли имущество, нажитое личным трудом (имение было приобретено на средства от продажи картин), семье, ибо сделка конца 1930-х – передача всего имущества в дар государству – по всем признакам была вынужденной?
В Восточной Европе это, скорее всего, случилось бы. Усадьба стала бы частным музеем. У нас – открытый вопрос для многих семей. Не обсуждается. По-прежнему многие семьи знают свою собственность, бывшую у них до 1917 года, хотя, может быть, уже не смогут доказать право собственности.
Частный дом с видом на Кремль
Кому-то не удается сохранить даже ручные часы в третьем поколении, а здесь целый частный дом, особняк в центре Москвы, где каждый метр – на вес золота. И в нем – внуки и правнуки.
Как это удалось? Какие гении «сохранения семейного имущества»!
Проще всего, если ты лепкой или кистью познаешь мир. Дом Веры Мухиной, дом архитектора Александра Кузнецова, дом архитектора Константина Мельникова. Все это – в самом сердце Москвы.
Какой вкусный язык! «В мае 1915 года мой отец, Александр Васильевич Кузнецов, известный в Москве архитектор, купил этот дом у старой купчихи Е. А. Воскобоевой, собиравшейся уехать в Петербург на житье к сыну. Поводом для папиной покупки послужило желание поселиться где-то поблизости от гимназии Алферовой, куда поступила моя старшая сестра Эля, но в действительности главной причиной было его давнишнее, заветное желание создать дом, полностью отвечающий вкусу и потребностям его самого и всей нашей семьи» [26]