Человек раздетый. Девятнадцать интервью
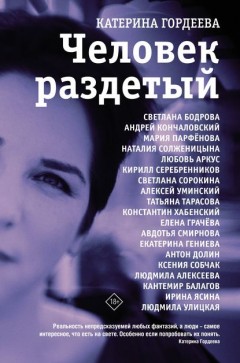
© Гордеева К.В., 2019.
© ООО “Издательство АСТ”, 2019.
В книге использованы фотографии Ольги Павловой, Солмаз Гусейновой, Виктора Горячева, Елены Рифеншталь, Андрея Рыбакова, Анны Шмитько, Юрия Роста, из личного архива Светланы Бодровой и агентства РИА Новости
Автор и редакция благодарят за предоставленные материалы интернет-издания Colta.ru, «Медуза», «Правмир», «РБК Стиль», «Такие дела».
Предисловие
Со стороны кажется – ну что такое взять интервью? Ерунда. Вот ты приходишь, спрашиваешь о том, что тебя интересует, человек, сидящий напротив, отвечает, ты киваешь, старательно сочувствуешь, пытаешься понять, задаешь следующий вопрос. Когда вопросы кончаются, все пожимают друг другу руки и расходятся. И интервью готово. Но, разумеется, всё сложнее.
Один важный для меня человек, чьего интервью я добивалась несколько лет, как-то написал мне в ответ на очередную просьбу встретиться и поговорить под запись: «Давай начистоту: я не рискну. И вот почему: ты найдешь ход туда, куда я не хочу, чтобы входили. Но, уверен, я не успею отсечь; когда ситуация станет необратимой, ты уже по уши окажешься в моем “не хочу”. Все герои от тебя выходят раздетыми. Так, что ли. Ты не нападаешь, но не даешь шанса укрыться. Поэтому я предпочту другие площадки, чтобы рассказывать о себе: там будет зло, весело или просто мило, но без ненужных и поворотов, и углублений. Прости, пожалуйста. Скорее, это знак уважения к тебе».
Интервью этого человека, к сожалению, в книге не будет – оно так и не случилось. Много раз встречаясь по разным другим поводам, под запись мы так и не поговорили.
Возможно, мой неслучившийся герой прав. Я представляю себе интервью двойным сеансом психоанализа, после которого каждый из участников уже не будет, не сможет быть собой прежним. Во время такого сеанса становится очевидным, что претворять в жизнь замысел и притворяться – совсем не одно и то же. А мы ведь все понемногу притворяемся, даже самые лучшие из нас. Самые лучшие, думаю, тщательнее и основательнее других. И потому – им страшнее. Их легче ранить.
Многие полагают, будто роль интервьюера в том, чтобы «достать» собеседника: вывести на чистую воду, поймать на несоответствии, загнать в угол.
Я так не думаю.
От себя не убежишь, как быстро ни бегай. Любой говорящий проговаривается, если не помешать, не испугать, не поторопить.
Как правило, я готовлюсь к интервью долго: читаю, выписываю, размышляю. Пытаюсь понять и, что важнее, «прорепетировать». Иногда репетирую наоборот: сама отвечаю на свои же вопросы, как будто я – это тот, кто мне отвечает. Знаю, звучит немного странно.
Я часто вижу свои интервью во сне: те, что уже случились, те, что предстоят завтра, те, которым никогда не бывать. Не было ни единого раза, чтобы увиденное совпало с реальностью. Реальность непредсказуемей любых фантазий, а люди – самое интересное, что есть на свете. Особенно если пытаться понять даже самых запутанных из них. Собственно, в том и состоит профессия интервьюера. Ну, это если спрашивать меня.
Катерина Гордеева
Девятнадцать интервью
Интервью первое
Светлана Бодрова
Бодрову я знала задолго до того как с ней познакомилась: встречала в коридорах телецентра «Останкино», слышала от общих друзей – Чулпан Хаматовой и Сергея Кушнерёва. Во всех разговорах – Светка. Из разговоров выходило, что она сильная, талантливая и очень гордая. Я слышала о ней так много, что выходило, будто мы и вправду знакомы, дружим. Слышала обо мне, видимо, и она – у нас общий круг. В общем, когда в первый раз я ей позвонила, мы говорили на «ты». Я сказала: нужно, чтобы она дала интервью. Не попросила, не спросила, так и сказала: «Мне нужно, чтобы ты дала интервью». До меня ей звонила Чулпан и тоже, как выяснилось, сообщила без всякой сослагательности: «Ты должна дать Кате интервью».
– Зачем? – спросила меня Бодрова по телефону.
– Чтобы всё, что с тобой происходило, было зафиксировано единственно возможным способом: правдиво, с твоих слов.
Она еще спросила:
– А кому это надо?
– Например, мне, – ответила я простодушно.
Представить, что за пятнадцать лет с того момента, как ее муж, отец ее детей, ее единственная любовь, актер, режиссер, телеведущий Сергей Бодров пропал без вести, Светлана не дала ни одного интервью, я не могла. Но она действительно никому ничего не рассказала. Интервью, о котором мы только что условились, должно было стать первым. Но почему-то мне это не приходило в голову.
Если честно, я шла говорить не о Бодрове, а о другом Сергее – Кушнерёве, последнем романтике российского телевидения, бывшем главном редакторе телекомпании ВИD, создателе программы «Жди меня», моем кумире. Но вот я вошла, мы сели с Бодровой на кухне, от смятения перешли на «вы». И я спросила:
– Как вы познакомились с Сережей?
– С каким? – переспросила она.
Я уточнила: «Речь о Кушнерёве». И тут же стало понятно: мы будем говорить об обоих.
Квартира Бодровой кажется как будто недостроенной. В разговоре выяснится: не кажется, так и есть. Эту квартиру они с Сергеем купили за несколько месяцев до того, как Бодров улетел снимать фильм «Связной» в Кармадонское ущелье. И пропал без вести. Переезжала Светлана уже без мужа. С двумя маленькими детьми, Олей и Сашей, на руках.
Кое-где ремонт так и не начался. Кое-где – так и не закончился. Но уютно. На стенах – картины Светланы, она рисует. В гостиной портрет Бодрова. Не такой, какие обычно висят в домах погибших. Другой. Как будто папа и муж вышел в магазин и скоро вернется.
Мы, разумеется, сидим на кухне. Первые час-полтора еще вскакиваем открывать форточку для каждой сигареты. Потом плюнем, перестанем отвлекаться на ерунду. Кухня в облаке дыма. На Свете черная водолазка. Она делает ее светлую кожу еще светлее, глаза – ярче. И придает разговору какую-то окончательную неслучайность: надо расставить всё по своим местам, записать, запечатлеть все истории такими, какими они на самом деле были. Из первых рук. Из ее рук.
– На тридцатилетии телекомпании ВИD, которое отмечалось в начале октября 2017 года, вас не было. Почему?
– Меня пригласили, но я отказалась прийти. Не считаю для себя возможным после всего случившегося.
– Речь о передаче «Жди меня»?
– В том числе.
– Вы проработали в программе четырнадцать лет и уволились из нее вместе с создателем «Жди меня», ее главным редактором и главным редактором телекомпании ВИD Сергеем Кушнерёвым. С вами ушла большая часть команды. Можно ли говорить, что с этого момента «Жди меня» – уже другая программа?
– Не знаю. По крайней мере, ко мне эта программа больше не имеет никакого отношения.
– Вы видели «Жди меня» на НТВ?
– Да. Но комментировать не хотелось бы. Очень больно. Помните, когда убили Влада Листьева, все проекты, созданные им, начинались с титра «Проект Влада Листьева». Так вот, «Жди меня» надо начинать с того, что это «Проект Сергея Кушнерёва». Это честно, это правильно, это дань уважения человеку, за счет бесчисленных идей, таланта и бессонных ночей которого сейчас работают эти люди: произносят слова, им придуманные, пользуются всем тем, что он придумал, – я имею в виду огромный проект «Жди меня» – Кушнерёв отдал его не по доброй воле: у него его детище отняли. А теперь пытаются всех убедить в том, что сохранилась какая-то преемственность, что всё в порядке. Нет. Не в порядке. И нет никого из нашей старой команды в новой «Жди меня», включая ведущих. Но в базе, которая осталась, два миллиона писем тех, кто ищет друг друга. Эти люди ни в чем не виноваты. Поэтому я, конечно, смотрела: мне важно знать, что происходит и будет происходить с программой, в которой я проработала столько лет.
– А в ВИDе вы сколько работали?
– С 1991 года. Так получилось, что я окончила Московский институт геодезии, картографии и аэрофотосъемки, а в стране был полный развал, непонятно, куда идти. В глубине души я всегда мечтала снимать кино, но, наверное, даже не посмела бы тогда произнести это вслух. Я металась по Москве в поисках работы: какие-то советско-американские предприятия, кооперативы, что-то еще. И тут звонит приятель и говорит: «В программу “Взгляд” администратор нужен. Ты не хочешь пойти?» Я дар речи потеряла. Потому что тогда я, конечно, как и вся страна, фанатела от телевидения. Это во-первых. Во-вторых, у меня была подружка Наташа Бодрова – вот ведь какая судьба, да? – ее мама, тетя Таня Бодрова, до сих пор работает на Первом канале, а тогда работала на молодежном канале радиостанции «Юность». И мы с Наташкой бегали к ней в «Останкино». И это был другой, волшебный мир: останкинские коридоры, кофе в буфете в граненых стаканах, миндальные круглые пирожные и маленькие пирожные с грибочками. Это всё завораживало. Иногда, замерев в каком-то из этих останкинских коридоров, я думала: «А вдруг я тоже здесь буду работать?»
Так что когда мой приятель позвонил, я прямо оторопела: работать во «Взгляде»? Да это же мечта! Речь ведь о том самом «Взгляде», ради которого вся страна замирала по пятницам у телевизора. И я побежала со всех ног. Тогда всё это еще относилось к молодежной редакции Гостелерадио СССР, у меня до сих пор хранится удостоверение с золоченой надписью! А пятница была отдана программам телекомпании ВИD – «Музобозу», «Взгляду», «Полю чудес» и другим. У ВИDa тогда уже было много программ. Было принято, что руководитель каждой программы прикипал к административному составу, который с ним работал. Мы пришли одновременно с Ромой Бутовским[2]. Когда нас стали оформлять в штат, надо было определиться, в какой именно ты программе, и Рома сказал: «Я хочу во “Взгляд”». А со мной вроде как всем и так было понятно: я пошла в «Музобоз». Это была моя стихия. Я проработала в этой программе с четвертого выпуска до самого последнего.
– Телевидение девяностых совсем не похоже на нынешнее?
– Ой, нет, это просто несопоставимо. То телевидение для меня прямо любовь. Такой атмосферы и свободы, как тогда, не было никогда. И возможности состояться такой больше никогда не было. Представьте: мы имели возможность своими руками создавать новое телевидение, потому что старое на наших же глазах развалилось.
– Карьеры – из администраторов в корреспонденты и режиссеры или из монтажеров в ведущие – это ведь тоже про телевидение девяностых. Кажется, тогда в телецентр мог прийти кто угодно с улицы и получить шанс.
– Конечно! К тому же нам подфартило: мой учитель Иван Демидов[3] отправил нас с Ромой учиться. Тогда на Шаболовке существовал Институт повышения квалификации работников телевидения. И мы учились и монтажу, и тому, как устроен режиссерский пульт, и самой профессии.
– Вы ведь еще делали «Акул пера», так?
– Конечно. Я иногда даже думаю с ужасом, что я сама, своими руками взрастила эту желтую прессу в нашей стране. Но было так: в конце ноября пришел Иван Демидов: «Вот, Свет, надо такую вот какую-то программу нам сделать, чтобы журналисты сидели в студии, вопросы, герой…» Всё как-то ни шатко ни валко, ничего конкретного. Я говорю: «Ну, подумаю». А он, уже выходя из аппаратной, произносит: «Свет, я забыл тебе сказать. В эфир выходим второго января».
– Вышли?
– Вышли, конечно. Первым героем был Валерий Леонтьев. И всё получилось! Тогда иначе не могло быть. Это была какая-то счастливая смесь невозможного фанатизма и любви к профессии: никакой личной жизни, все живут с зубными щетками на работе, для всех работа – это дом родной, а никакого мира за пределами телецентра как будто не существует. Мы не то чтобы горели на работе. Мы просто этим жили и были счастливы. Хотя и ругались, и ссорились, и умирали от недосыпа. Иногда я даже не могу поверить, что я своими глазами видела такое телевидение почти двадцать семь лет тому назад, что всё это со мной было. Представляете, у меня с 1991-го до 2014 года была только одна запись в трудовой книжке: телекомпания ВИD.
– А как вы в программу «Жди меня» пришли? Как и кем она была придумана?
– Для меня все началось со звонка Кушнерёва: «Светка, а ты не хочешь делать со мной замечательную программу “Жди меня”?» И я говорю: «Хочу». – «Тогда приезжай прямо сейчас. Мы готовим съемки». Съемки были назначены уже через два дня. Эта программа в самом начале называлась «Ищу тебя». Ее придумали Андрей Разбаш[4] и журналистка Оксана Найчук. Несколько выпусков в прямом эфире вышли на канале РТР. Кушнерёва в программу позвал Разбаш. Но на РТР что-то не получилось. Найчук оставила за собой название «Ищу тебя». А Кушнерёв стал программу допридумывать. «Жди меня» в том виде, в котором все ее знают, впервые выйдет в эфир в 1999 году на Первом канале.
– Как сам Кушнерёв попал в ВИD?
– Он пришел в ВИD из «Комсомольской правды» в 1992-м или в 1993-м. При этом ВИD же базировался не в «Останкино», а на улице Лукьянова. Там были монтажки, в которых посменно монтировали и «Взгляд» и «Музобоз». Я, собственно, монтировала свой «Музобоз». И взглядовские меня страшно бесили: они монтировали ночью и постоянно задерживали аппаратную. Расклад был такой: мы же шоу-бизнес, крутыши, а эти – журналисты со всей своей политикой и правдой жизни, ну их! И мы всё время друг друга поддевали в этой очереди на монтаж. Помню, после того как они взяли Сережу Бодрова, я стояла над ними, когда они монтировали, и говорила: «Кого это вы взяли? Он как-то так говорит, что его не смонтируешь, – вот вы и сидите так долго». Мне отвечают: «Это артист».
– Вы до знакомства с Бодровым разве не видели его на экране?
– Нет. Причем за несколько недель до нашего знакомства мне в одном простеньком видеопрокате на проспекте Мира ребята, которые как-то скатывали все последние новинки и у которых всё всегда было, вдруг предлагают: «Посмотрите, “Брат” вышел, наш фильм, очень хороший». Я говорю: «Я наши фильмы не смотрю». Ну не смотришь – и не смотришь, ладно.
– И «Кавказского пленника» не смотрели?
– Нет. Зато «Кавказского пленника» посмотрел Сережа Кушнерёв. Он тогда был главным редактором «Взгляда». И позвал Бодрова. Вначале в эфир, а потом в кадр.
– То есть посадить Бодрова в кадр, сделать ведущим – это было решение Кушнерёва?
– Ну конечно, да. Сперва во «Взгляд» пригласили Сергея Владимировича[5] и Сережу как гостей. Прямо во время эфира у Кушнерёва глаза загорелись, и он решил позвать Сережу ведущим. Он как-то почувствовал, что Бодров из нового поколения, он герой этого поколения – вот это Кушнерёв в нем разглядел. У него был потрясающий талант – сразу видеть человека. Они после того эфира разговорились, пошли куда-то в бар, там долго продолжали разговор. Потом созванивались, встречались. Серега [Бодров] не сразу решился. Ну как-то был, по его словам, не готов. Но Кушнерёв же умеет заводить своими идеями, он же страшно увлеченный! В общем, уговорил. И Бодров сам загорелся. И они уже как сцепились, так и не расцеплялись – на работе, после работы всё время что-то придумывали, обсуждали: «А давай так, а давай так?» Они мгновенно оказались на одной волне.
Знаете, когда в фильме Юрия Дудя[6] я услышала своими ушами, как Александр Михайлович Любимов[7] рассказывал, как «заметил этого молодого», меня это возмутило. И маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: «Я его заметил, я его увидел, я его пригласил». Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во «Взгляд» Любимов не имеет. Они никогда не были друзьями, у них никогда не было теплых отношений. Скажу больше: когда в нашем доме, в нашей семье случилась трагедия, Саша Любимов не позвонил ни мне, ни маме Сережиной. Не предложил помощь и не спросил: «Света, как ты?» Хотя он с готовностью участвует во всех фильмах про Сережу, представляясь его большим другом.
Друзей – их вообще очень мало. Когда все кому не лень про моего Сережу делают фильмы на разных каналах, меня поражает количество людей, мне незнакомых, которые выдают себя за друзей Сережиных. Может быть, они когда-то раньше были друзьями? Не знаю. Но пока мы жили с Сережей, в нашем доме появлялись регулярно только четыре человека: Сергей Анатольевич Кушнерёв, Сергей Михайлович Сельянов[8], Алексей Балабанов и еще Володя Карташов, художник, который погиб вместе с Сережей. Всё. Сейчас остался только Сельянов, с которым мы встречаемся, к сожалению, очень редко. А Балабанова уже нет. И Сережи Кушнерёва тоже нет.
– А как вы познакомились?
– На самом деле, и с Кушнерёвым, и с Бодровым мы познакомились одновременно в 1997 году. Мне, как одному из лучших работников телекомпании ВИD, пообещали отпуск в любой точке мира, где захочу. Я выбрала Ниццу. А потом они Ниццу зажали и говорят: «Взгляд» едет на Кубу, они будут работать, а ты – отдыхать. Садясь в самолет, я ненавидела «Взгляд» и всех этих людей, с которыми мне придется почему-то провести свой отпуск. Ну и я им не понравилась. Кушнерёв потом вспоминал: «Фифа какая-то в очках вся из себя». Но в самолете мы с Кушнерёвым неожиданно разговорились. Разумеется, про телевидение. Я, конечно, про своих «Акул пера», что хочу менять формат, что-то добавлять. Он все больше слушал. Потом он мне рассказал, что тогда подумал: ну да, вроде не дура, можно и поговорить. А лучший друг Кушнерёва – Бодров, у них общий «Взгляд», бессонные ночи, которые они в спорах и разговорах проводили на даче Кушнерёва в Валентиновке. И в самолете они рядом сидели. Но, к несчастью, во время полета пилотам сообщили, что у Кушнерёва в Москве умер отец, очень известный московский нейрохирург. И Кушнерёв вынужден был первым же рейсом улететь обратно в Москву. А Бодров остался.
И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно это помню: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: «Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад». Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь.
– То, что этота самая любовь, вы оба поняли сразу и одновременно?
– Знаете, я пыталась стенки какие-то строить, конечно. Я-то привыкла жить одна, я была взрослая – тридцать лет, мне казалось, что я никогда уже не выйду замуж и никогда у меня не будет детей; я была уверена: в моей жизни есть и будет только одно – работа. И я этим защищалась. Но Серега не отпускал. После Кубы мы с ним практически не расставались.
Хотя нет: сразу по возвращении из Гаваны мой Сережа должен был с Сережей Кушнерёвым поехать на рыбалку на Дон. Они давно договаривались. На целых две недели. Там, куда они ехали, не было связи. И вдруг мне на пейджер от Бодрова приходит сообщение. Очень теплое, личное, нежное такое. И я думаю: «Ну почему? Ну ведь если есть связь, что же он, не может позвонить мне?» Потом оказалось, что это Петя Толстой был там с ними на рыбалке, но вернулся раньше. И Серега дал ему вот такое поручение. Но я же не знала! Скучала, конечно: только вроде встретились – и расстались зачем-то. И вот тут-то я и пошла в свой видеопрокат на проспекте Мира: «Ну давайте мне уже этого “Брата”, о котором вы говорили». Они: «Ты ж не хотела смотреть». – «Ну, не хотела, теперь захотела». Взяла я кассету и, пока его не было, посмотрела ее, наверное, раз сто пятьдесят пять. Потом он приезжает. И мы уже не расстаемся, всегда и везде вместе. Как-то вечером я ему предлагаю: «Ой, у меня такие ребята классные есть тут в одном видеопрокате. Пойдем выберем что-то, посмотрим». Мы с ним заходим. У ребят челюсть отвисает, и они на все вопросы отвечают односложно. «Есть чего посмотреть?» – «Ничего нет». – «Ну а что-то новенькое, интересное?» – «Ничего нет вообще». И Серега говорит: «Хороший, действительно, у тебя видеосалон, богатый выбор». И только он вышел – они на меня набрасываются: «Ты зачем его сюда привела? Нас же посадят теперь!» Это же были времена, когда фильмы подпольно записывали. Уже на улице мы с Серегой поняли, какая дикая картина у них сложилась в голове: сперва я отказываюсь смотреть «наше» кино, потом требую «Брата», а потом прихожу к ним с главным героем. Боже, как же мы ржали с Бодровым тогда.
– А Кушнерёв? Он стал вашим общим другом или так и остался Сережиным?
– Поначалу в моей жизни был только Бодров. Он заполнил собой всю мою жизнь. Но мы, конечно, общались с Сережей [Кушнерёвым]. Я уже успела побывать в его Валентиновке, где они с Серегой [Бодровым] так любили целыми вечерами, ночами напролет что-то придумывать.
Как-то мы с моим Серегой в Валентиновке у Кушнерёва крепко разругались. Это было самое начало: он со своим характером непростым, у меня тоже характерец не самый покладистый. Я хлопнула дверью, прыгнула в машину – я же крутышка: шоу-бизнес, машина, мобильный телефон. И я от них – вжух! – умотала. Мне потом Сережа рассказывал, как Кушнерёв вдруг говорит: «Сережа, ты не хотел бы на Свете жениться?» А Бодров отвечает: «Хотел бы очень. Она не хочет». И весь наш уже серьезный роман, по сути, развивался в Валентиновке. Потому что мы каждый день после съемок, после каких-то дел приезжали туда. У Сережи в этом доме даже была своя комната. И мы подолгу всегда засиживались. Мы все были молоды, с горящими глазами, одной группы крови.
Но Кушнерёв, когда мы только поженились, подревновывал Серегу малость. Мы же тогда еще не работали вместе. А у них все проекты, все мечты общие, и из-за меня, выходит, у них меньше оставалось времени на ночные посиделки в Валентиновке. Но они всё равно урывали себе время. Помню, в ночь известного урагана 1998 года я осталась у мамы на даче, а Бодров с Кушнерёвым – в Валентиновке. И когда полетели все эти деревья, меня такой ужас охватил! Я была беременна нашей старшей дочерью Олей и думала: «Господи, наверное, Сережа там переживает за меня!» А мобильные тогда не везде ловили. Я еле дождалась утра, чтобы доехать до ближайшей точки, где была связь. Звоню Кушнерёву: «Серега, ты передай, чтобы Бодров не переживал, у нас всё нормально». Он говорит: «А чего случилось-то?» Я: «Так. А у вас был ураган?» – «Ураган? Какой ураган? Ну, у нас свет отключали ненадолго. Мы как раз за компьютером сидели, придумывали там кое-что. И еще думаем: какого черта свет выключили! Ну, свечку зажгли». Только он трубку положил, выходит на крыльцо – а у него там вековая елка лежит. В десяти сантиметрах от дома упала! А они сидели в своих идеях и ничего не заметили!
Короче говоря, и они вдвоем, и мы втроем сидели в Валентиновке у Кушнерёва и говорили до бесконечности о проектах, о планах – обо всем! И наш с Серегой [Бодровым] роман неотделим от этих разговоров. Именно на этом фоне и именно с подачи Кушнерёва мы с Сережей решили, что свяжем свою жизнь надолго. А с Кушнерёвым с этих самых дней мы были друзьями. Самыми близкими, наверное, друзьями. До самого последнего дня его жизни – 27 февраля 2017 года.
– А потом вместе работали в «Жди меня» – и вместе оттуда ушли.
– Да. И я хочу сказать, что мы никогда бы не ушли из «Жди меня». Мы бы и делали эту программу до последней возможности. Мы ее любили. Это была больше чем просто программа. Особенно для Сережи [Кушнерёва]. Не знаю, с чем сравнить, сравнение с ребенком какое-то глупое… Это была его жизнь. Он придумал потрясающую систему поиска по всему миру потерявшихся людей, алгоритм, при котором вот в этих двух миллионах писем два ищущих друг друга человека находились бы за две минуты. Можете себе представить? И когда сейчас я слышу, что Александр Михайлович Любимов говорит в кадре: «Мы», «Мы думали, как искать», я вообще не понимаю: кто вот эти «мы»? У меня такое ощущение, что я все эти четырнадцать лет, наверное, на Луне где-то была или на Марсе. И как-то пропустила участие Александра Михайловича в этой истории. Но нет, я сидела в «Останкино», в аппаратной, рядом с человеком, который создал всё это на моих глазах и у которого в жизни не было ничего важнее и значимее «Жди меня». Я видела, как Кушнерёв это придумывает, я видела результаты его бессонных ночей, реализацию его задумок, о которых он даже, может, и не рассказывал, но «Жди меня» – это была его воплощенная мечта, которая жила и развивалась.
– В пресс-релизе новой «Жди меня», которая теперь выходит на НТВ, фамилии Кушнерёва нет.
– Любимов в первом выпуске программы произносил в эфире фамилии Кушнерёва и Бодрова, который, между прочим, к «Жди меня» не имел отношения. Но зачем-то надо вот ему было прикрываться этими именами. Зачем-то надо выдавать себя за друга Бодрова. Хотя, повторю, они не были друзьями. Знаете, после некоторых событий, думаю, для Бодрова было бы оскорбительно, если бы Любимова называли его другом.
– О чем идет речь?
– Я расскажу только один эпизод. Балабанов начал снимать «Брата 2». Должны были снимать в 1998 году, но не нашли деньги. Помню, как мы встречались – я, Сельянов и Сережа – с Любимовым и с Ларисой Синельщиковой[9], которая тогда уже работала в ВИDе, и просили их помочь с деньгами. Сельянов, помню, стучал по столу: «Это будет народное кино!» Но денег на съемки не было. Сельянов их нашел только в 99-м. В том же году, еще до съемок «Брата 2», Сережа Бодров принял решение уйти из «Взгляда».
– Почему?
– Потому что ему надо было дальше развиваться, что-то делать, не останавливаться. Он, конечно, хотел снимать кино, писать сценарии, писать книги. Он понимал, что телевизионная рутина затягивает.
Сережа – человек очень свободолюбивый. А на телевидении полно каких-то обязательств. Когда нет развития, тебе кажется, что ты топчешься на одном месте и у тебя дальше ничего не происходит. В один прекрасный день ему всё окончательно надоело, и он решил уйти. Кушнерёв очень глубоко переживал его уход. Но они как-то это решили между собой. Моя позиция была такой: «Сережа, что ты ни сделаешь – я тебя во всем поддержу». Серега [Кушнерёв] его, конечно, уговаривал, какие-то приводил аргументы, это был их мужской разговор, не знаю какой, не буду говорить. В итоге Кушнерёв всё понял и принял. Но в руководстве ВИDа уходом Бодрова были недовольны. Даже мне звонили из телекомпании.
– Кто звонил?
– Помню, что звонила Лариса Синельщикова: «Уговори его». Я ответила: «Это даже не обсуждается. Какие уговоры могут быть? Он взрослый человек, который самостоятельно принимает решения».
Был недоволен и Любимов. Наверное, он понимал, что «Взгляд» в основном смотрели из-за Бодрова. Его это очень обижало, я думаю. Это было видно, например, когда он быстрее Сережи спешил сказать фразу «Все только начинается», хотя Кушнерёв написал ее специально для Бодрова, это была Сережина фраза.
Мне кажется, с некоторой завистью Любимов относился к Сереже еще и потому, что понимал: их время (того «Взгляда» 1987 года) прошло. Поколение выросло, а Бодров стал символом нового поколения, молодым героем: вышел «Кавказский пленник», вышел «Брат».
И тут как раз съемки «Брата 2». По сценарию Лёши Балабанова братья в самом начале картины приходят в «Останкино». Балабанов придумал, что они должны прийти в программу «Взгляд». Логично. В роли ведущего хотели снять Любимова. Он согласился. Пообещал и с организацией съемки помочь, и студию «Взгляда» дать. К тому времени «московский» период фильма был уже почти доснят. Сцена во «Взгляде» чуть ли не последняя, потом они должны были ехать в Америку. А за день до съемок из «Взгляда» звонят Балабанову и говорят: «Вы знаете, всё отменяется. Студии “Взгляда” у вас не будет, Любимов сниматься отказывается». Это была месть. Мелкая, гадкая, которая больше всех ранила Лёшу [Балабанова].
Всё происходило на моих глазах. Балабанов, когда приезжал в Москву, всегда останавливался у нас. Мы жили в Раменках: маленькая квартирка, на кухне вместо стола – коробка из-под телевизора, посуду мыли в ванной. И я помню бедного Лёшу, совершенно потерянного, как он по кухне ходит вокруг этой коробки. Он даже не кричал. Он просто был раздавлен. Он не мог понять: как, как можно так предать, как можно отменить всё в последний момент, почему договоренности ничего не значат? Его оскорбило именно человеческое отношение. Студия не сгорела, ничего не произошло. Просто отказали.
И тогда Балабанов вдруг на полном серьезе, глядя в глаза Бодрову, сказал: «Я не буду снимать кино». Стал звонить директору картины, чтобы покупали обратные билеты в Питер. У меня эта сцена всегда встает перед глазами, когда Александр Михайлович [Любимов] публично говорит о своих друзьях Балабанове и Бодрове.
– Но сцена в «Останкино» в «Брате 2» есть. Хотя в ней нет Любимова.
– Когда Балабанов собрался уезжать, я его буквально за рукав схватила: «Лёш, ради бога, подожди, пожалуйста, я тебя прошу. Ну не один же он на телевидении работает. Сейчас мы что-нибудь придумаем быстро». Он: «Нет – и всё». Мы с Бодровым сидим возле этой коробочки в ступоре и не понимаем, что делать. Но тут вспомнили, что на свете, к счастью, есть Ваня Демидов. Ему, по-моему, звонил Сельянов. Ваня без вопросов согласился и сам сняться, и студию дать. А все люди, которые должны были по сценарию быть на площадке, – это те, с кем я работала в программе «Канон» на том же ТВ-6, такое было ток-шоу о религиозных вопросах. Помню, как я звонила всем своим «боевым» товарищам, и никто не отказался, никто денег не попросил: «Свет, тебе чего надо-то?» – «Мне надо, чтобы вы снялись в хорошем кино». – «Ну ладно, давай».
Своего звукорежиссера, администратора, ассистентов, всех операторов, Сашку Жуковского великого – всех вытащила. Лёша был так счастлив, аж глаза вытаращил. Вот так и я, и все мы попали в фильм «Брат 2». Не так, как говорили потом, что в кино жену Бодрова сняли. А из-за того, что случилась такая ситуация. И все пришли и снялись у Балабанова. Лёша был очень тронут. Вдруг уже на площадке говорит: «Кто у вас тут на всех кричит обычно?» Демидов засмеялся: «Ну догадайся». Балабанов: «Свет, ты можешь на них сейчас наорать, когда они войдут?» – «Легко!» Командуют: «Мотор!» Бодров с Пироговым влетают в студию, и я как заору: «Здесь прямой эфир! Вы что! Сколько вас ждать?» Серега останавливается, спрашивает: «Свет, ты чего кричишь-то?» Я отвечаю: «Я артистка!» В общем, первый дубль испортили. Сняли со второго дубля, хотя первый был более естественным.
Всю эту мизансцену Лёша, конечно, на ходу придумал, этого не было в сценарии. Он всех нас снимал в благодарность за то, что мы его выручили. А мне даже дал слова: я за пультом сижу и говорю свои обычные команды. Ему очень понравилась фраза: «Саш, не режь голову ему». Он потом оставил ее в монтаже. А в титрах мы значились как «люди, сыгравшие самих себя». Тогда у меня еще была фамилия Михайлова.
– Вам фильм понравился?
– Мне всегда нравилось всё, что делает мой Сережа. Понимаете, мы с ним были на одной волне, я его поддерживала во всём этом. И всегда и во всём им гордилась. Помню, когда он диссертацию защищал, я вышла и говорю ему: «Я тобой, как Родиной своей, горжусь, Серега!» А ему там в комиссии говорят: «Жена на вас так смотрела! Невероятно…» А я просто каждую секунду понимала, какое мне выпало счастье: какой невероятно глубокий и талантливый человек рядом со мной.
Знаете, я теперь понимаю: мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Мне от этого очень тяжело. Тяжело, что у меня нет этих ежедневных часов на кухне с ним, когда мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать. Иногда я вижу, как люди не умеют молчать друг с другом, а мы с ним могли. Не разговаривали, но это не значило, что мы не хотим разговаривать, мы всё равно вместе, у нас внутренний между собой диалог. И наш сын Саша – он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне всё передалось, вплоть до характера. И я понимаю, что если бы они с Сережей сейчас были вместе, насколько тонко они друг друга чувствовали бы!
– Бодров после «Брата 2» стал снимать сам потому, что больше не хотел сниматься?
– Вначале был сценарий «Морфия». Он думал, какой сценарий написать, и я ему посоветовала «Морфий», поскольку Булгаков – мой любимый писатель, а «Морфий» – такое многоуровневое произведение: история любви, история падения и этот лейтмотив постоянного бега, когда герой бежит из больницы, от себя, а там уже революция во всю Ивановскую. Я говорю: «Попробуй». Он увлекся и очень хороший сценарий написал. Но не готов был «Морфий» снимать в тот момент, говорил, что это должна быть глобальная картина. В итоге Лёша [Балабанов] снял. Но это не тот фильм, который был задуман, хотя Сережина фамилия стоит в титрах, но это уже было, когда его не стало. После «Морфия» появились «Сестры». Мы для них в Питере вместе локейшены выбирали, натуру, я ему помогала. Он привозил материал, мы вместе отсматривали, я давала даже какие-то советы.
А потом появился «Связной». На уровне идеи. Это началось, когда Серега снимался в «Востоке – Западе»[10]. Там, на съемках, он познакомился с двумя такими полубандитами, ребятами из Дагестана, насколько я помню. Они скрывались за границей. Он, когда звонил мне оттуда, рассказывал, как ему интересно их слушать. Серега вообще любил слушать людей, он обожал истории из чьей-то жизни. Он Нину Ивановну, мою маму, всегда упрашивал рассказать что-нибудь про послевоенные годы, бабушку мою, когда еще жива была, расспрашивал про жизнь, любил старушек слушать. Так вот, в Болгарии, где снимали «Восток – Запад», эти полубандиты рассказали ему, как они убегали, как прятались, про какую-то реально существующую колдунью, которая им повстречалась. И Серега за ними все записывал. Так возникла идея картины «Связной». Там даже героев зовут Армен и Ильяс – так реально звали тех ребят. Он писал очень долго, вымучивал этого «Связного». Он ему был дорог.
Помню, как он мне дал его прочесть в первый раз. И у меня такое чувство было, знаете, я про себя подумала: «Как у этого совсем еще мальчика столько всего сразу помещается в голове? Какой он талантливый! Какое мне выпало счастье». Вроде мы рядом, какая-то бытовуха окружает, но в то же время у меня в руках оказалось произведение, которое представляет его совсем в другом качестве, – со сложными конструкциями и глубоким проникновением в суть многих вещей, жизни, характеров людей. Всё это переплетается. И я читаю и понимаю, что я соприкасаюсь с человеком невероятного таланта и ума. А он рядом со мной ведь живет! Это трудно объяснить толком, но когда у тебя идет обычная жизнь, даже пронизанная отношениями, любовью, наполненная детьми, ты всё равно не всегда можешь до конца оценить счастье, которое тебе судьба подарила, – быть рядом с таким человеком. А еще я горжусь, что он всегда мне говорил: «Если бы не ты, я, может, не снял бы, не написал». Да, я, конечно, подталкивала его заниматься своим делом. И, дописав сценарий «Связного», он сказал: «Я сниму это так, что мне не стыдно будет перед тобой».
Там еще в сценарии был такой персонаж – афганец Лёха. Бодров никак не мог выбрать актера на этот характер. Сам сниматься не хотел. Но я, когда прочитала сценарий, сказала: «Эта вот роль – твоя, твоя же!» И уговорила его там сняться всё-таки. А он стал уговаривать меня пойти к нему на эту картину вторым режиссером. Потом к этим уговорам подключилась тяжелая артиллерия – Сельянов. Он понимал, что тут всё, как в «Жди меня», где я без слов чувствую, чего хочет Кушнерёв. На «Связном» я смогу понимать Серегу [Бодрова] c полувзгляда. На площадке на такой сложной картине ужасно важно, когда рядом люди, которым не надо ничего долго объяснять, которые могут без лишних слов делать всё тобою задуманное. В результате Бодров с Сельяновым меня уговорили.
И я уволилась из «Жди меня». Серега был в шоке, Кушнерёв. Я уволилась, несколько выпусков вышло без меня, а потом программа ушла на повтор, потому что Кушнерёв никак не мог свыкнуться с мыслью, что программу будут делать без меня. А в августе родился наш с Бодровым сын Саша. Я хорошо помню, как мы едем в машине из роддома и звонит Кушнерёв: «Поздравляю, Светка!» А потом говорит Сереге: «Ну, когда встретимся?» Бодров отвечает: «Слушай, я сейчас уезжаю на съемки в Северную Осетию. Как вернусь из Владикавказа, так и встретимся». Это был последний их разговор. После рождения Саши мы две недели побыли дома. Потом Серега отвез нас на дачу и уехал на эти съемки. Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый «лендровер дефендер» огромный и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам». Это последняя его фраза. А я его провожаю. Знаете, он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел.
– Кто был рядом, когда всё случилось?
– Приехал Сережка Кушнерёв. Приехал и сказал: «Свет, возвращайся, пожалуйста, в “Жди меня”». И вот 20 сентября всё случилось, а 5 ноября я уже пошла на съемки.
– Иначе бы вы не выжили?
– Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать, надо жить. Но я не помню этих месяцев. По-моему, я вообще ничего не соображала. Я даже не понимала, что всё, что я остаюсь ни с чем, что всё кончено.
– Кушнерёв летал в Осетию?
– Нет. Я летала каждые выходные. И знаете, когда в разных фильмах и передачах осетины говорят, что на уровне правительства, страны им никто не помогал, то это не так. Там когда уже собирались всех спасателей разогнать, не было никакой техники, не было никакой поддержки и телефон молчал – вот это тоже очень страшно, когда телефон замолчал, уже всё, никто не верит, не говорит ничего… Тишина. Знаете, как-то всё было на грани. И мне Сережка Кушнерёв говорит: «Тебе надо, наверное, позвонить Эрнсту. Только у него может быть выход наверх». На уровень президентов республик, которые могли отдать команду продолжать искать, – кто из нас мог выйти? Сережка добыл мне телефон, и я позвонила Косте Эрнсту. Я звонила в забытьи уже каком-то, в отчаянии, совершенно не разбирая, какой день недели, который час. Я ему, рыдая, сказала в трубку: «Я тебя прошу как женщина, как жена, как мать. Я умоляю тебя, помоги!» И Костя, надо отдать ему должное, говорит: «Света, я помогу. Сейчас праздники, они закончатся, и я сделаю всё, что будет в моих силах». Потом оказалось, что я звонила ему вечером 31 декабря. Но я тогда не очень это понимала.
– Эрнст помог?
– Да. Он мне перезвонил и сказал: «Шестого января там будет техника». И техника приехала: экскаваторы, тракторы, всё, что требовалось. Про это никто обычно не говорит. И сам он не говорит. Но так было. Я потом часто звонила ему, иногда прямо с горы, оттуда, из Осетии. И он связывался с Шойгу, с другими министрами. И они помогали, выделяли, посылали. Водолазов, спелеологов. Он почему-то об этом всегда молчит. А я никогда прежде не давала интервью, вот никто и не знает.
– Вы с ним встречались в это время?
– Он вызвал меня сразу, когда всё случилось. Был потрясен тем, какая у меня зарплата, повлиял на то, чтобы ее подняли хоть немного, чтобы я могла выживать. До самого последнего дня поисковой операции он был на связи, звонил, спрашивал, помогал. Не хотел верить, что это конец.
В это поверить было невозможно. Очень больно. Знаете, когда мы привезли Сережины личные вещи из Осетии, я разбирала их. И в сумке лежала совсем потрепанная записка, которую я ему писала еще в Петербурге, когда он снимал «Сестер». У нас еще Саши не было, была только Олечка. Там в конце было написано: «Помни, что два человека на этой Земле любят тебя по-настоящему: я и Олечка». И я нашла эту записку в его сумке… вынести это было невозможно.
– Вы часто писали друг другу?
– Да. Мы и по телефону каждый день говорили, и всегда писали, всё время: записку на кухне, какое-то коротенькое письмо. Или длинное, если в разлуке. Когда он уезжал, допустим, на «Восток – Запад», я ему каждый день писала письма и он мне каждый день писал письма. И мы менялись, когда он приезжал. Я их перечитывать до сих пор не могу. А вначале даже доставать из коробок было невозможно.
Еще помню, как наш компьютерный гений Лёша Бартош улетал на съемки «Последнего героя» отвозить кассеты. Узнав об этом, я накатала тут же Бодрову огромное письмо. И Лёша полетел. Прилетает обратно в Москву и говорит с порога: «Слушайте, Бодровы, вы чокнутые, так нельзя!» Я: «Лёша, что случилось?» А он: «Я приехал на “Последнего героя”, всё хорошо, сидим, болтаем с Бодровым и Кушнерёвым. И тут я вспоминаю: “Ой, Серега, тебе Светка письмо передала”. – “Да что же ты молчишь, где оно? Отдай! Раньше не мог сказать?” Схватил письмо и ускакал с ним. И теперь со мной не разговаривает». Я говорю: «Так, Лёх, что-то долго ты со мной говоришь. А Серега-то письмо мне передал?» – «Да». – «Так давай же, ну что ты стоишь, давай скорее, ты что, дурак, что ли, Лёха?» И он развел руками: «Вы, Бодровы, точно чокнутые. Бери свое письмо, отстаньте от меня».
– А как вообще появилась идея «Последнего героя?» Это же первое такое масштабное реалити-шоу на российском телевидении.
– У «Последнего героя» был рейтинг пятьдесят. Кажется, этот рекорд до сих пор не побит. «Последний герой» в том виде, в котором он покорил страну, появился на свет тоже в Валентиновке у Кушнерёва. У меня, как сейчас, перед глазами картина: наша дочка Оля маленькая совсем, бегает вокруг нас в валеночках. А мы с двумя Серегами вперились в экран, смотрим Survivor, который вышел в эфир за два года до нашего «Последнего героя», Кушнерёв где-то нарыл кассету на английском языке: одна серия, другая. Оля в этих валеночках уже замучилась бегать, собачка кушнерёвская, Фунтик, тоже умаялась, они сидят где-то у нас в ногах, а мы оторвать глаз не можем. И вот тут, конечно, у них с Бодровым засела мысль: мы должны это сделать. Потом была еще великолепная идея «Игра в жизнь», она не воплотилась. Хотя я разбирала Сережкин архив, пересматривала карточки, нашла прямо расписанную программу. Еще был проект «Большая мечта», совершенно прекрасный; тоже не осуществился.
– Кушнерёв, наверное, первый и последний российский продюсер, который сохранил веру в то, что телевидение, касающееся человека, трогающее его за душу и живущее вместе с ним, – это и есть национальная идея.
– Да, конечно. Так и есть. Недаром про «Жди меня» один журналист написал когда-то: «Нация объединяется по понедельникам», – такой популярностью и такой социальной значимостью обладала эта программа. Это всё вместе: любовь к людям, кропотливый труд, бессонные ночи и преданность делу. Кто поверит, если я скажу, что Кушнерёв собственноручно отвечал на письма, которые приходили в «Жди меня»? Иногда меня это даже бесило. Ну представьте, он мне говорит: «Светка, там женщина написала одна, спрашивает, какую музыку ты положила в таком-то эфире. Ты можешь написать ей название, а лучше даже прислать трек?» Я ему: «Серег, ты чего, обалдел, что ли? Я чего, буду сейчас все эфиры перелопачивать и каждому, кто захочет, музыку присылать? Я же монтирую, у меня работа есть». Он так голову поднял, посмотрел на меня и сказал: «Свет, это надо сделать». Это же уважение к зрителю! Еще со времен «Взгляда» у них с Бодровым была такая идея – когда «Взгляд» помогал потерявшимся людям встречаться в ГУМе у фонтана.
И Кушнерёв Бодрову это же внушил. Они с Серегой придумали ответ на письмо мальчика одного, тот написал про старшего брата, который мечтает играть на трубе, – Бодров приехал к нему под окна с духовым оркестром, и ему подарили трубу. Тогда начался проект с Дедом Морозом из «Взгляда», которому можно было написать и который мог исполнить желание, приехать и подарить подарки, – этим Дедом Морозом был Бодров. Еще помню одну историю, когда во «Взгляд» Сереге [Бодрову] пришло письмо от одной женщины: «Вы – кумир моих сыновей. Так получилось, что у младшего украли мотоцикл, а старший в армии. И младший ходит, кулаками грозит: “Я брату скажу, он приедет и за этот мотоцикл убьет всех”». Женщина пишет: «Что мне делать? Это же неправильно». Ну, Серега прочитал – и прочитал. А Кушнерёв говорит: «Надо ответить». И Сережа лично отвечал этой женщине, писал ей, ее сыну.
Наверное, никто не поверит, но, будучи главным редактором «Жди меня», Кушнерёв сам монтировал выпуски программы на все те страны, где она выходила. Я монтировала всегда наш основной, московский, выпуск на Первый канал, а Серега сидел в соседней аппаратной и монтировал для Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Молдавии… Он же главный редактор, мог бы, как обычно это бывает на телевидении, сидеть в кабинете за дверью, к нему бы входили со стуком, а он пробегал бы верстку глазами. Но Кушнерёв сидел в монтажке и в аппаратной вместе со всеми, мы что-то обсуждали, ругались, орали друг на друга.
– Ссорились?
– Да. Даже не разговаривали иногда. Тогда писали друг другу письма. Но он запросто мог позвонить в три часа ночи и начать как будто после запятой: «Светка, ты знаешь, вот этот момент, в котором мы сомневались, мне кажется, надо вот как сделать». Он так это говорил, как будто был уверен, что я в эту секунду сижу перед телефоном и жду его звонка. Так было всегда, все эти четырнадцать лет. Он оставил «Жди меня» только однажды: когда запускался «Последний герой».
Я хорошо помню это время: 2001 год. Нам с Серегой [Бодровым] негде жить, потому что мы продали старую квартиру в Раменках и уехали жить в Кудрино, где мне от бабушки с дедушкой досталась земля, и я поставила там дом, скорее такой летний. Но делать нечего, мы туда перебрались вместе с маленькой Олей, Сережей и моей мамой Ниной Ивановной. И тут запускается эта их авантюра, «Последний герой». Никто не понимает, чем всё это кончится, денег нет, проект огромный. А мы с Кушнерёвым вообще-то ваяем каждую неделю «Жди меня». И тут он говорит: «Светка, я уезжаю на “Последнего героя”, ну, на пару недель, на запуск». А то, что вести «Последнего героя» будет Бодров, – это даже не обсуждалось, словно было решено с самого начала. Мы с ним вдвоем придумывали ему имидж: рубашки бегали покупали, придумывали, как их завязывать. Мы болели этой идеей, как в лихорадке все жили. И вот в конце концов мы собрались вечером, и Кушнерёв заявляет, что едет на съемки. «Но, Светка, “Жди меня” выходить должна как часы, – говорит. – Ты не переживай, это дней десять, максимум две недели, и я вернусь». Вначале я и вправду не переживала: у нас много наснято материала было, я сижу монтирую, программа выходит в эфир. Неделю его нет, десять дней. Звоню: «Ты приедешь?» – «Да-да-да, вот буквально собираюсь». Две недели нет его, три. Программа выходит, я монтирую, мы выходим в эфир. Опять пишет: «Я еще на чуть-чуть останусь?» – «Да, конечно, оставайся». В результате остался он, конечно, на весь срок, не мог бросить. А «Жди меня» была на мне полностью, за что он был страшно благодарен.
Они вернулись через полтора месяца, и Кушнерёв опять ушел в монтаж «Последнего героя». И мы его не видели почти. Только однажды он вдруг приехал (его Валентиновка неподалеку от нашего Кудрина) с монтажа – не к себе, а к нам. Я как увидела его, говорю: «Господи! Ты как еще живой?» Мама моя сразу стала кормить его: щи, котлеты с гречневой кашей. А он такой уставший, что даже говорить не может, только повторяет: «Ой, как хорошо, как хорошо. Только мне на монтаж завтра к шести утра, спать не буду». Но мы как-то уложили его. Наступает утро. Я встаю рано. Смотрю – спит. Потом уже и Серега [Бодров] встал, времени – полдень. Я говорю: «Сходи посмотри, что там с Кушнерёвым творится. Спит? Не буди его. И телефоны все поотключай, пусть выспится человек, невозможно же так». Я прикинула, что у них есть до эфира еще время, никуда не денется этот монтаж. В общем, спал он долго. Выходит в валенках на крыльцо: «Светка! Это что, правда? Мне Бодров сказал – уже два часа дня!» Я ему: «Правда. Успокойся. Всё ты успеешь». И он вдруг стал такой довольный, что он выспался, что он с нами. Мы еще куда-то даже съездили вместе с Серегой и Олечкой. И дальше уже он помчался работать опять. Причем они же молчали до самого конца и даже мне не говорили, кто в этом «Последнем герое» выиграл.
– При этом вся страна была уверена, что дело происходит в прямом эфире.
– Да. Это тоже уникальный талант Кушнерёва – сделать так, что зритель верит. Вот представьте: мы едем в деревню с Сережей на «лендровере дефендере». Все сотрудники ДПС по пути уже знают, что это наша машина. Кушнерёв вечно ржал над нами: «Зачем вам автобус школьный?» Ну вот нравилась Сереже эта военная машина, дико холодная и неудобная. Я еще потом, года три после всего, что случилось, на ней ездила, не могла решиться продать. Но тогда еще никто не знал, что будет. 2001 год, мы едем, дэпээсники нас видят, тормозят: «Ага, Бодров, значит, ты не там сейчас? Когда улетаешь-то обратно?» Он: «Да не улетаю я». – «Не улетаешь, значит. Тогда говори, кто победил?» Он: «Не могу я сказать, ребят, ну правда». – «Права отберем!» – «Ну не могу я, я слово дал». Следующий день, уже все ржут: «Отберем права, говори». Каждый день останавливали, но Серега не сказал. У него вообще были смешные отношения с сотрудниками ДПС. Как-то Серега нарушил что-то, его останавливают. И дэпээсник говорит: «Серега, красный свет – стой, зеленый – иди». Это фраза из «Брата 2».
– И отпустил?
– Отпустил. К нашим программам как-то так относились люди – с нежностью. У Кушнерёва в «Жди меня» налажены были связи с МВД, медиками, полицией, патрулями, кем угодно. Нам все всегда шли навстречу. Стоило произнести: «Жди меня», и случалась какая-то магия. Все помогали. Всегда. Это было в прямом смысле слова народное телевидение. И люди это чувствовали и отвечали взаимностью. Я даже, стыдно сказать, Сашку Жуковского, оператора, подучила. Его всё время останавливала ДПС, он жаловался даже: «Еду на съемку, меня тормозят, и начинается». А я ему говорю: «Жуковский, ты говори, что едешь снимать “Жди меня”». И он приезжает после первого же поста и говорит: «Слушай, работает. Сразу отпустили. Никогда бы не поверил».
– И почему вы с Кушнерёвым осенью 2014 года ушли из программы?
– Потому что программу у нас к этому моменту уже отняли.
– Каким образом?
– Произошло то, что я называю рейдерским захватом. Шеф-редактор программы Юлия Будинайте, которую Кушнерёв привел из «Комсомолки», и Александр Любимов[11] за спиной у Кушнерёва решили, что вполне смогут делать дальше программу без него.
– То есть как? Как это произошло?
– У меня нет ответа. Я не могу сказать, что для Будинайте так же, как для меня, как для Сережи, «Жди меня» была делом всей жизни. Она была шеф-редактором, который раздавал задания корреспондентам, но никогда не появлялся на съемках. Зачем и почему ей вдруг понадобилось возглавить «Жди меня», зачем это было надо Любимову, я не знаю. Но это был заговор, о котором Кушнерёв ничего не знал до последнего момента. Они хотели сместить Сергея Анатольевича с должности главного редактора телекомпании, отобрать программу. Это было непросто сделать, ведь у Кушнерёва были двадцать пять процентов акций ВИDа.
– А у кого были остальные семьдесят пять процентов?
– Я не знаю полного расклада. Но основным пакетом владел Александр Михайлович Любимов. И он хотел стать полноправным владельцем компании. Он не подразумевал в компании наличия Сергея Анатольевича Кушнерёва, потому что понимал, что это человек с характером, очень честный человек. И Любимов решил от Кушнерёва избавиться. А Юлия Будинайте, видимо, решила, что сделает «Жди меня» и без помощи Кушнерёва. И сделает даже лучше, чем он.
– Как технически всё это происходило?
– Я ехала на работу, когда мне позвонил Кушнерёв: «Света, я увольняюсь, я вынужден уйти». – «В смысле?» – «Я узнал о том, что за моей спиной Саша Любимов хочет поставить другого человека на место главного редактора и руководителя “Жди меня”. Как ты понимаешь, я не считаю возможным остаться ни в программе, ни в телекомпании, если происходят такие вещи».
Вы представляете, он узнал об этом в одну секунду, почти случайно. С ним никто не поговорил, никто не обсудил ничего. Разумеется, что-то может не нравиться, могут быть претензии и к программе, и к руководителю. Но, наверное, такие вопросы можно решить при встрече?
– А Любимов с Кушнерёвым не встречались?
– Нет. С Сережей никто не встречался. Его увольнение приняли. А вопрос с акциями решился буквально на моих глазах. Мы стояли с Кушнерёвым после одной из последних съемок в курилке. К Сереже подошел помощник Любимова, вручил ему пакет документов со словами: «Подпишите». Я бы не рассказывала, если бы это не произошло прямо при мне. Я спрашиваю: «А что это такое?» Кушнерёв: «Не знаю». Мы вышли из телецентра, пошли к Останкинскому пруду, открыли пакет. Это были документы на подпись об отказе от двадцати пяти процентов акций ВИDа, которые принадлежали Кушнерёву.
– На каком основании?
– Не было основания, это был добровольный отказ. Наш коммерческий директор и я стали уговаривать Кушнерёва этого не делать. Я спрашивала: «Ты же можешь этого не делать? Можешь не отдавать?» – «Свет, я ввязываться в это не буду». Кушнерёв не был человеком бизнеса, ему не нужны были деньги. Он не из-за денег делал телевидение. Он любил свое дело, хотел им заниматься, развивать эту программу, запускать новые, преподавать в университете, учить молодых журналистов, ему это нравилось. Он не хотел воевать с Любимовым.
Я теперь иногда даже жалею, что уговорила его позвонить Любимову. «Надо всё равно поговорить. Так не может быть, Сереж, ну как это вот тебе в курилке дали документы с отказом от акций?» Он набирал несколько раз, Любимов не отвечал. Но дозвонился всё-таки. Они договорились встретиться. Встреча заняла пять минут. Я его ждала. Любимов сказал ему: «Сереж, ты же всё понимаешь, всё по-честному». И положил на стол две тысячи рублей. Сережа с усмешкой добавил: «Представляешь, я еще пятьдесят рублей ему остался должен. Мои акции стоили тысячу девятьсот пятьдесят рублей». Вот так, без боя подписал все эти документы, и всё. И у него всё забрали. Через несколько месяцев у Сережи случился первый инсульт. У человека отобрали дело его жизни, смысл жизни. Кушнерёв не знал, как жить не работая. И это, конечно, был страшный удар. Повторный инсульт, в 2017-м, стоил Сереже жизни.
– Вас тоже уволили?
– Нет, я им такой возможности не предоставила. Я написала заявление об уходе сразу после этого разговора с Кушнерёвым, как только доехала до работы. Я вам честно скажу: я же не из-за Сережи даже уходила. Мы все взрослые люди, а когда у тебя двое детей, которых надо кормить, ты на баррикаду с флагом особенно не пойдешь, правильно? Я подала заявление об увольнении потому, что понимала, что никогда не буду работать с этими людьми. Потому что это бездарные люди, которым эта программа по большому счету не нужна. Они не будут вкладывать туда ни душу, ни сердце, возиться с программой столько, сколько мы возились. Ну вы только представьте себе, что мы после каждой съемки собирались – ведущие «Жди меня» Игорь Кваша, Маша Шукшина, я и Кушнерёв, обсуждали эти истории, ругались, что-то придумывали. Мы это любили. Мы, представляете, страшно гордились своей работой. Тем, что можем помогать людям найти друг друга. Особенно в нашей стране, так перепаханной войной, репрессиями, лагерями.
– Не возникало ощущения привыкания или выгорания? За четырнадцать-то лет в эфире?
– Что вы! Каждую историю мы помнили, бесконечно всё это переживали. Всегда интересовались, как там дальше всё сложилось, звонили, поддерживали связь. Это не какой-то холодный подход современный к телевидению, скажем так, технократичный. Мы этим жили. И нам казалось, что это будет дальше продолжаться. Может быть, как-то по-другому, лучше, круче. Мы хотели менять кое-какие форматные решения, хотели попробовать уделять больше времени самому процессу поисков, показывать зрителю, как мы ищем, где, думали сделать это в жанре детектива. Куча идей была. Но мы по-прежнему делали «Жди меня» сердцем. И, было дело, ревели в аппаратной.
– Можете вспомнить, когда такое случилось в последний раз?
– Да. Это был 2013 год, декабрь. К нам пришли дедушка с бабушкой. Очень старенькие, но очень хорошо выглядящие и очень похожие: брат и сестра. Перед тем как они пришли, я читала сценарий. Но сценарий – это одно, а тут вдруг дедуля начинает рассказывать: «Я родился в 1916 году». И у всех в аппаратной: «Господи, вот это космос! При Николае Втором!» В общем, ему девяносто шесть лет, бабуле, его сестре, – девяносто четыре. А искать они пришли свою родную сестру, которую потеряли в 1925 году. Так получилось, что в голодные годы у них умер отец. Сестра отца, тетка, предложила свою помощь – забрать на время самую младшую девочку. И мама согласилась: голод. И вдруг семья вот этой вот тети вместе с малышкой исчезает. Больше они никогда со своей сестренкой не виделись. А через столько лет приходят к нам. И начались поиски во главе с Кушнерёвым, который разрабатывал эту тему.
– Нашли?
– Да, Катя, нашли.
– Где?
– Ее нашли в Иране. На момент съемок ей было девяносто лет. Так вышло, что семья тетки, в которую она попала, своих детей не имела. И они увезли эту девочку, выдавая за свою дочь, куда-то в Среднюю Азию, оттуда – в Турцию. Там она вышла замуж за дипломата и попала в Иран. И вот, знаете, у меня стоит перед глазами картинка, как они подошли друг к другу, все очень похожие, одинакового роста. Обнялись. И прижались головами, все трое. Студия встала. Мы с Кушнерёвым в аппаратной замерли. Мне надо кнопки на пульте переключать, а слезы капают. Они достают фотографию свою единственную, где они все втроем. И говорят: «Спасибо вам!» И тут вдруг такая гордость, вот прямо до дрожи, тебя пробирает за то, что ты делаешь, чем занимаешься. И чувствуется масштаб страны. И счастье такое большое – за всех. Помню, я повернулась к Кушнерёву и говорю: «Серега, спасибо тебе, это невероятно». Он создал невероятный проект, конечно, невероятную историю.
– Как он жил, оставшись без этой работы?
– Как он жил? Он почти ни с кем не мог обсуждать то, что случилось. Ни в коем случае не хотел своим одноклассникам, университетским друзьям и просто друзьям за пределами телевидения, которых у него было очень много, рассказывать об этих своих переживаниях. Потому что многого же не объяснишь. Особенно людям, которые в этом не варятся, очень трудно объяснить, что потеряно, без чего невозможно жить. Сережа глубоко переживал и страшно. Мы с ним, когда встречались, всё время скатывались в обсуждение «Жди меня», потому что это часть нашей жизни, большая часть жизни. Я ему как-то говорю: «Скажи честно, Серега, ты видел хоть один выпуск после того, как мы ушли?» – «Нет, Светка, нет, не видел». – «И я не смотрю тоже».
Ну, это больно было. И все разговоры про это болезненны. И потом этот инсульт, тяжелое состояние. Он не хотел, чтобы его таким видели, не хотел верить в то, что он больной человек. Поэтому в больницу могли приезжать только я, дети, которым он бесконечно радовался, и Лёшка Бартош. И я почему-то запомнила, как на девятый день в реанимации он наконец смог разговаривать. И когда первый раз он мне позвонил таким слабым голосом: «Светка!» – ой, у меня слезы градом. И я говорю: «Ну ты-то хоть меня не бросай. Я прошу тебя, пожалуйста!» Он же, понимаете, остался один такой, который связывал меня с Сережкой моим. С ним мы много про Сережу говорили всегда.
И он действительно, не на словах, понимал, что я абсолютно живу этим, что в моей жизни Сережа – это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак. Что бы ни писали обо мне в газетах, как бы им ни хотелось какую-то новость получить. Этого не понять тому, кто не знал, что это такое, когда в твоей жизни был такой мужчина. Это счастье, которое, думаю, многие женщины не проживают за всю жизнь, какое я прожила за вот этот небольшой период. И если у тебя такое было, то ты через всю жизнь пронесешь это, ты будешь это хранить.
Я об этом, наверное, только с Кушнерёвым и могла говорить. И тогда просила его меня не бросать. И он ответил: «Не брошу, Светка». Когда он оправился, мы, помню, приехали к нему на дачу – я, Лёша Бартош, Чулпан Хаматова, все с детьми, такой хороший день был и вечер, мы много хохотали, гуляли.
Реабилитация Сережина как-то достаточно быстро прошла. Потом он зацепился за идею книги[12] и начал ее писать. Первый экземпляр подарил нам с детьми, там много про моего Сережу, Бодрова. Эта книга – фантастическая работа. Огромное количество материалов, такие тонкие вещи, такие истории пронзительные, которые только Кушнерёв мог выцеплять. И я его попросила как раз начать писать сценарий документального фильма. Он говорит: «Я даже некоторые уже вещи придумал, которые ты сможешь сделать. Ты сейчас меня поймешь». Мы даже обсуждали уже детали. Не успели.
– Чем вы занимались после ухода из «Жди меня»?
– Где только не скиталась. Даже поработала на телеканале Совета Федерации, потом на НТВ, еще где-то. Сейчас на Первом канале. Но в этом смысле мне даже как-то легче было: я просто тупо искала работу, потому что у меня дети, мне нельзя долго находиться в творческих поисках. Мне надо зарабатывать, чтобы их кормить. С десятью тысячами пенсии по потере кормильца и семьей, рассчитывающей исключительно на твою зарплату, особенно работу выбирать не приходится.
– Вам не предлагали пойти в новую «Жди меня» на НТВ?
– Нет. Это невозможно. Я знаю, Маше[13] звонили, предлагая пойти теперь уже на НТВ в «Жди меня». Она сказала, что будет работать только со старым составом. Теперь ведь в программе совершенно новые люди: вместе с нами ушли прекрасные редакторы и корреспонденты, ушли и ведущие. Понимаете, «Жди меня», созданная Кушнерёвым, – это не только программа или там команда единомышленников была, это была семья. У него такая способность была – объединять вокруг себя потрясающих людей. Так я познакомилась с Галиной Борисовной Волчек, так в мою жизнь вошли Игорь Владимирович Кваша, с которым мы дружили до его последнего вздоха, Маша Шукшина, Миша Ефремов, Чулпан Хаматова, тоже ставшая членом этой семьи, близким человеком, про которого ты знаешь, что ты в любой момент позвонишь и тебя поддержат.
– А как Чулпан появилась в «Жди меня»?
– Началось с того, что она вела «Другую жизнь»[14], в которую ее притащил Серега [Бодров]. Так они все передружились. И когда встал вопрос, что Маше Шукшиной надо уходить в декретный отпуск рожать близнецов, Кушнерёв сказал: «Только Чулпан». Мы очень боялись, что она не согласится. Но как она могла не дать согласия нам с Сергеем Анатольевичем? Она согласилась. И, знаете, сидя в аппаратной, я подглядывала какие-то эпизоды, совершенно фантастические, которые с ней происходили в студии, она меня каждый раз поражала: вот кто-то сумочку забыл из гостей, она бежит по всем трибунам, прыгает через ступеньки: «Сумочку! Сумочку забыли! Вернитесь». Лучше нее никто не разговаривал в программе с детьми. Не знаю, как у нее это получалось, но шло, конечно, от сердца. Она – это было видно, это чувствовалось – сердцем переживала все истории, которые ей приходилось рассказывать. Иногда ей это совсем тяжело давалось. Это ведь не сыграешь! И вот она находила слова, конечно, мимо сценария, к кому-то подсаживалась, гладила по коленке, обнимала, иногда и плакала. И человек к ней прижимался, как будто оказывался под какой-то защитой. Мы с Серегой ее обожали.
Безумно жалко этих времен. Жалко дела всей жизни. Потому что люди, которые пришли теперь, – они же ничего своими руками не создали, они работают на базе созданного Сергеем Анатольевичем. И не собираются ничего развивать, никуда двигаться.
А это значит, что не будет реализована его мечта – сделать всемирную сеть поиска людей. Он уже почти соединил концы с концами, там оставалось доработать только. У него была абсолютная статистика того, сколько людей теряется во всем мире, было представление, как их искать. Он был болен этой идеей. Мы собирались расширить географию «Жди меня». С нами были согласны работать страны Балтии, мы сделали телемосты из Риги, Лондона и Китая с компанией CCTV. И представляете, во время этого телемоста с Китаем искали родственников Григория Кулишенко, нашего летчика, который во время Японо-китайской войны совершил подвиг, защищая границы Китая, и у них считается национальным героем: ему поставили памятник, у которого принимают в пионеры. И оказалось, что это дедушка Кушнерёва. А он мне никогда не рассказывал. Вне работы он был очень застенчивым и мягким человеком.
– Когда Сергея Кушнерёва не стало, я подумала о том, что из жизни ушел последний романтик нашего телевидения, который думал о зрителе и любил его. И любил свою работу не потому, что это власть или деньги: просто любил человек телевидение.
– Людей, вот так «больных» телевидением, наверное, больше и нет. Мы какие-то мастодонты. Бодров некоторые вещи наши смотреть не мог, иногда слезы наворачивались, но всеми историями интересовался. И он взял одну историю про медсестру, которую искали через «Жди меня». Хотел снять следующим фильмом после «Связного»: там медсестра наших раненых прятала в подвале захваченного немцами села. Она рассказывала, что когда выпустила их, несколько недель не видевших солнца, пришел немец. За гусем пришел. И видит во дворе четырех перевязанных раненых солдата.
– И что он?
– Молча взял гуся, положил на стол десять марок и ушел. Эта история страшно зацепила Сережку моего. Эта медсестра приехала к нам в «Жди меня» искать хотя бы кого-то из этих раненых солдат. Через какое-то время (они же понимали, что немец будет молчать только до поры до времени) она их всех потихоньку вывела в лес.
– Вы кого-то из них нашли?
– Кушнерёв этим занимался, одного нашли, уже старенького. Серега [Бодров] потом просил Кушнерёва какие-то детали у этой уже пожилой женщины выяснить для фильма, подробности.
– Я хорошо помню, что у Кушнерёва в кабинете на главном месте стояла фотография ваших детей, Оли и Саши. Он с восторгом всегда о них рассказывал.
– Дети его любили очень. Он был крестным Оли и Саши. И он их обожал. Всегда приезжал на дни рождения, всегда поздравлял. В последний год Оля очень сблизилась с Сережей. Призналась ему, что собирается поступать в театральный институт. И он очень поддерживал ее в этом решении, о котором больше не знал никто: ни моя мама, ни Сережин папа, ни Сережина мама. Никто! Для всех был журфак МГУ. А Серега с Олей наяривали по театрам! Ей очень нравилось с ним разговаривать, у них было много общего, и она очень тяжело восприняла его уход из жизни, очень тяжело.
Оля вначале поступила на подготовительные курсы во МХАТ, а потом, весной, когда заканчивала одиннадцатый класс, поступала во все театральные вузы, даже в Ярославль ездила. Прошла по конкурсу в МХТ, Щепку и ГИТИС. Но выбрала ГИТИС. Я переживала, конечно, страшно! Даже вела свой дневник, никак не могла дождаться, когда уже всё закончится. Сидела тут на кухне одна: Саша на байдарках в лагере, Оля сдает экзамены, конкурс. Помню, она звонит часов в одиннадцать вечера: «Мама, я поступила!» И я как зарыдаю. И стала всем сообщать: своей маме, Сережиной, Сергею Владимировичу Бодрову. Он в ответ: «Как в ГИТИС?» Я говорю: «Вот так решила». Ох, а как Кушнерёв счастлив был! И после поступления они продолжили свои походы по театрам. Он перезнакомил ее со всеми. Это уже было новое поколение «Современника» во главе с Шамилем Хаматовым, братом Чулпан. И теперь уже они собирались у Сереги на даче в Валентиновке. Он обожал молодых, он наслаждался этим общением. Сам давал много, и они его любили очень, ребята. Ему было с ними так легко, так весело, так они были интересны ему, а он был для них центром притяжения. Я только спрашивала его всё время: «Кушнерёв, как у тебя здоровья хватает?» Он прищуривался так в ответ: «Хватает». И он всегда был на связи. Всегда отвечал на сообщения.
Собственно, я поняла, что что-то не так, когда написала ему сообщение: «Надо посплетничать». И он вдруг не ответил. Я стала звонить: один день, второй. Сразу почувствовала, что что-то произошло: Сережа не выходит на связь. В январе 2017-го у него случился второй инсульт. Так получилось, что я первая из наших всех, из всех друзей об этом узнала, потом каждый день звонила его сестре Насте, узнавала, как он себя чувствует, и после разговора с ней сообщала всем по цепочке о его состоянии, ребятам из театра, из нашей команды «Жди меня». Все очень сильно переживали за него. Мы до последнего надеялись…
Знаете, Катя, меня поразило, сколько людей, сколько Серегиных друзей пришли с ним проститься. Как же он умел дружить, сохранять отношения. Поразительно! Пришли совсем молодые артисты, студенты и бабушки из «Комсомолки». Те, чья жизнь с ним как-то пересеклась, все его любили. Вечер памяти был в «Современнике». Молодые актеры посвятили ему спектакль, который играли в этот день. Я встала и сказала: «Давайте не будем больше плакать, Сережа был очень веселым человеком, и слезы его расстраивали. Пусть это будет настоящий, полный жизни театральный вечер, как он любил». И они пели, было много стихов и песен. И Галина Борисовна [Волчек] была, почти до утра досидела, и Чулпашечка, все. Пришел даже Костя Эрнст. Обнял так меня и сказал: «Ну что? Бросили тебя твои мужики». Я говорю: «Да. Никого не осталось теперь у меня». Он сказал: «Я не брошу». Сейчас и с Олей, и с мамой мы часто ездим к Сереге Кушнерёву на кладбище. Иногда я езжу одна, когда становится невмоготу и хочется поговорить. Еду, думаю, как бы я с ним хотела посоветоваться, пожаловаться, что вот с работой что-то сейчас неважно, то, это. Подхожу к его могиле и как будто прямо слышу его голос: «Привет, Светка».
Я выключаю диктофон. Мы сидим и курим, переводя дух. Потом не выдерживаем и звоним Чулпан: рассказать, что мы встретились и поговорили. Чулпан в какой-то заснеженной гастрольной гостинице, сонная. «Чулпашечка? Солнышко! Привет, как ты? Мы тут с Катей. Катя, смотри в телефон, – мы опять перешли на ты, – Чулпашечка, мы поговорили, я столько наговорила». Чулпан молча улыбается. У нее, в заснеженном гастрольном городе, три часа ночи. Мы прощаемся. Листаем Светин телефон. Там фотографии: Чулпан на даче у Кушнерёва с маленькими дочками Асей и Ариной. Там же – старшая дочь Бодровых, Оля. Это – еще до гибели Бодрова. А вот маленький Саша Бодров. Это – после гибели. Вот младшая дочь Чулпан, Ия, на той же даче. И следом – фотографии брата Чулпан, Шамиля. С гитарой. Рядом с Кушнерёвым. Тут же – Света и Чулпан. Вот другая папка: Света и Бодров в Венеции; Света и Бодров на какой-то вечеринке в Питере, Балабанов поет под гитару; Света и Бодров на круизном пароходе ВИD; Бодров и Кушнерёв в студии «Взгляда» – другая жизнь.
Последние снимки: растерянные артисты «Современника» в черных репетиционных костюмах на вечере памяти Сергея Кушнерёва в малом зале театра «Современник». 2017 год. Среди артистов – Чулпан, ее брат Шамиль, дочь Сергея и Светланы Бодровых, Оля.
На экране зала, где идет прощание, мелькают вперемешку все кадры из телефона Бодровой – случайные, сделанные на бегу, чудом сохранившиеся – к смерти не подготовишься. На радостном кадре – Бодров и Кушнерёв о чем-то спорят под тропической пальмой – слайд-шоу обрывается. Быстро мелькает черное поле. И всё начинается сначала.
Я выхожу из квартиры Бодровой, сажусь в такси, не выдерживаю, перезваниваю ей: «Ты как?» Она плачет: «Я никогда столько о нас не говорила. Я не думала, что мне одновременно так тяжело и так важно будет поговорить».
Интервью второе
Андрей Кончаловский
В 2012-м британский журнал Sight&Sound опубликовал список любимых фильмов русского режиссера Андрея Кончаловского. Вот он:
«Четыреста ударов» Франсуа Трюффо, 1959 г.
«Восемь с половиной» Федерико Феллини, 1963 г.
«Аталанта» Жана Виго, 1934 г.
«Наудачу, Бальтазар» Робера Брессона, 1966 г.
«Огни большого города» Чарли Чаплина, 1931 г.
«Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, 1982 г.
«Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, 1972 г.
«Семь самураев», Акиры Куросавы, 1954 г.
«Дорога» Федерико Феллини, 1954 г.
«Виридиана» Луиса Бунюэля, 1961 г.
Трудно себе представить другого такого русского режиссера, в чьем списке не было бы ни одного фильма соотечественников, но в советской и российской киноистории не было также никого, кто, как Кончаловский, смог бы уехать в разгар брежневского «застоя», в 1980-м, в США и стать не эмигрантом с тяжелой судьбой, а автором суперуспешного блокбастера «Танго и Кэш» (1989) с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях. До этого в СССР были сняты его «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Сибириада» и «История Аси Клячиной» – золотая коллекция! В 1990-е Кончаловский вернулся на родину. За это время СССР развалился, страна стала называться Россией. Кончаловский снял – снова в Америке – громкий мини-сериал «Одиссея», а потом на несколько лет замолчал. В те, последние годы догорающего двадцатого века, Кончаловский – народный артист РСФСР – самый либеральный и самый прозападный из русских режиссеров.
Он критикует Голливуд и «Оскар», разочаровавшись, по сути, в американском кинематографе, но уверенно говорит о том, что единственно верный путь развития России – европейский. А сама Россия – Европа, никакая не Азия.
А потом – возможно, постепенно, хотя со стороны кажется, что довольно резко и неожиданно, – позиция режиссера меняется. Все чаще Андрей Кончаловский вслух рассуждает о «скрепах», говорит об особом русском пути, ругает Запад.
Как и почему сын поэта Сергея Михалкова и художницы Натальи Кончаловской, брат режиссера Никиты Михалкова изменился? Что случилось? Причем тут кино? Эти вопросы задавал себе каждый, кто уважал Андрея Кончаловского и восхищался им. Задавали и недруги.
Всё это время мне казалось, что должна быть какая-то поворотная точка, что-то по-настоящему важное, перевернувшее его мировоззрение, позволившее отказаться от прежних взглядов и принять новые. Но повода спросить – не было. В 2016-м Андрей снял фильм «Рай», которому аплодировал стоя зал Венецианского кинофестиваля. Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу.
«Рай» – картина о Второй мировой войне. Три главных героя – русская аристократка-эмигрантка, участница французского Сопротивления Ольга (Юлия Высоцкая), француз-коллаборационист Жюль (Филипп Дюкень) и высокопоставленный офицер СС Хельмут (Кристиан Клаусс) – в поисках личного рая на фоне миллионов страдающих и умирающих в аду на Земле жертв войны. «Рай» оказался поводом для встречи с Кончаловским. А значит – возможностью задать все копившиеся годами вопросы, многие из которых действительно и вечные, и риторические: кто мы такие, куда мы идем. Зачем?
– «Рай» произвел на меня огромное впечатление. Я понимаю зрителей, которые стоя аплодировали вам в Венеции.
– Спасибо.
– Среди организаций, причастных к созданию «Рая», значится Министерство культуры России. Думаю, для него это – очень хорошее вложение. Никогда еще деньги, ассигнованные на пропаганду, не тратились с таким умом: по-европейски, блестяще сделанная картина рассказывает миру о важности и величии русской идеи. Таким был изначальный замысел?
– Министерству культуры, вероятно, будет лестно услышать ваше мнение. Мне трудно рассуждать в таких категориях и говорить о каких-то интересах. Всё-таки, когда подступаешь к материалу, не рассуждаешь о смыслах, которые могут проявиться в процессе создания. Не думаю, что произведение искусства исходит из каких-либо интересов, кроме желания воплотить то, что «примстилось» художнику. Вы же не спрашиваете композитора, например, какую идею он хотел раскрыть, в чем пытался убедить мир, потому что музыка – это музыка.
– И это никогда не мешало композиторам творчески высказываться по разным актуальным – в том числе и политическим – вопросам. Но речь о «Рае». Ваш фильм затрагивает сразу несколько очень болезненных для разных стран и культур тем: Холокост, французское Сопротивление, избранность русских как спасителей и освободителей всего человечества.
– Всё то, о чем вы говорите, – это уже конечный результат фильма. Такая задача в самом начале не может быть поставлена. Процесс создания в определенном смысле – это нащупывание тропинки в абсолютной темноте. В темноте можно наткнуться на тему фильма. А тема какая? Это не Холокост, не судьба француза, не судьба немца и не судьба русской женщины. Тема «Рая» – это универсальность зла и его соблазнительность. Замысел, конечно, начинается с каких-то более простых, материальных вещей, деталей и зацепок разного рода. Всё это вырастает в определенный конгломерат идей, историй и проблем. Одно наслаивается на другое. Или не наслаивается… и тогда художник может признать свою ошибку.
«Рай» для меня очень важный опыт рассуждения об амбивалентности злодеяния – это немного иная тема, чем тема Холокоста. Зло не обязательно воплощается в образе монстра. Это может быть умный, образованный, талантливый…
– Любящий Чехова…
– Да, любящий Чехова, аристократичный, красивый, удивительно цельный человек. Для меня очень важно, что он вступает в эту мутную реку зла и течение его несет. В этом смысле на меня очень подействовал роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, который попался мне тогда, как раз когда я готовился к «Раю». Я этот роман смаковал со всех сторон.
– И еще, наверное, «Банальность зла» Ханны Арендт?
– Нет, это я не читал. Еще на меня большое впечатление произвела книга «Скажи жизни “Да”» Виктора Франкла, австрийского психиатра, который провел в Освенциме три года. Но, по правде сказать, у меня никогда не было желания теоретизировать о смысле своих произведений. Однако есть одна вещь, которая для меня очень важна: полфильма три героя «Рая» прямо говорят со зрителем – в форме монолога. Монологи – самое ценное для меня в картине. Если бы не было монологов, не было бы этого фильма. Был бы какой-то другой.
– Монологи – то, как они выглядят, кем и как произносятся, – это режиссерское решение или всё было придумано еще на стадии сценария?
– Они были с самого начала. Иногда мне приходила безумная мысль оставить в картине только монологи. И всё. Самое интересное в фильме – слушать исповедь этих трех человеческих существ. Оказывается, и так можно. Никогда не думал.
– У «Франкофонии» Александра Сокурова, так же, как и «Рай», затрагивающей тему Сопротивления и коллаборационизма, во Франции были проблемы с прокатом: МИД выступил против показа в Каннах, министерство культуры и даже Лувр чуть ли не отреклись от картины. Выяснилось, что французы не вполне готовы к обсуждению этих тем посторонними.
– Саму картину Сокурова я, к сожалению, пока не видел, но очень жалею, что жюри так обошлось с ним в Венеции[16]. Очень несправедливо. Я убежден, что всё, что Сокуров делает, – это обязательно произведение кинематографа – в том смысле, в котором его понимал Робер Брессон.
Что до французов, то, во-первых, у них есть нормальная цензура. Я это знаю, сам сталкивался. В свое время я пытался снять там картину про араба, который становится джихадистом. Идея простая: живя рядом с французами, можно стать джихадистом. Но снять такое нельзя, разумеется, потому что там – цензура. Во-вторых, французам крайне неприятно ворошить свое собственное прошлое. И это было совершенно правильное решение де Голля – закрыть все дела коллаборационистов на шестьдесят лет. Архивы открываются только сейчас, когда они все уже умерли. Знаете, почему де Голль принял такое решение? Потому что понимал, что нельзя раскалывать общество. Пол-Франции же были коллаборационистами, да если уж начистоту, бо́льшая ее часть.
– Вы действительно считаете это правильным? То есть в переносе на нашу почву, беда не в том, что в 1991-м, во времена разгрома КПСС и развала СССР, не было люстраций, а в том, что вообще стали рассказывать правду о тех, кто сажал, кто доносил, кто расстреливал?
– Любая история имеет амбивалентные смыслы и гораздо более глубокие причинно-следственные связи, чем просто набор злодеяний каких-то ублюдков. Собственно, об этом и мой фильм.
Что касается разгрома КПСС, то нельзя назвать это удачным политическим решением. Нельзя забывать, что коммунистические идеи были воплощением чаяний большого количества людей. Эти люди истово и искренне в них верили. Я даже думаю снять фильм про секретаря низовой партийной организации в каком-нибудь забытом году прошлого века. Это же были нормальные, честные люди. Их, конечно, что-то не устраивало, но шестидесятые годы – после десталинизации – не были для них хорошим временем. Они не могли ничего сделать против, так сказать, логики, возникшей во времена хрущевизма, но они не мечтали о том, чтобы их жизнь и идеалы облили грязью. Наступило другое время: все идеи, в которые они верили, были опорочены, и на Сталина повесили все грехи, ответственность за которые должны были нести те, кто начал десталинизацию. Ну и что дальше? Что, все стали хорошими? И в подъездах перестали гадить? И выбрасывать мусор в окно перестали? Ну это же смешно.
Ментальность народа не меняется в связи с тем, что вдруг решено покончить с прошлым. К тому же покончить с ним невозможно. Берите пример с Китая: культ Мао Цзэдуна никогда не был развенчан, а страна движется вперед.
– Мне не хотелось бы брать пример с Китая и жить, как в Китае. А вам?
– Я предлагаю вам не жить в Китае, а решать политические проблемы так, как они. Решать политическую проблему в архаической стране – совсем другое дело, нежели решать ее в Югославии или где-нибудь еще в Восточной Европе.
– А мы живем в архаической стране?
– Мне кажется, огромная часть нашей страны живет в архаической системе ценностей. У нас язычество переплетено с коммунизмом, а коммунизм – с православием. И любое правительство в России, в том числе нынешнее, – это правительство социально ориентированного государства.
– В каком смысле?
– В том, что оно чувствует себя обязанным кормить людей, которые не хотят много работать и зарабатывать, а вполне довольствуются малым. Сложно заставить людей вопреки их воле заниматься бизнесом. Дело не в том, что кто-то не дает, а в том, что не надо это русскому человеку. И бизнес, и свобода эта пресловутая большинству не нужны. Было бы надо, взяли бы как миленькие. Свободу же не дают, свободу берут! А людям это не нужно. Надеюсь, вы понимаете, что мы с вами говорим о нации, а не о гражданах в пределах Садового кольца.
– Мне кажется, довольно рискованно решать за целую нацию.
– Решать трудно, но понимать необходимо. Надо как-то понимать, где мы живем и в какую сторону стоит смотреть. Мы не сможем изменить национальную ментальность, не поняв ее.
– Это похоже на трансформацию риторики Путина, который в начале своего президентства заявлял о европейских ценностях, о России как части Европы, потом всё меньше говорил об этом, а сейчас и вовсе не говорит.
– На мой взгляд, вы неправильно воспринимаете то, что произошло. Россия действительно пыталась войти в европейский ареал. Такова была идея Путина, который, конечно, самый большой в стране европеец по своим убеждениям. Но Запад отверг Россию, отверг Путина, потому что мы им не нужны сильными, а нужны разваленными, как во времена перестройки: замечательная страна с полным говном вокруг и нищей армией. Путин это понял. И другого выхода, кроме как строить армию и искать союзников на Востоке, у него не осталось.
– Вам такой поворот по нраву?
– Я раньше был западником и тоже думал, что у России один путь – на Запад. Теперь убедился, что нет у нас такого пути. И слава Богу, что мы, двигаясь в этом направлении, сильно отстали. Потому что Европа на грани катастрофы – это, кажется, совершенно понятно. Причины катастрофы в том, что, как оказалось, нельзя во главу угла ставить права человека. Права человека могут рассматриваться только в соответствии с его обязанностями. Они отказались от традиционных европейских, а значит христианских, ценностей.
– Вы действительно считаете, что Владимир Путин – европеец?
– А вам так не кажется? Скорее всего, потому что вы не анализируете всю траекторию его президентства. Да – и по складу ума своего, и по опыту жизни в Европе. Я думаю, что у него, когда он возглавил страну, были определенные идеи, которые очень видоизменились под давлением внутренних и внешних обстоятельств. Он пришел в абсолютно разрушенную страну, и ему в управление досталась гигантская архаическая масса людей, которые настроены к государству враждебно – в силу системы своих приоритетов. Его усилия прежде всего были направлены на предотвращение распада. Я вообще представить себе не могу, как ему всё это удалось.
У Путина, как у западника, как у человека, который прекрасно говорит по-немецки и знает мировую культуру, конечно, были иллюзии, что России надо возвращаться в Европу. Но в Европе ему сказали: «А вы кто такой вообще? Мы вас не ждали». И «Мюнхенская речь» Путина[17] – это результат колоссального разочарования Путина в своих идеях относительно Европы и понимания того, что жить предстоит в той части света, которая далека еще от гражданского общества. Это всё сложнейшие проблемы, которые, конечно, нам с вами за пределами Садового кольца не видны, но руководить страной без этого понимания невозможно.
– В моей логике за этим «пониманием» приходит желание «просвещать». И тут уже к вам вопросы.
– Что вы имеете в виду под «просвещать»? Грамотность? Дело в том, что мысли-то всё равно остаются архаичными, в пределах «кто не с нами, тот против нас», в пределах деления на белое и черное. Модернизация средств общения меняет скорость общения, но не его уровень. Мой вывод вам не понравится: мы не Западная Европа и не будем ею, и не надо стараться.
– Когда вы это поняли? Каким образом произошла перемена: до какого момента вы были очень близким, например мне, по духу Кончаловским…
– …а когда стал Михалковым?
– Да. Спасибо, что вы сами это произнесли.
– А вы возьмите свою головку в руки и подумайте лет двадцать – и вы тоже изменитесь. Думающие люди нередко меняют свою точку зрения. Не меняются только идиоты. А на меня очень сильно повлияла моя жизнь на Кенозере, где я снимал «Почтальона»[18], – жизнь с людьми, которые гармоничны во всем, что они делают, которых не касаются ни Владимир Путин, ни Владимир Познер, ни «надо расплатиться за прошлые грехи», ни вообще что-либо из нашей бурлящей жизни. Они живут в полной архаике, в каком-то удивительном мире своей шекспировской гармонии. Или даже античной трагедии.
– В чем это проявляется?
– Они никуда не стремятся. Их не загонишь ни в капитализм, ни в частное предпринимательство. Конечно, там есть, что называется, «крутые», но это не класс буржуазии, который динамичен и который чувствует ответственность за страну. Буржуазии никогда не было и пока еще нет. И это тоже одна из проблем российской истории – через нее не надо перепрыгивать.
– Выходит, раньше вы были либералом, а потом сходили в народ и вернулись оттуда совершенно новым человеком. Так?
– Не прикидывайтесь такой наивной. Зачем так упрощать? Я снял три фильма в русской деревне, я живу в этой стране и знаю мой народ – очевидно лучше вас, хотя бы потому, что на сорок лет вас старше. И постепенно убедился: чтобы изменить страну, надо изменить ментальность. А чтобы изменить ментальность, нужно изменить культурный геном. А чтобы изменить культурный геном, надо сначала его разобрать на составные части вместе с величайшими русскими философами – то есть понять причинно-следственную связь, которая в нашей стране до сих пор не изучена. И только потом уже решить, куда нам идти.
Наивно думать, что всеобщая грамотность изменит человека. Например, бизнес в нашем представлении – это воровство. Из-за Садового кольца это неочевидно, но это так. И еще. Там, за кольцом, за Москвой – совсем другие ценности у людей: они хотят, чтобы государство их оставило в покое. А это значит, что они не граждане, а население. И миллионы россиян – это население. О каких гражданских инициативах мы говорим?
– Мне кажется, население становится гражданами именно благодаря просвещению.
– В каких вопросах вы хотите просвещать?
– Как минимум, в вопросах собственной истории. Через шестьдесят лет после XX Съезда КПСС в России ставят памятники Сталину. И вопрос о том, кто он – кровавый диктатор или эффективный менеджер, всё еще предмет общественной дискуссии.
– Обсуждение Сталина, Ленина или даже императора Александра не имеет никакого значения. Если мы хотим думать о том, как двигаться вперед, надо прежде всего понять, что за культурный код у русской нации. Всё кругом меняется, и только он не изменился за последнюю тысячу лет.
– Что это за культурный код?
– У нас крестьянское сознание. У русского человека добуржуазные ценности: «своя рубашка ближе к телу», «не трогай меня, я тебя не трону», «ой, на выборы идти – зачем это нужно; придется пойти, потому что придут и погонят, а то и накажут». Крестьянское сознание – это отсутствие желания принимать участие в жизни общества. Всё, что за пределами интересов семьи, в лучшем случае вызывает равнодушие, в худшем – враждебность. Возникновение буржуазии в Европе породило республиканское сознание. А республика – это общество граждан. В России республиканское сознание было всего в двух городах – Псков и Новгород. Всё, больше никогда и нигде. Впрочем, и эта колыбель была задавлена.
– Традиции «задавливания» как раз из тех, что аккуратно соблюдаются в нашей стране из века в век. Едва что-то новое, свежее поднимает голову, как раздается звонкая оплеуха: сюда не ходи, с этим не экспериментируй, таких-то чувств не оскорбляй. Мы живем во времена ренессанса доносов и торжества цензуры.
– Честное слово, от ваших мыслей у меня уши вянут. Судя по вашим вопросам, вы не знаете, что такое настоящая цензура и доносительство. Я лично сожалею, что нет цензуры. Цензура никогда не была препятствием для создания шедевров. Сервантес во времена инквизиции создавал шедевры, Чехов писал в прозе всё то, чего не мог из-за цензуры написать в пьесе. Вы что думаете, что свобода создает шедевры? Никогда. Шедевры создают ограничения. В творческом плане художнику свобода ничего не дает. Покажите мне эти толпы гениев, которых жмет цензура? Да нет таких.
– Вот наглядный пример: из-за цензуры год назад был закрыт спектакль «Тангейзер» Кулябина.
– Что главное в опере? Музыка. А режиссура второстепенна. Режиссер в опере – это слуга композитора, дирижера и солиста. Культурный режиссер не имеет права переделывать сюжет. Это называется «самовыражение за счет гения». Напишите свою оперу, отыщите современного композитора, который ее напишет, и делайте что хотите. Но брать Вагнера, на мой взгляд, – это кощунство. Но у этого талантливого мальчика получилось всё замечательно! Он теперь в Большом театре спектакли ставит. И это цензура? Это старая мулька: сделать скандал, чтобы стать знаменитым. Ничего тут нового нет.
– Но на него написали тонну доносов. Мне казалось, что страсть к стукачеству – в прошлом для нашей страны. Нет?
– Если зрители возмущаются, какое это стукачество? Просто им некуда пойти, чтобы выразить свое возмущение. А если спектакль создается, чтобы спровоцировать возмущение, то это как раз та реакция, которой художник добивался.
Дело, на мой взгляд, совершенно в другом: к сожалению, культура у нас, в широком смысле этого слова, кончилась, режиссеров нет. Ведь, если разобраться, что такое режиссура? Это обилие художественных ассоциаций, колоссальная культурная база, без этого ничего нет, всё остальное – прикол. Так вот, у нынешних наших молодых режиссеров приколов полно, а художественных ассоциаций ноль. В этом беда, а не в какой-то там цензуре. Это всё подмена понятий. Как и модные нынче обвинения в переписывании истории, сокрытии правды… За последние двадцать лет было столько написано так называемой правды, которая не оказывалась правдой. И знаете почему? Потому что история очень субъективна. И нельзя сказать: вот во времена разоблачений писали только правду, а сейчас только врут. Нет. Истина в истории вообще не может торжествовать, потому что история трактуется всегда согласно тому, кто ее трактует. А объективная история – это огромная иллюзия. Очередная. Ну, мы живем иллюзиями.
– Ни у кого же нет никаких сомнений в том, что Гитлер – это кровавый преступник. В преступлениях нацизма никто не сомневается. Чисто арифметически: Сталин убил сопоставимое количество людей, причем своих.
– Да.
– Но сейчас этот вопрос в России опять оказывается спорным.
– А если вы возьмете китайского императора XIII века, в мавзолей которого ходят китайцы, то он убил четыреста тысяч человек за две недели. И я спрашиваю: «А вот он же убил?» Они говорят: «Убил, да, но он же часть нашей истории. Мы ходим к его могиле».
Вот кто-то там из наших певцов, по-моему, говорил: «Для меня история началась в 1993 году». Это, конечно, замечательно, только очень смешно. История никогда не начиналась – она живет в нас всё время, но она является частью субъективного видения. И никто не может претендовать на объективность. Конечно, понятно, когда тиран убивает людей, то это катастрофа определенная и кровавая. И, конечно, Гитлер – это безумный человек, но не забывайте, что за него проголосовала бо́льшая часть Германии.
– Почему нацизм и Гитлер как идеология запрещены во всем мире, а сталинизм и Сталин процветают в нашей стране?
– Вы хотите, чтобы это было запрещено?
– Я хочу, чтобы понимание преступлений сталинизма и Сталина было частью государственной идеологии.
– Значит, вы тоже за цензуру – только ту, которая устаивает вашу точку зрения. Может, дело в том, что сейчас появляется поколение людей, которые не знают, каким Сталин был. Но это неграмотные люди.
– Вполне грамотные. Говорят, что, может, Сталин кого-то и убил, но при нем промышленность заработала, индустриализация была проведена, войну выиграли.
– Но это тоже исторические факты. А если это есть [то, о чем вы говорите], так это только подтверждает тот факт, что цензура необходима. Будет цензура – будут правила. В том числе и ограничивающие идеологическую пропаганду. Понимаете, я имею в виду цензуру настоящую, естественную, ту, которая везде есть. Она существует в Америке, существует в Европе, в Ватикане. Андре Жид, по-моему, сказал: «Когда искусство теряет свои цепи, оно превращается в прибежище химер». Так и с идеологией. Словом, цепи нам нужны. Терять их ни в коем случае нельзя.
– Я бы хотела вернуться к «Раю». Там в финале фраза: «Мы русские, с нами Бог» звучит почти дословно и не подразумевает никаких рефлексий: мол, так и есть, научно доказано. Вы действительно считаете, что это могло бы быть нашей национальной идеей внутри страны и, скажем, нашей рекламной кампанией на Западе?
– Такой лобовой фразы в фильме нет. Героиня говорит о природе человеческого самопожертвования, это и есть суть ее жизни. Весь опыт этой картины для меня новый. Должен сказать, что моя новая биография как режиссера началась с прошлой картины, с «Почтальона Тряпицына». А «Рай» – это вторая картина в моей биографии, где я по-другому понимаю свою роль кинематографиста или художника.
– По-другому – это как?
– Пытаюсь понять законы кино, которые не открыты. Это иллюзия, будто мы знаем, как делать кино. Какие-то поиски были у сюрреалистов, у Бунюэля в наивные двадцатые годы. Но потом Бунюэль стал очень глубоким и перестал формально искать другие смыслы. Вот и я пытаюсь разобраться в этом новом киноязыке, пока еще не помер.
– А прежде, выходит, не разбирались? Не хотели или надобности не было?
– Каждому же художнику свое отпущено. И в этом смысле я счастливый человек, потому что мне повезло иметь возможность учиться: музыке, живописи, пониманию культурных кодов каких-то европейских категорий и всего того, что я могу иметь в виду, когда делаю сегодня фильм. Это отличает меня от молодого поколения, у которого мало стимулов, чтобы учиться. Все ушло в интернет, там теперь есть все ответы. Это плохо потому, что лишает человеческий мозг метода дедукции.
– У вас же у самого есть страница в фейсбуке, которую вы довольно активно обновляете, а я, например, с большим удовольствием читаю.
– Есть чуть-чуть, да. Но это в основном рассказы о живописи, культуре, истории. Я стараюсь, чтобы было интересно. Но мои визитеры – это, как правило, либо мое поколение, либо пытливые люди, скажем так, за пятьдесят.
Но мы отвлеклись, а я хотел бы закончить: отказавшись от того, что я делал прежде, я стал иначе относиться к кинематографу как к искусству звука и образа. Я вдруг понял, что звук и образ – это достаточные ингредиенты для создания симфонии, понимаете? Только звук и образ. Без излишеств.
– Монологи, на которых построен «Рай», – это монологи людей, на несколько мгновений задержавшихся между миром живых и миром мертвых. Тончайшая штука, которую редко кому удается показать без пошлости. Это с одной стороны. С другой – пограничное состояние человека, находящегося между двумя мирами, довольно трудно вообразить, не имея личного опыта. История вашей дочери Маши, которая уже несколько лет из-за трагических последствий автомобильной аварии[19] находится в пограничном состоянии, изменила вас?
– Знаете, это война. Ну как на войне живут? Выживают. И улыбаются, и пьют вино, и танцуют под гармошку у костра. Но это не отменяет войны. Вот так я живу, так мы живем в нашей семье. Строим планы, надеемся на выздоровление дочери – наука движется в этом направлении очень активно. Да, у нас есть какие-то надежды всегда, и они меняются. Это нормально. Это часть жизни. Надо жить. Надо работать. Надо строить планы. Надо искать смысл своей личной жизни.
– Вы завершили в Театре Моссовета постановку чеховской трилогии, которую планировали. И появились слухи, что вы теперь этот театр и возглавите. Есть такая возможность?
– Не думаю. Я вообще не руководитель, но планы, связанные с театром, у меня есть, конечно. Я хотел бы теперь сделать трилогию по Шекспиру: комедия, трагедия, фантазия. Посмотрим, как получится. Но было бы красивым завершением: Чехов, Шекспир – этого достаточно. Хотя нет, античные авторы. Это необходимо, чтобы понять, как ты ничтожен перед лицом этих гигантов. Я люблю такие ощущения. Они позволяют как-то приблизиться к понимаю масштаба вечности.
Интервью Кончаловского почему-то произвело эффект разорвавшейся бомбы. Самые разные люди в самых неожиданных местах подходили ко мне со словами: «Вот это да! Мы такого от него не ожидали!». Возможно, определенную роль сыграло и то, что интервью это вышло в издании «Медуза», которое традиционно считается либеральным. На одной из телепередач мы встретились с женой Андрея Сергеевича, актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Пока шла подготовка к записи, она спросила: «Вы не знаете, почему именно это интервью все так обсуждают, почему именно оно вызвало такую бурную реакцию, он ведь никогда не прятался и не таился, а всегда говорил, что думает? Что вдруг случилось?» Я пожала плечами. Возможно, читателей обескуражило нежелание Кончаловского нравиться. Возможно – несоответствие ожиданиям: вроде же либеральный режиссер, по сути своей жизни и по стилю – чистый европеец, а говорит о посконном патриотизме, крепостном праве и кольце врагов.
Но мне до сих пор кажется, что и недоумение, и негодование были чрезмерными, а возможность спокойно и подробно поговорить с человеком иных, отличных от твоих взглядов – счастливой. И нет, Кончаловский меня не разочаровал: великий режиссер, он по-прежнему автор своих выдающихся фильмов. Если бы была возможность снова побеседовать с Андреем Сергеевичем о его меняющихся взглядах, я бы не отказалась. Жаль, что он редко дает интервью.
Интервью третье
Мария Парфёнова
Маша – рыжая и, кажется, всегда веселая. При абсолютной физиономической схожести с отцом, грандиозным тележурналистом и телепросветителем Леонидом Парфёновым, темпераментом Маша, скорее, пошла в маму, журналиста и телеведущую Елену Чекалову. Ничего в Парфёновой-младшей не выдает принадлежность к касте детей-мажоров, тех, кто вырос в звездных и обеспеченных семьях. Разве только – очень легкая, не угловатая, но спокойная и уверенная манера поведения со знакомыми и незнакомыми людьми. Так бывает у тех, кто не был травмирован в детстве. Или, будучи травмированным, сумел все недопонимания пережить и переосмыслить. Честно говоря, я никогда не задумывалась, из какой категории – Маша. До тех пор пока однажды не прочла новость: Мария Парфёнова вместе с Марией Пиотровской, другой дочерью известных родителей[20], учредила Ассоциацию родителей и детей с дислексией. В коротком пресс-релизе по поводу появления новой организации было сказано: «Для Парфёновой проблемы дислексии – это личная история». Так началось это интервью.
– Став соучредителем Ассоциации родителей и детей с дислексией, ты во всеуслышание объявила, что ты сама и есть – человек с дислексией. Я тогда в первую очередь подумала о твоих родителях.
– Не обо мне?
– Прости, но первое, что я подумала: вот два суперизвестных, суперуспешных журналиста, работа которых – писать и говорить. А для их ребенка устное и письменное выражение своих мыслей – неразрешимая проблема. Что они должны испытывать? Как справляться?
– Если честно, справлялись они не очень: к моей дислексии и дисграфии прилагались дискалькулия и легкая форма синдрома дефицита внимания; при освоении любых знаковых систем – букв, цифр, нот – возникали трудности. Так еще и никакой усидчивости! Но знаешь, я бы хотела сразу оговорить: сейчас ни слова не будет сказано в осуждение моих родителей; это будет рассказ о нашем совместном пути и наших победах. Ни учителей, ни родителей я не осуждаю нисколько, они просто не понимали, с чем мы все столкнулись.
Смотрим друг на друга. Пауза. И тут мне становится ясно, насколько всё, что было сказано до этого, и всё, что будет сказано после, может отрикошетить по всей ее семье. Формально – сенсация: дочь известного журналиста Парфёнова страдает (или страдала) дислексией, а человек, чья профессия – слово, не понимал, как с этим справиться. Но разве профессия, образ жизни или качества, свойственные одному человеку, автоматически переносятся на другого, пусть даже родного и близкого? Становится понятно: согласившись на интервью, Маша рискнула семейными отношениями. И чем дольше мы будем говорить, тем выше риски. И ей от этого – страшновато. Поэтому коротко прошу:
– Поясни.
– Мои родители понятия не имели, что со мной такое, что нужно делать и как себя вести. Ситуацию усугубляла моя «чудесная» учительница начальных классов, которая регулярно сообщала – а за ней, как попки, повторяли другие учителя, – что вот такая, как я, просто не может «быть дочерью своих талантливых и умных родителей». И до девятого класса я была почти уверена, что меня удочерили.
– То есть как?
– Ну а как? Вот у меня есть, допустим, мама, которая выросла в по-советски авторитарной семье, где у нее практически не было шансов не быть отличницей. И она стала отличницей. И была нацелена исключительно на образцовую карьеру, на идеальную биографию, включавшую и детей. У меня – папа, ты сама понимаешь, известный и очень талантливый журналист…
Но ладно папа с мамой. У меня бабушка написала примерно каждый второй русско-английский и англо-русский словарь в СССР и откорректировала его! И вдруг вот у такой бабушки такая внучка.
Я не могу себе представить, что бабушка переживала, когда столкнулась с моей дислексией-дисграфией еще и на английском: говорить-то я говорила, причем прекрасно, а писать не могла вообще. Если бы не бабушка, уверена, я бы никогда не выучила ни одного иностранного языка. Но она со мною мучилась и была довольно терпеливой, с мамой она была куда жестче.
– Бабушка понимала, что с тобой?
– Не думаю. Она просто меня любила, и у нее было безграничное терпение.
– Что в твоей детской памяти – главное переживание?
– Ощущение стигмы. Это когда ты знаешь и каждую секунду помнишь о том, что все вокруг тебя – могут, а ты – нет: писать или считать, работать в одном темпе с классом, определять время, знать, сколько дней в месяце, или стихи учить – неважно. Ты ничего из этого не можешь так, как могут другие. Но именно по этим параметрам твои самые главные люди продолжают сравнивать тебя с кем-то, чаще всего с тем, кого ты знаешь, что особенно больно. Потому что это сравнение всегда не в твою пользу.
И ты постоянно чувствуешь разочарование взрослых по поводу того, что у тебя не получается то-то и то-то, что прекрасно получается у всех – вообще всех – детей. И вот эта любимая фраза многих родителей, и в том числе моих: «Чем мы это заслужили?» – наверное, одно из самых сложных переживаний в моем детстве. Я понимала, что приношу маме боль, но ничего не могла с этим сделать.
– А мама?
– И мама не могла. Хотя именно мама, моя родная мама, прочла мне вслух каждый мой школьный учебник вплоть до пятого класса. Представляешь?
– Нет.
– Она не очень понимала, зачем и почему она это делает, но – и, знаешь, это, наверное, главное – она, в отличие от многих вокруг, была совершенно уверена, что я не ленюсь, и знала, что я занималась больше всех в классе. Она меня любила во всех проявлениях и самыми разными способами пыталась помочь.
Я сейчас, возможно, приведу не самый корректный пример, если скажу: когда ты физически недееспособен, возможно, тебе труднее всё дается, но твой недуг заметен, очевиден и тебе, и окружающим. А когда ты сам не видишь, что с тобой не так, когда другим кажется, что это просто тупость, лень или, я не знаю, ЗПР, – это самое страшное: ты не способен себе объяснить, почему ты не можешь залезть на дерево, когда все могут, почему ты не можешь ровно писать в линованной тетрадке, когда все – вот же, пишут прекрасно!
– Это разве одно и то же: залезть на дерево и писать в прописях, не выходя за пределы линеечки?
– Любимый пример у нас в Ассоциации. Представь себе картину: перед учителем животные разных типов: коты и морские котики, львы и мышки, лисы и обезьяны. И учитель всем этим разным говорит: «А сейчас, чтобы провести тестирование, я попрошу всех вас на скорость влезть на дерево». Но как они будут измерять, кто быстрее, если некоторые просто не умеют лазать по деревьям? И почему от детей не ожидают, что они будут одинаково хорошо, как Репин, например, рисовать, но все должны к концу первого класса овладеть каллиграфическим почерком?
– Значит, твои проблемы начались в школе?
– Да нет, в детском саду всё уже было понятно – меня выгоняли отовсюду. Знаешь, сейчас я понимаю, что до школы была совсем неконтролируемой. Я кусалась и порой била детей, не давала малышам в группе спать во время тихого часа, я снимала шерстяную юбку – она кололась – и ходила в одних колготках – полный набор того, что называют девиантным поведением. Даже на месте не могла усидеть. Постоянно привлекала к себе внимание, выкрикивала ответы, перебивала, и никакие занятия в саду не удерживали моего внимания хотя бы на какое-то время – это вызывало бурную реакцию воспитателей и выливалось на голову родителей, вызывая ответную, в мою сторону, реакцию, превращая нашу жизнь в замкнутый круг всеобщих мучений.
– Что говорили воспитатели?
– Обычный набор: асоциальная, ленивая, необучаемая… Это мягкий вариант. Я до сих пор, когда слышу, как взрослые люди – вроде бы педагоги с высшим образованием – говорят, что ребенок ленится, хочу взять за руку и сказать: «Да запомните уже, наконец, что до одиннадцати лет – до периода тинейджерства – дети не могут, просто не умеют лениться!» Все эти дети, про которых учителя говорят, что они тупые и ленивые, они тоже хотят прийти домой с хорошей оценкой, красивым рисунком, слепленным колобком или ровно написанными буковками – как у всех, но у них не получается. И никто их, как тех, других, не хвалит, их – наказывают.
– И у тебя так было?
– Было по-разному. Но ты представь просто, что мои родители должны были едва ли не ежедневно слушать про своего ребенка, что он тупой, невоспитанный, неспособный и ленивый. И совсем никто не говорил им, как мне помочь. Поэтому в ход шли изматывающие занятия до ночи, жесткая дисциплина и суровые наказания.
И я не знаю, чем бы всё кончилось, если бы однажды, когда я училась в третьем классе, в нашей жизни не появилась одна-единственная учительница, чудом попавшая в эту жуткую государственную школу, которая сказала маме: «Забирайте Машу отсюда. Я уверена, что у нее дислексия, я о ней читала. Я не знаю, кто ей поможет в нашей стране, но ей точно не место в государственной школе. Надо искать частную, где к ней найдут индивидуальный подход, по крайней мере, по каким-то предметам».
– И тебя забрали?
– Да, меня забрали. В моей государственной школе – это было время реформы образования, перехода на одиннадцатилетний цикл – меня отказались переводить из третьего класса в пятый, потому что «она не потянет» – такие были комментарии. И вот тут появилась эта замечательная учительница, читавшая про дислексию. Проблемы это не решило. У нее ведь не было при себе «инструкции по использованию» ребенка с дислексией, но слово, которое она произнесла, – это уже было что-то.
Меня перевели в школу «Золотое сечение», где мне повезло: сейчас я понимаю, что около шестидесяти процентов учеников в нашем классе имели те или иные формы трудностей обучения. И это было очень круто в том смысле, что я оказалась в среде, где и учителя, и дети понимали, что все мы разные и это – здорово. А еще в такой среде над тобой меньше смеются, если ты что-то делаешь не как все или даже хуже всех. Тут я полюбила ходить в школу.
А потом случилось чудо. Казбек-Казиева Мария Марковна, преподаватель из Европейской гимназии, которая занималась со мной русским языком. Благодаря Марии Марковне я сдала ЕГЭ по русскому языку на четверку. И это было настолько невероятно, что мой отец сказал: «Я не верю. Они перепутали результаты, или мама тебе купила этот экзамен».
– Неужели купила?!
– Мама? Да никогда в жизни бы мама не купила мне никакого экзамена. Я сама написала русский язык на четверку, и это была одна из самых громких побед в моей жизни.
– Что конкретно эта Мария Марковна с тобой проделала, чтобы ты достигла таких успехов?
– Ну во-первых, она не была уверена ни в том, что я отстающая, ни в том, что я ленюсь – то есть не следовала ни одному из распространенных стереотипов нашего образования. Она придумывала для меня самые разные способы освоения правил русского языка и расширения словарного запаса: понятные таблички, необычные задания, рифмы. А еще у нее была куча терпения. Именно тогда я поняла, что могу намного больше, и это было новое, потрясающее ощущение.
Ты понимаешь, какое количество таких детей, как я, могли бы раскрыть себя, проявить, если бы к ним умели найти подход? Потому что это, конечно, пока преувеличение, но ученые, изучающие дислексию, заявляют, что «дислексия – это дар», они пишут статьи про то, как удивительно устроен мозг людей с дислексией или другими трудностями обучения, какие преимущества это может дать обществу. В мире уже существуют программы поддержки для людей с трудностями обучения, начиная с нулевых классов, где оказывают не только помощь в освоении чтения, письма, счета, но и развивают их нейропреимущества. Когда учитываются образовательные потребности каждого ребенка, у всех есть шанс на академический успех и возможность раскрыть свой талант.
– Как это работает?
– Самая распространенная в мире помощь, закрепленная законом, – это специальные условия для сдачи экзаменов и соответствующие критерии оценки. В Штатах, в Британии, во многих странах Европы и даже Азии детям с дислексией предоставляют 20–30 % дополнительного времени на экзамене, который, если им надо, они могут писать в отдельном классе или на компьютере. А у нас в школе до сих пор сдают чтение на скорость! А это для таких учеников ужасный стресс, который всё усугубляет.
– Поэтому ты училась за границей?
– Я училась за границей потому, что мои родители понимали, что только там знают, что такое обучение человека с дислексией. Например, в моем лондонском университете был disability centre – бесплатный центр поддержки студентов с дислексией и другими особенностями развития. Там при поступлении можно было пройти диагностику и получить комплексную поддержку, включая нужные условия для сдачи экзаменов. Это мне очень помогало. В России, боюсь, меня ждал бы очередной раунд унижений. И я бы никогда не написала работу, которую опубликовали в научном журнале.
– А ты написала такую, которую опубликовали?
– Да. Расскажи ты об этом моим учителям в началке, они бы в жизни не поверили. А я окончила университет и получила научный Bachelor of Honours. Это была тотальная победа. Потом я получила очень престижную работу.
– Твое первое место работы после университета – «Михайлов и партнеры». Тебя туда взяли по блату?
– Блат был в том, что резюме через мою подругу попало на стол HR-менеджера этого коммуникационного агентства. Дальше был месяц собеседований, тестовых заданий, потом меня взяли, сначала ассистентом, потом менеджером – как сейчас понимаю, в самый правильный для меня отдел, отдел PR. У меня был мощный опыт и крутые коллеги-учителя, интересные проекты, возможность проявлять свои сильные стороны. После окончания моего испытательного срока состоялась традиционная беседа с начальством для оценки моей работы. Жалко, не сохранилось видео этой беседы – мне кажется, это был момент рекордного повышения моей самооценки.
Я не выдерживаю, привожу примеры из своей жизни: я не могу слушать радиопередачи и подкасты: не воспринимаю информацию на слух, очень медленно, раз в десять медленнее мужа и друзей, читаю. Я постоянно забываю вещи – в аэропортах, магазинах, автобусах – везде. Постоянно опаздываю. Маша кивает и улыбается. Я рассказываю историю: мой старший сын Гоша вертится в самолете с телефоном в руках, спрашивает: «Мама, где север?»; мы пытаемся по полетной карте определить – где. Гоша снова вертится, чертыхается; в конце концов спрашиваю его: «А зачем тебе север?», отвечает: «Тут написано, что для продолжения игры необходимо подключиться к северу»; слово «сервер» он читал так быстро, как читают дислектики, буква «р» – пропала. Я вдруг чувствую себя на приеме у психолога и рассказываю Маше обо всех проблемах сына в школе – об агрессии учительницы, связанной с тем, что ему всегда надо больше времени на выполнение задания, о невозможности сосредоточиться, но при этом – о замечательных способностях, которые проявляются в занятиях один на один. Маша показывает мне несколько тестов, говорит, что торопить детей с дислексией нельзя, антипедагогично. Говорит о приемах и способах помощи таким детям. Ловлю себя на том, что теперь беру это интервью еще и для того, чтобы его прочла Гошина учительница, чтобы прочли родители таких детей, как мой сын. Чтобы было полезно.
– Когда ты поняла, что хочешь помогать таким, как ты, детям с дислексией и их родителям?
– Поняла-то я это довольно давно. Но видимо, нужно было время, чтобы сложился определенный пазл. Зная свой характер и свою биографию, я отдавала себе отчет: если займусь трудностями обучения в России, ничем хорошим это не кончится, скорее всего, дислексию объявят каким-нибудь западным выдуманным синдромом, а меня с моим фондом – иностранным агентом[21]. Максимум, на что я надеялась, – создать консалтинговую компанию, которая привозила бы в Россию западных специалистов и помогала частным школам выстраивать программы поддержки. Но без комплексных решений, включая законодательные проекты, систему не изменить. Так что хорошо, что я не начала действовать по «своему» плану и не потратила время зря. Потому что потом я встретила Марию Михайловну Пиотровскую, и всё встало на свои места.
– В каком смысле? Как вы познакомились?
– Ты не поверишь: мы вместе давали интервью журналу «Татлер».
– Смешно.
– Да нет, всё было предельно серьезно: журналисты обратились ко мне с идеей посвятить дислексии номер детского приложения «Татлер». Я ответила, что на их месте не делала бы из дислексии тему номера, потому что тогда журнал никто не купит. Меня внимательно выслушали, отыскали мне в пару Марию Пиотровскую, проинтервьюировали еще нескольких специалистов Ассоциации родителей и детей с дислексией – получился хороший материал. А потом Ассоциация пригласила меня на деловой завтрак.
– Деловой завтрак дислектиков? Звучит как начало сценарной заявки какой-то комедии.
– Ну нет, в этом нет никакой комедии. Завтрак как завтрак. Но для меня он оказался поворотным моментом в жизни: мы лично познакомились с Пиотровской, вцепились друг в друга, и уже никто не смог нас разлучить. Так мы стали вместе работать.
– Мария Пиотровская тоже страдает дислексией?
– Нет, но у нее есть дочь – тинейджер с дислексией; чтобы помочь своей дочке, Маша бросила успешнейшую карьеру финансиста и углубилась в изучение трудностей обучения.
– Но еще до этого ты стала первым – и пока что единственным в России – дислектиком с каминг-аутом. Как это повлияло на отношение к тебе людей?
– Ты знаешь, почти никак, кроме того, что огромное количество таких же, как я, людей с дислексией или родителей детей с трудностями обучения почти круглосуточно обращаются ко мне с вопросом, как быть и что может помочь. Как вариант, спрашивают, что помогло мне.
– Что ты отвечаешь?
– Рассказываю о своем опыте, о том, что меня – нас всех – спас индивидуальный подход к обучению в частной школе и в музыкальной школе. О том, что вплоть до университета у меня всегда была поддержка максимально толерантной к трудностям обучения среды, что в Москве было непросто. Что я освоила языки, искусства и неплохо сдала госэкзамены.
Короче, мы победили. Вот этим опытом победы я готова делиться. И очень круто, что я уже не одна – в последний год немало успешных людей, родителей сделали этот, как ты выражаешься, каминг-аут.
Но было бы еще круче, если бы количество каминг-аутов известных людей о дислексии в их семьях вдруг выросло в разы. Я мечтаю, чтобы о своей дислексии открыто говорили политики, многие из которых подходят ко мне и потихоньку делятся своими секретами, артисты, журналисты, известные общественные деятели. Потому что пока все эти откровения не носят публичного характера.
Я недавно чуть не разрыдалась, когда один очень известный и влиятельный олигарх сказал мне на ушко, что у него и у всей его семьи дислексия. Спрашиваю: «А можно о вас в интервью рассказать?» – «Что ты, что ты», – замахал руками. И это обидно. Дислексия – это не стыдный диагноз. Это особенность, с которой даже интереснее, как мне кажется, жить, но пока нам надо сделать так, чтобы люди с такой особенностью были приняты обществом.
Это сильно бы облегчило жизнь нашей Ассоциации. Потому что проблемы и решения у всех людей с трудностями обучения разные, а схожее у нас одно – это засевшая в памяти реакция взрослых на наши трудности и жуткие фразы, которые передаются из поколения в поколение и застревают в мозгу.
– О каких фразах речь?
– «Будешь так писать/читать – будешь улицы подметать», «Смотрю в книгу – вижу фигу», «Читай/пиши внимательно!», «Ты просто ленишься, я знаю, ты можешь», «Ты мало занимаешься дома», «Даже Петя в первом классе может написать это без ошибок», «Я буду ставить тебе двойки за грязь в тетради, и ты быстро научишься». Всё это загоняет проблему глубже и глубже и никак не способствует ее решению. Ребенок не знает, что с ним не так, не понимает, что у него особые образовательные потребности, что у него есть право на другое отношение к нему и к его трудностям. Ребенок не может знать, что его учитель некомпетентен, раз не видит типичных «логопедических ошибок», а его семья – одна из миллионов неосведомленных семей, раз вслед за учителем повторяет: «Надо больше заниматься!»
Ребенок действительно начинает считать, что он «хуже всех» и «ни на что не годен». И мотивация – даже самые ее капельки – пропадает: «Я всё равно никогда не смогу это сделать», «Я занимаюсь, учу, а всё равно не могу». И после каждого родительского собрания такой ребенок будет обещать, что станет лучше учиться, и при этом чувствовать, что только подводит всех вокруг. Кстати, если говорить о моей семье, то знаешь, чем они мне помогли больше всего? Они всё время подчеркивали, что у меня есть другие победы.
– Например?
– Как только они видели, что меня что-то увлекает, что мне что-то хотя бы минимально нравится, они вбухивали туда все возможные силы, средства и прочее – вплоть до возможности оказаться на бродвейской сцене, например.
– Ты мечтала о Бродвее?
– Если по-честному, то поначалу это была несвершившаяся мамина мечта: петь и танцевать. Но меня эта история захватила, и я по сей день чувствую потребность играть и петь.
В детстве, когда у меня начинали проявляться способности такого рода, мама очень воодушевлялась: так в моей жизни появлялись самые разнообразные, иногда даже невероятные занятия типа фламенко. Короче говоря, что угодно, лишь бы «Маше было интересно».
– Надолго хватало?
– Когда как. Интереса к фламенко хватило на полтора года и пару севильян – совсем не про мой темперамент танец: там сложная работа рук одновременно с чечеткой. Но эта история стала важным рубежом: за то короткое время, что я им занималась, окончательно поняла, что мне тяжело в группах, я не могу сконцентрироваться, не успеваю, у меня свой темп – где-то медленнее, где-то, наоборот, быстрее. Вот тогда мы как раз вступили в эру бесконечных индивидуальных занятий: иностранными языками и фортепиано с вокалом.
– Объясни, как именно это помогало?
– Я была защищена. Вокруг меня была создана среда, в которой у меня был свой план, учитывающий мои индивидуальные «трудности обучения»: способности, потребности, умения и неумения. Это позволяло не зацикливаться на том, что мой результат не похож на чей-то другой, и подводило к пониманию того, что приближенность моих результатов к чьим-то другим или к каким-то стандартным – не самая важная штука в жизни.
– Теперь, когда ты всем этим занимаешься профессионально, можешь по-научному объяснить, что на самом деле такое «трудности обучения»?
– Это нейропсихологические особенности развития, которые есть у каждого пятого человека на Земле. Они проявляются крайне индивидуально и в разной степени. Большинство людей полагают, что дислексия (и ее производные типа дисграфии, дискалькулии и так далее) сводится к неумению читать и писать, но это не так. Люди с дислексией сталкиваются и с другими сложностями.
Очень важно понимать, что трудности обучения никак не связаны с их низким IQ. Наоборот, считается, что у таких людей активно задействовано правое полушарие, им под силу видеть нестандартные решения или у них высокий EQ (эмоциональный интеллект), развитое образное мышление и другие преимущества, которые надо применять и развивать дальше.
Как правило, у ребенка с дислексией слабые организационные навыки, есть проблемы с выполнением последовательных действий, есть сложности с определением времени на часах, такие дети часто путают дни недели или времена года. Еще бывает так, что ребенок с дислексией быстро устает при чтении, может тереть глаза, держать слишком близко книгу, путать и пропускать буквы, а иногда даже пропускать слова, перепрыгивать предложения или абзацы. Дело просто в том, что у ребенка или взрослого с дислексией чтение оказывает в четыре-пять раз больше нагрузки на мозг, чем у нейротипичного – то есть обычного – человека.
– Хорошо, теперь давай простыми словами.
– Попробую. Смотри, у нас, людей с дислексией, развито образное мышление, а значит, мы запоминаем, как написано каждое конкретное слово. Когда мы читаем слово, мозг ищет его в «словаре», и если не находит, то мы пытаемся распознать порядок букв и подобрать фонетическое значение. В итоге, когда мы сталкиваемся с незнакомым текстом, то, как правило, вначале просто не можем понять, в каком порядке стоят эти буквы, а тут еще надо звуки правильные подобрать!
– Я сейчас себе представила. Ужас.
– Вот именно. А теперь представь, что пока ты пытаешься это сделать, над тобой стоит учительница и орет: «Ты что, Гордеева, совсем тупая (обленилась, ничего не соображаешь, не хочешь, как все, работать, одно простое предложение прочесть не можешь)?» А потом она же – эта учительница – при тебе говорит твоим родителям, что ты читаешь совсем мало слов в минуту и вообще не тянешь. В этот момент лучше умереть, честно.
Потому что нет рядом никого, кто скажет тебе, что всё это ерунда, что двадцать, а то и больше процентов людей вокруг тебя видят и слышат с какими-то отклонениями от того, что принято считать нормой. И что гениальность – это тоже отклонение от нормы.
У детей с трудностями обучения есть проблемы со скоростью обработки информации и запоминанием: трудно строить сложные предложения с законченной мыслью. Люди с дислексией лучше запоминают информацию, если она представлена в виде наглядных примеров или историй, а не абстрактных рассуждений. Дети с дислексией, скорее всего, будут лучше помнить, кто и что подарил двоюродной сестре на день рождения два года назад и что на ней в этот день было надето, чем свое расписание уроков. Они совершенно точно знают, как устроен круговорот воды в природе или двигатель внутреннего сгорания, но им сложно писать на одной линейке все буквы одинакового размера или решать примеры «в цепочку».
А ты знаешь, что сказки Ганса Христиана Андерсена, у которого также была дислексия, в свое время отказывались печатать из-за огромного количества ошибок и плохого почерка? И вот этот плохой почерк, как и рассеянность или неуклюжесть, в людях с трудностями обучения пытаются перевоспитать или исправить с помощью дисциплины, совершенно не понимая, что это невозможно.
– Но послушай, сторонники дисциплины скажут тебе: это обычная распущенность. Мне так говорят, например: я раза два в месяц теряю все свои документы и всегда находится добрый человек, который скажет, что надо просто быть внимательнее и взять себя в руки. И я тоже думаю: пора бы взять. Но ничего не выходит. Я – человек с трудностями обучения или просто без навыков самодисциплины?
– Знаешь, Мария Пиотровская только недавно поняла, что у нее самой (а не только у дочки) есть трудности обучения, когда я обратила ее внимание на то, что она постоянно, когда что-то пьет – чай или морс – на себя проливает, не может освоить велосипед, регулярно допускает ошибки в СМС и письмах, часто задевает плечом косяк двери, да и вообще ее движения полны всяких неуклюжестей.
– И что это значит?
– Это значит, что у нее пространственно-моторные проблемы. Мы начали копаться в ее детстве, спрашивать ее папу, Михаила Борисовича Пиотровского, и поняли, что да, действительно, у нее в детстве были проблемы с завязыванием шнурков, с заучиванием стихотворений и другие признаки трудностей обучения, которые вовремя скомпенсировались в том, что касается чтения. То есть с чтением проблем у нее нет, но сохранились другие.
– Значит ли это, что мы теперь будем таким образом оправдывать любые странности?
– Мы просто теперь сможем назвать всё своими именами. Это мы не распущенность оправдываем, это мы помогаем человеку – и окружающему его обществу – принять себя и понять свои особенности, а также найти помощь, если она требуется. На сайте нашей Ассоциации перечислены признаки трудностей обучения, в соцсетях и статьях мы часто о них пишем, и в ответ к нам нон-стоп обращаются с просьбой порекомендовать профильного специалиста, репетиторов, школу с толерантным отношением к таким трудностям и кучей других вопросов. Мы всем помогаем, насколько нам позволяют ресурсы, и каждый раз слышу от родителей: «Спасибо, когда я об этом узнала, жить стало легче, оказывается, мы не одни такие».
– Много ли людей к вам обращаются?
– Очень! И не только родители, даже студенты и взрослые просят: «Помогите мне научиться читать. Я до сих пор не могу, и мне стыдно признаться друзьям и собственным детям…» И это не значит, что люди пытаются с нашей помощью оправдать свою леность, нет.
Это просто способ научиться жить со своими особенностями и принять себя таким, какой ты есть: дети, которые не вписываются в методические руководства и «мешают учителям» в школе, потом вырастают во взрослых, уверенных, что они мешают всем на свете. Это чувство никуда не уходит…
Ты постоянно чувствуешь, что опять кому-то портишь статистику или имидж компании, что ты виноват. И хочешь, чтобы тебя простили, например, за орфографическую ошибку в релизе или описку в отчете. Это очень тяжело.
– Что за два года существования удалось сделать вашей Ассоциации?
– Два года – очень мало, если ты занимаешься развитием образовательного проекта. Но что нам объективно удалось, так это заложить фундамент для самостоятельного развития системы поддержки неуспевающих детей на федеральном уровне. Ассоциация – это инициативная группа социальных деятелей, представителей науки, культуры и бизнеса, которые разрабатывают современные системные проекты. Мы, как мостики, соединяем экспертов и организации, которые должны взаимодействовать для того, чтобы ситуация менялась по всей стране и на всех уровнях, а не только в тестовых школах или хорошо финансируемых регионах. За два года работы мы собрали вместе лучших наших ученых и разработали программы просвещения родителей, учителей и профильных специалистов.
Наши эксперты прочитали сотни лекций в Москве, Питере, Казани, Грозном – везде, куда приглашали. И мы поняли, что нужно развиваться в двух направлениях: максимальное просвещение, в том числе и онлайн, и взаимодействие с государством на федеральном уровне.
– Какому проценту людей с трудностями обучения можно помочь?
– Что значит – какому? Всем. Каждому. Потому что если ребенок до школы будет диагностирован, то он, может быть, даже никогда не узнает, что у него есть «проблемы»: ему вовремя назначат необходимые занятия, а родителям и учителям расскажут, как такому ребенку помогать. Это и просто, и сложно, но помочь можно только так. У детей с трудностями было бы намного меньше трудностей, если бы в стране активно начали развивать мультисенсорное обучение.
– А что это?
– Обучение через тот тип восприятия, который близок ребенку. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму» – по-моему, это Конфуций. Но самое главное – не демонстрировать ребенку своего разочарования, не показывать, как вам тяжело с ним, как вы страдаете от его неудач, как это делает большинство родителей неуспевающих учеников.
– Твои родные со временем стали терпимее к твоим особенностям?
– Ты себе не можешь представить, как я начала радоваться, когда мой родной папа перестал, скажем так, резко реагировать на то, что во время семейного обеда всегда, при любых обстоятельствах я что-то переворачиваю, бью или случайно проливаю на стол.
– Он как-то объяснил это?
– Нет, просто стал терпимее к моей неуклюжести и рассеянности. При этом я понимаю, что «стал терпимее» – это очень просто сказать, а стать терпимее – трудно, особенно такому организованному человеку, как папа. Это ведь действительно раздражает, когда человек постоянно что-то забывает, теряет или ломает. Папу, который сам предельно аккуратен, конечно, всё это бесило. И вдруг – он расслабился. Знаешь, какое это счастье, когда ты понимаешь, что тебя приняли! В первый раз, когда отец промолчал при виде очередного перевернутого мною бокала, я замерла. Сижу, жду реакции, а он: «Мусевич, ну чего ты?» И я такая: «Пап, это самая крутая реакция, которая у тебя была в жизни на мою неуклюжесть: “Мусевич, ну чего ты?”»
– Папино принятие больше связано с тем, что он устал с тобой бороться и понял, что тебя не переделать, или с тем, что он работал над собой: читал, изучал диагноз?
– Я постоянно родителям про трудности обучения читаю или рассказываю. Но папа, скорее, относится к людям, которые считают, что это выдуманное оправдание для тех, кто не может взять себя в руки. Мне кажется, он до конца в диагнозы не верит.
– А мама?
– У нее другая крайность: она всё читает, всем интересуется, но любую информацию всегда переводит на себя. «Ну конечно, я плохая мать, если я не смогла тебе дать то, дать это…» – говорит она, если мы обсуждаем какие-то современные способы адаптации детей с неуспеваемостью. Если же я начинаю, например, рассказывать ей про то, что дислексия и дисграфия часто развиваются у детей в бедных и социально неблагополучных семьях, потому что они не имеют доступа к людям с развитым словарным запасом, мало читают, мало видят нового и так далее, она возмущается: «Но у тебя же не было такого!» То есть она до сих пор очень сильно рефлексирует, что сделала что-то не так.
– Ты тоже так считаешь?
– Нет, я так не считаю. Я считаю, что у меня была лучшая поддержка, учитывая обстоятельства, в которых моя семья столкнулась с моими проблемами.
– Ты маме об этом говоришь?
– Конечно. Я много раз с ней это обсуждала. Но как только мама в очередной раз понимает, что в моем детстве у нее не было достаточных знаний о том, как надо общаться с таким, как я, ребенком, ей становится обидно, она бушует. Поэтому я, если честно, стараюсь сейчас поменьше ее посвящать в новые методы поддержки и рассказывать про то, что Ассоциация делает, чтобы она лишний раз не разочаровывалась. Ей и так досталось сполна.
Родители ведь всегда сами – пострадавшая сторона. Школа, эта сложившаяся система, пугает их рассказами о будущем, ругает, что ребенок не такой, как остальные, и в конце концов переносит на них всю ответственность. Тех, кто способен спокойно и уверенно противостоять такому, – единицы. Помнишь историю про [изобретателя Томаса] Эдисона, которого выперли из школы с запиской, что он идиот и школа отказывается его учить, а мама прочла ему эту записку вслух так, что выходило, что он гений, а в школе просто нет таких талантливых учителей, чтобы ему соответствовать? Сколько таких мам?
Сколько вообще людей, которые понимают, что мы имеем дело с особенностью восприятия информации, генетически заложенной, как цвет глаз или волос. Что такая же особенность есть, к примеру, у Билла Гейтса или Тома Круза. Ее обладатель, скорее всего, будет более креативен, чем другие дети, а возможно, даже вырастет гением. А может, и нет. Но главное – эту особенность нельзя изменить воспитанием. А вот испортить жизнь ее обладателю можно легко.
Это интервью, опубликованное в интернет-издании «Правмир» 18 марта 2019 года, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Его прочли больше миллиона человек. Комментарии и письма, присланные мне – а их было больше тысячи, – стали настоящим коллективным каминг-аутом, возможностью выговориться для людей, прежде думавших, что с ними или их детьми что-то не так. Не имея возможности спросить каждого о разрешении на публикацию, я приведу лишь некоторые, подписав инициалами:
Елена П. У каждого человека своя история, свои особенности и свои боли. Одна из моих «болей» схожа с чувствами Марии Парфёновой, дочери известных и талантливых родителей. Постоянное ощущение, что ты не дотягиваешь до высокого уровня членов своей семьи. Окружение, которое транслировало, что как «такая, как я» могла родиться у таких умных людей. Зачем я это пишу? Затем, чтобы те, кто сейчас сталкивается с похожей ситуацией у своих детей, знали такие слова, как «дислексия» и «дисграфия». Знали, что с этим можно и нужно работать.
Дмитрий Б. Я, конечно, когда-нибудь напишу о том аде в который можно попасть в школе: о том, как можно остаться там на второй год при почти стопроцентной посещаемости, о том, как идешь туда, а домой возвращаться не хочешь, о том, как «Бородино» Лермонтова можно учить наизусть всю ночь, но ничего не запомнить и вообще ничего не понять, о том, как с первой парты ты смотришь на доску, на которой тебе что-то пытаются изобразить и объяснить, но ты ничего вообще не понимаешь, о том, как читаешь параграф несколько раз, а каждый раз кто-то невидимым ластиком стирает его в настоящем времени, о том, как голову там разрывает от того, что у всех всё выходит, а у тебя нет. И о том, как в 29 лет ты всё еще стесняешься своего почерка и записную книжку стараешься не держать открытой, когда кто-то рядом, а на любой поздравительной открытке просто рисуешь сердечко, а ниже подпись. О том, как вообще не сломаться и зацепиться за что-то важное и интересное для тебя. Я напишу когда-то об этом и многом другом – благодаря этому интервью с Машей. Я больше не боюсь.
Татьяна К. Я практически рыдала над прочитанным. В этом ужасе школьной системы я и моя дочь живем уже пару лет. Как отличница в прошлом, я прошла все стадии от недопонимания, гнева, принуждения, самобичевания, депрессии, апатии, смирения до попыток как-то адаптироваться к этому.
Ольга В. Как мама такого ребёнка могу подтвердить, как это трудно пройти с ним все школьные испытания. Нужно изменение на общественном и, может быть, даже на законодательном уровне, чтобы все учителя понимали, что такое дислексия, и знали, как себя вести с такими детьми. Дополнительное время на тестах – это физиологическая необходимость. И обязательно запретить оскорбления таких детей и давление на их родителей со стороны учителей. У меня уже целая копилка перлов, от которых волосы дыбом.
Натан И. И я человек с дислексией! Сколько слез было пролито в школе, когда все мои усилия и старания так и не вознаграждались правописанием и чтением «на время». А изложения и диктанты были сущим адом! В восьмидесятых никто не знал про дислексию. Какое счастье, что я могу сейчас помочь моим детям! Спасибо за материал.
Вера П. Обнимаю вас очень, у моего сына диагностировали дислексию неделю назад, теперь это не просто мои догадки. Стало и легче и тяжелее одновременно. Спасибо вам за рассказ.
Елена Д. У моего младшего была дислексия, но мы тогда и слова такого не знали. Когда ему было 7 лет, одна очень уважаемая учительница, доктор наук и всё такое… сообщила нам с мужем, что он умственно отсталый и его надо отдать в спецшколу. Спасли нашего сына два фактора – во-первых, мы с мужем прекрасно видели, что сын у нас вполне нормальный и даже более чем, например, он с раннего детства очень смешно умел шутить сам и прекрасно понимал юмор, или он замечательно справлялся с лего, или он умел организовать детей на увлекательную ролевую игру и при этом определённо был лидером в детской компании. То есть мы прекрасно видели, что он не умственно отсталый, поэтому «специалист» был послан на фиг. Ну и во-вторых, мы озаботились поиском хороших учителей, и нам повезло – примерно с третьего класса нам наконец попалась замечательная, умная и добрая учительница, очень молодая и без всяких регалий – она поддержала нашего сына и нас, подход у нее был исключительно индивидуальный и это в обычной школе. Это я сейчас понимаю, тогда я думала, что ребёнок просто подрос и выправился. А потом я его перевела в чудесную 91-ю школу, и там всё стало окончательно налаживаться. Но поскольку дислексия, естественно, не проходит, как грипп, то он постоянно занимался дополнительно с многими прекрасными учителями. Сейчас он очень успешен, но время от времени пишет, например, «завтрО».
Светлана Б. Мне ставили четверки по русскому из жалости и уважения к усилиям. И у меня все трое детей дислексики. Хотя трудно не поддаться тому, что «дисциплины не хватает», уже смотрим на всё по-другому. Спасибо, девочки, за интервью.
Интервью четвертое
Наталия Солженицына
Встреча назначена в Доме русского зарубежья Александра Солженицына. Снаружи метет снег. Все входящие приносят с собой по сугробу – на голове и плечах. Топчутся у гардероба. Снег тает, и каждый оказывается в луже. Народу внутри немного, но здание – не мертвое: анонсы выставок, афиши каких-то встреч и семинаров. Она не сказала, где конкретно мы встретимся. Хожу по этажам и заглядываю в комнаты: «Вы не подскажете, где кабинет Наталии Дмитриевны?» – «А это кто?». Потом окажется, что никакого кабинета – а я представляла: будет большой, основательный, с креслом, картинами на стенах и столом, отражающим окружающую красоту, – у нее нет. Мы будем беседовать в холле.
Она входит в туфлях-лодочках на небольшом каблуке, в шубе. Снег на плечах точно того же оттенка, что и ее волосы. Она говорит тихо. Иногда – морщится, если вопрос не касается мужа. Но мы говорим о муже. Правда, она называет его по имени-отчеству и не дает мне никакой возможности сделать шаг в сторону от официального повода нашей встречи: [в 2018 году] Александру Исаевичу Солженицыну сто лет.
– Нормальная цифра с точки зрения читателей, литературы, масштаба истории. Но вы были любимы и любили конкретного, живого человека. Значит, цифра должна и пугать, и отдалять от живой памяти.
– Нет. Меня не пугает и не отдаляет, все эти цифры кажутся условностью. Александр Исаевич был довольно необычным человеком во многих отношениях, в том числе физически. Он был энергичен, силен, молод, невероятен – очень долго. И невозможно было представить ни его старости, ни того, что ему может быть сто лет. Так было довольно долго.
Но потом он заболел. Болел последние пять лет жизни. Но и тогда он выглядел раненым воином, понимаете? Да, старый воин, но ранение – временное: если бы не оно, он был бы так же готов к жизни и битве, ко всему. Так казалось. В девяносто лет его не стало. А мне скоро будет восемьдесят – выравнивается возраст. Но я его помню таким, каким он ушел, он для меня не стареет. Это не связано с цифрами.
– Большие цифры вытесняют живую память: образ великого писателя застывает, покрываясь бронзой.
– Для кого-то – бронзой. Для кого-то – глиной. Бывает и грязь. Он весь облеплен легендами и ярлыками, среди которых есть вполне доброжелательные, но всё равно не слишком правдоподобные, а есть и злонамеренные. Вы правы, если в бронзе застывает неверный образ – это большая проблема, но она создалась не благодаря Солженицыну, а из-за обстоятельств его жизни, из-за КГБ, который целенаправленно запускал клевету, ложь без возможности публично ответить, – в конечном счете всё это стало частью «бодания теленка с дубом». При бодании с таким дубом теленок вынужден быть суровым, а когда-то и казаться суровее, чем был на самом деле.
Но он бывал и другим! В надежном месте, с друзьями, про которых мы точно знали, что они – друзья. Вот тут он шутил, улыбался, смеялся. Но этот образ не стал публичным, к сожалению.
– Друзей, которые его таким видели и помнят, – много?
– В России было очень много. На Западе гораздо меньше. Но и там друзья у нас тоже были. А в России одних только «невидимок», перечисленных в «Теленке», – сто пятнадцать человек. Это много! Это всё люди, с которыми были личные контакты.
– Именно друзья, не соратники?
– Разделения на друзей и соратников тогда не было. Друзья того времени были вовлечены в его работу или осведомлены о ней. С ними он разделял дело всей жизни – донести до людей ту реальность, которая была скрыта, преступно спрятана людоедским режимом.
Мне хочется, чтобы на столе между нами стоял чайник и чашки, чтобы мы пили чай. Чтобы она мне – улыбнулась. Но она предельно строга. Сидит на краешке стула с ровной спиной. И тон ее, и манера поведения не подразумевают никакой личной истории между нами. Я переживаю, что интервью не получится. Или получится – формальным, еще одним пресс-релизом масштабного празднования векового юбилея Солженицына.
Но видно, все мероприятия, что проходят в год столетия ее мужа, для нее – не формальность и не «череда». Каждое – как будто ее личное письмо к нему. Вот, например, выставка в Царицыне «Писатель и тайна».
– Смысл этой выставки – предостережение. «Не ходите, дети, в Африку гулять»: посмотрите, что режим делал с людьми, и давайте вместе построим жизнь так, чтобы никогда больше ни одному пишущему человеку в России не понадобилось делать похоронки и захоронки того, что он пишет.
– Многое ли из того, что Солженицын не смог запомнить или спрятать, было утеряно безвозвратно?
– По счастью, немногое. В лагере бумагу и пишущие средства давали два раза в год, когда по распорядку разрешали писать письма домой. В остальное время разве только случайный клочок попадется. Но даже если умудриться записать на нем какие-то строки, хранить это было нельзя.
Когда он вышел из лагеря в казахстанскую ссылку, то должен был регулярно отмечаться в комендатуре, без разрешения не мог выезжать за границы поселка. Именно тогда всё сочиненное и запомненное в лагере он записал, из головы вынул и положил на бумагу. Но времени и сил ему едва хватало. У него была двойная школьная нагрузка, он жил один, а помощи ждать было неоткуда: отец погиб еще до рождения сына, мать умерла в 44-м, когда он на фронте воевал, жена не дождалась и вышла замуж за другого. Ему было всего тридцать четыре года. И тут его настигли метастазы рака. Вот только он даже не знал, что у него рак!
– Это как?
– Ему вырезали опухоль в лагере, но злокачественная она или нет, он не знал, этого хирург, делавший операцию, не сказал. Самого хирурга на следующий день этапом выслали из лагеря. Он только крикнул в окошко: «Я твой анализ послал в Омск. Запомни!» Он запомнил, но не понял и не знал, зачем это нужно. Но, когда болезнь вернулась, слова хирурга пригодились. В «Раковом корпусе» описана история его исцеления.
– И в этой же ссылке начинается история восстановления и сохранения всего того, что Солженицын решил записать. Как это стало возможно?
– В ссылке он рано вставал и уходил в школу: преподавал физику, математику, астрономию и вел разные кружки. Он любил преподавать, любил школу, она была для него спасением. Но в его отсутствие опер мог зайти в хибарку, осмотреть вещи, найти записи. Надо было их прятать. На учительскую зарплату через некоторое время он смог купить фотоаппарат. Много снимал окружающую жизнь, стариков, детей, колючки степные, что угодно. Фотографировать ему нравилось. Но главное было приучить людей к тому, что он всегда с фотоаппаратом, такой вот увлеченный любитель-фотограф. На самом же деле фотоаппарат был ему нужен, чтобы переснимать рукописи. Пленку ведь легче прятать! Пересняв написанное, он сжигал оригиналы. Поэтому рукописных оригиналов его ранних работ не существует: ни поэмы «Дороженька», ни пьес, ни «В круге первом», который он начал писать в Кок-Тереке. Ни одной рукописи до «Ракового корпуса» не сохранилось. Позже он сам перепечатал все тексты с пленок, так что все ранние вещи теперь существуют в виде авторской машинописи.
Но, знаете, ведь были и другие, более поздние, потери. В 65-м году КГБ устроил обыск у одного из его друзей, точнее, у человека, которому этот друг без ведома Александра Исаевича доверился и у которого держал часть рукописей. А среди них был и «Пир победителей», откровенно антисоветский. С этого момента, с 65-го года, власть окончательно сочла Солженицына врагом, не-ис-пра-ви-мым. Что справедливо. Он действительно был непримиримым врагом большевистского строя.
– Но он – один из немногих, кто вышел из этой схватки победителем. И в творческом смысле, и в духовном.
– Хорошо, что вы так думаете. Хотя, мне кажется, это несколько преждевременно. Да, он вышел победителем той системы, которая владычествовала тогда. Но сказать, что наша страна в своем нынешнем состоянии преодолела страшные стигмы, которые оставил коммунизм, нельзя. У нас они вполне еще цветут.
– В чем вы видите их проявление?
– Откройте интернет – посмотрите, сколько там сайтов неокоммунистических, неокомсомольских. Молодые и старые люди мечтают о возвращении прежнего.
– Распространенность этих идей и их влияние всё же значительно меньше тех, что исходят от правящей сегодня партии и разнообразных ее ответвлений.
– Ошибаетесь! Это вообще нельзя сравнивать. Единороссы – то ли партия, то ли клуб, то ли вообще неизвестно что. От них мало что зависит, и мало чем они управляют в стране. А между тем коммунистические идеи реют всё настойчивее, и они опасны тем, что дают ложные ответы на совершенно справедливое негодование людей. Это негодование имеет под собой почву, и не только у нас в стране, где угодно: вся Греция теперь разгуливает под красными знаменами. Какая-нибудь Нигерия тоже разгуливает! Это, кстати, в корне противоречит расхожему на Западе мнению, что коммунизм – порождение русских. Александр Исаевич с этим постоянно спорил, спрашивая: так вы против коммунизма или против России как таковой? Но – «угодило зернышко промеж двух жерновов» – на Родине он не устраивал коммунистов и на Западе не угодил: его сочли русским националистом, поскольку он защищал историческую Россию, говоря, что нелепо считать камбоджийский, или вьетнамский, или еще чей-нибудь коммунизм порождением Ивана Грозного. Но его оппоненты настаивали: коммунизм – русская практика, он органичен имено для русского народа. Вроде как русские – такой отдельный рабский народ, который хочет над собой кнута и для которого только такой способ устройства жизни и возможен. Вполне расистский взгляд.
– С тем, что в России довольно многие скучают по сильной руке, не поспоришь.
– Да, русские, будучи в высшей степени и многогранно талантливым народом, к сожалению, мало способны к самоорганизации. Вероятно, это следствие природных свойств и исторических особенностей. Пространства огромные, климат суровый. Выживание на таких просторах и в таком климате требует, наверное, более жесткой организации, чем каждый человек хотел бы над собой учредить. В северных странах, в Англии, Норвегии, Швеции, как мы знаем, сохранились королевы и короли. Да, они теперь не управляют политической жизнью. Но это не просто рудимент, зачем-то они своим странам нужны.
– Вашу мысль можно продолжить таким образом, что раз где-то хороша монархия, то, возможно, каким-то странам зачем-то нужен и очень подходит коммунизм.
– Нельзя продолжить таким образом. Коммунизм никому не подходит, в его идее заложен обман. Он декларирует и обещает такое равенство, которое невозможно. Люди рождаются неравными. Делать их равными, следуя коммунистической логике, означает: каждому, кто над строем возвышается, отсекать либо ноги, либо голову. И достаток у людей не может быть равным, потому что один способный, а другой неспособный, и обстоятельства у всех разные.
Правильное равенство – это равенство перед законом. Такое действительно необходимо каждому родившемуся человеку. И оно должно быть обеспечено. Но уж при коммунизме справедливого суда ждать не приходится, это наша недавняя история доказала.
Коммунизм вообще – страшная штука, он требует от людей не только дисциплины, физического подчинения, всех сил, ума, таланта и неустанной работы. Нет. Сверх всего этого коммунизм требует душу. В этом различие тоталитарной власти и авторитарной: тоталитарная требует еще и душу, авторитарная – только подчинения.
– То есть выбирая из двух зол…
– Это даже смешно – выбирать! Они рядом не стояли. Тоталитаризм – это значит не просто молчать, зная, что твоего невинного брата, или соседа, или друга закатали, но еще и аплодировать на общем собрании и кричать: «Собаке – собачья смерть!» И быть одного со всеми мнения, а другое нигде никогда не высказывать. Такого ни в какой Англии, ни при каком Кромвеле не было – нигде не было.
И сегодня многие наши трудности – из-за родовых пятен семидесятипятилетнего тоталитаризма, который одних растлил, в других вселил позвоночный страх, и это в нескольких поколениях. Но и это не все: он исказил историю и спрятал ее от нас, не допуская никаких дискуссий по существу. С момента разгона сто лет назад Учредительного собрания до сегодняшнего дня у нас не было и нет настоящего парламента.
– Справедливости ради: и последний Съезд народных депутатов 1991 года, и Дума первых созывов девяностых подразумевали, как тогда говорили, плюрализм. Дискуссии там велись жаркие.
– Только не о главных вопросах государственного устройства и национального бытия. Да и то было недолго. Нынешняя Дума и ее депутаты не представляют общественного интереса. От них за редким, частным исключением – кому-то помочь с жильем или лечением – ничего не зависит. Это тупик.
– В 1994 году, когда вы с Солженицыным возвращались в Россию, была надежда на то, что всё будет иначе. Никто не мог представить себе, что вместо логичного движения вперед будет сделан шаг назад.
– Вполне можно было представить. Не бывает исторического развития по прямой, всякое развитие идет петлями. А петля на каком-то этапе имеет обратное направление движения.
– Вы в это верите?
– Это не вопрос веры, это факт. Посмотрите на Польшу или Чехословакию, да где угодно – там тоже история сделала петлю: избрали опять коммунистов, просто у них коммунисты немного другие.
– Но у нас-то не избрали. Наоборот, сделали все, чтобы в 96-м не избрать.
– В 96-м и у нас избрали. А сделали всё, чтобы это скрыть, не признать. И мы видим, как участвовавшая тогда в манипуляции с выборами «говорящая» и близко стоявшая к власти часть общества всё дальше и дальше отрывается от неговорящей части. На ней огромная ответственность.
– А сама власть, выходит, опять ни при чем?
– Власть всегда при чем, всегда больше ответственна, чем рядовые люди. У власти бо́льшая возможность маневра, чем у общества. И хотя бы только поэтому власть всегда виновата больше. И Николай Второй больше виноват в революции, чем противостоявшее ему общество. Но общество тоже виновато! Виновато в расколе, который длился полтора века и не поддавался никаким разумным компромиссам, виновато во взаимном пафосе разрушения.
Так и сегодня. Во всем, что может плохого произойти, власть будет виновата больше. Но от этого никому не легче, и это не снимает ответственности с нас как граждан.
– Вы часто говорите о губительной силе раскола и необходимости общих переживаний, которые бы нас объединяли. А что считать точкой окончательного раскола? Крым?
– Что вы! Мы давно в расколе, со времен Гражданской войны. Как раз Крым был – для огромной части общества – возможностью пережить общие чувства. Откололась в тот момент совсем небольшая часть. Для большинства же Крым был общей позитивной эмоцией, на которую власть какое-то время очень опиралась.
Потому что прежде опираться особо было не на что: в девяностые под тяжестью внезапных перемен общество атомизировалось, люди перестали поддерживать друг друга, помогать, каждый вдруг начал выживать сам по себе; дети стали упрекать родителей, что у соседей вон квартира-машина, потому что «их отец правильно жил и сумел устроиться», а мы вот всё по-старому, потому и в нищете; люди перестали ходить друг к другу в гости. Перестали знать друг о друге и хотеть что-то знать. Слава богу, эта ушибленность проходит постепенно. И обретается понимание, что одними деньгами счастья не купишь. Как-то возвращаемся в человечество постепенно. Но ироническое выражение «за державу обидно» на самом деле имеет вовсе не ироническую подоплеку, это чувство по-прежнему не утолено. Поэтому Крым и был воспринят так бурно-радостно: это было ощущение справедливости, потому что, конечно, Крым – это Россия. Исторически он чей угодно – турецкий, греческий, хазарский, но не украинский! Это уж каждому ясно, в том числе нормальным украинцам. Другое дело, что юридически это было сделано, очевидно, с нарушением правил. Но эти нарушения были заложены в момент распада СССР, в девяностые годы. И кстати, Солженицын об этом тогда говорил публично. И Ельцину писал письмо (оно опубликовано и известно), что разделение страны по ленинским границам может очень тяжко сказаться в близком будущем. Ведь эти границы были искусственно нарезаны в 1922 году большевиками из соображений сохранения своей власти. И поскольку мы от этой власти уходим, то мы не должны считать эти границы священными и не можем признавать их без юридических оговорок. Это просто опасно!
Тогда на него вся наша интеллигенция окрысилась невероятно, и первой Елена Георгиевна Боннэр, царствие ей небесное, закричала: «Что вы, что вы! Сейчас невозможно даже шепотом такое произносить. Замолчите, Солженицын! Замолчите, потому что это может привести к югославскому варианту».
Не прошло и двадцати лет, как Россия вернула Крым под ликование своих граждан. Да, были нарушения международного права. Но кто в этом разбирается из граждан? У нас граждане в собственных счетах не разбираются, какое уж тут международное право. К тому же оно в мире нарушается то и дело. Сейчас Турция вторглась в Сирию, нарушив всякое право, и ни Америка, и никто, кроме Сирии, не называет это агрессией.
Ей звонит сын. Она улыбается. Она – умеет улыбаться. По разговору понятно – это Игнат[23]. Тот, что пианист и дирижер. Понимаю по тому, что она спрашивает, как прошел концерт. И голос у нее меняется. Обсуждают детей и планы на вечер. Кладет трубку. Извиняется.
Мимо проходят люди, интересуются, как найти какой-то кабинет, где находится туалет. Она отвечает. Третья из проходящих мимо наконец признает Солженицыну и предлагает продолжить интервью у нее, например, в кабинете. Наталия Дмитриевна отказывается: «Мы здесь и так довольно уютно устроились».
– В день рождения Солженицына, в день его столетия, в Москве была открыта мемориальная доска на доме, где вы жили, где родились все ваши «солженята» – трое, один за другим, сыновей, где в 1974 году Александра Исаевича арестовали и откуда его выслали. По идее, там же должна быть открыта мемориальная квартира?
– По идее, да. Но с этим много трудностей.
– Вы помните ту вашу повседневную жизнь в бытовом плане?
– Разумеется.
– В деталях?
– В каких-то деталях, да, тоже.
– Что это за детали?
– Ну, скажем, ящичек, который стоял у нас в прихожей, с гуталином и щетками, которыми мы действительно чистили обувь. Но в ящике было двойное дно, куда мы засовывали те рукописи, над которыми Александр Исаевич в данный момент работал. Много рукописей дома хранить было невозможно, всё хранилось у друзей, по разным адресам. Но нужное для работы было при себе, и, если все уходили из дома, мы не оставляли их открытыми на столе. У нас было два таких ящичка, он еще из ссылки их привез.
– Из сегодняшнего дня вся эта конспирация может показаться…
– Удивительной?
– Скорее, преувеличенной.
– Нет. Она не была преувеличенной. Если бы это было найдено [в ссылке], он тут же получил бы второй срок. Сразу, понимаете? Потому что он писал на лагерные темы, а при советской власти это считалось антисоветским занятием. И из второго срока он, возможно, не вернулся бы. Но главное – погибла бы сама работа. И это волновало его больше всего. И позже, в наши совместные годы, прятали от обыска еще не опубликованные работы. Обыски же то у одних, то у других были постоянной реальностью.
– Насколько вы сами тогда свыклись с чувством постоянного страха?
– У меня не было страха вплоть до самой развязки. А в 1973-м и начале 1974-го угрожали уже прямо – и Александру Исаевичу, и семье. Стало страшно за детей. Шла серьезная травля. У нас даже сохранились записки с прямыми угрозами, опускали в почтовый ящик.
– Кто это писал?
– КГБ, конечно.
– То есть не соседи?
– Ну что вы, какие соседи? В это время вокруг уже были нормальные люди, которые, скорее, переживали за нас. Кто-то не боялся и поддерживал, а кто-то, конечно, боялся, но находил способ выразить сочувствие. И таких – по крайней мере в Москве – было большинство. Но вот вы спросили: было ли страшно? Понимаете, мы были готовы – и он, и я – к самому худшему повороту событий. Если не быть готовым, нельзя ступать в брод. Было ясно, что всё может кончиться очень плохо. В этот момент ты решаешь: либо продолжать, либо отступать. Отступать – это всегда смертельный номер. Если такой мощный враг чувствует слабость, он дожует тебя. И дожует очень быстро. Значит, путь был только один: идти до конца. При этом «конец», как вы понимаете, определяем не мы. Наш вклад – это твердость и готовность к концу. И вот когда они ощущают эту готовность идти до конца, наша позиция становится очень сильной.
Разумеется, тогда мы никаких теорий не строили. Исход был во многом вопросом личных качеств и умения владеть собой. Если у тебя «заячье сердце», выход один: скрепить сердце разумом и идти вперед. Если тебе это удается, то ты даже больший герой, чем тот, у кого не «заячье сердце», кто и с самого начала не так уж боится.
У нас обоих, наверное, было не «заячье сердце». Но я понимала, что его могут убить. Что всё может кончиться трагически.
– Неужели ни разу не дрогнул у вас голос попросить его замереть, затаиться? Четверо маленьких детей – аргумент.
– Что значит «затаиться»? Не писать? Но всё уже было написано: и «Архипелаг», и «В круге первом». Да, написано втайне, но еще до «Архипелага» они сочли его врагом. А «Архипелаг» – это просто голова на плаху.
И что значит «не пиши»? Это просто смешно, потому что он не мог не писать, он для этого, очевидно, был рожден. Это – во-первых. Во-вторых, это ничего бы не изменило. В-третьих, наш союз с самого начала был построен именно на том, что мы одинаково понимали задачу: не самому сохраниться, а сохранить написанное. Донести до людей. И он – писал. А я устраивала всё это хранение, чтобы у него голова была свободна.
– Вы влюбились в него сразу по-женски, без оглядки? Или сперва было понимание, что это великий писатель?
– Как в писателя я, конечно, в него влюбилась ровно так же, как многие, кто прочитал в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год «Один день Ивана Денисовича». Мне было сразу понятно, что это огромный писатель. Но мы не были знакомы. Хотя удивительным образом с разницей в двадцать лет у нас были довольно похожие обстоятельства детства: достаточно суровые, закалившие и сформировавшие каждого. Но к моменту нашего знакомства я довольно мало реального знала о лагерях. Разумеется, я знала о том, что они были, но, как и почти все, я не знала, как на самом деле жили заключенные. Вот этот внутренний быт лагеря был неизвестен. При том что мы с бабушкой много лет отправляли посылки в лагерь моему арестованному деду, а его уже не было на свете.
– В годы реабилитации, кажется, выяснится, что он умер от инфаркта?
– Да. Будучи атлетического здоровья, он умер в лагере в 1943 году. А сидел с 1938-го. Потом написали – от инфаркта. Может, еще от чего-то. Важно, что его уже не было, но нам об этом никто не сообщил. И мы собирали ему посылки, но почему-то отправляли не из Москвы: видимо, бабушка боялась; ездили электричками за сто километров. Тяжело, голодно жили (три женщины: бабушка – неработающий инвалид, мама и я), собирали непортящиеся продукты, зашивали ящик в мешковину, писали чернильным карандашом адрес и ехали, чтобы отправить дедушке. А его уже не было. Но ни одна посылка не вернулась.
Дедушкин арест вкатился в жизнь семьи черной шаровой молнией, но как шла потом его лагерная жизнь, мы плохо представляли. Александр Исаевич был именно тем человеком, который такую жизнь описал. И дальше я читала всё солженицынское, что появлялось в «Новом мире» и в самиздате: и «В круге первом», и «Раковый корпус», и, конечно, была влюблена в него как в писателя. Но это неправильное слово: «влюблена». Я понимала, что он – колоссальное явление литературы и жизни нашей. А познакомила нас Наталья Ивановна Столярова, наш общий близкий друг.
– Как это получилось?
– Александр Исаевич жил в Рязани, но наезжал в Москву, ему нужны были исторические книги и материалы для работы, и нужно было хранить написанное, где-то держать рукописи и рабочие наброски, которых становилось всё больше. Нужны были друзья, которые бы разгрузили его и как-то помогли в этих заботах. Я была одной из тех, кого в помощь ему нашла Наталья Ивановна. И всё произошло стремительно: я впряглась в работу, он мне дал как раз перепечатывать «В круге первом». Я нашла там неточности по линии истории партии, что его очень поразило (а я их нашла потому, что еще в школьные годы с большим интересом читала стенограммы съездов, оставшиеся от деда). И началась очень интенсивная работа и мощное сотрудничество, которое скоро перешло в бурный роман.
– Вы отдавали себе отчет в том, что это та самая любовь – на всю жизнь?
– Не думаю, что я себе это так проговаривала. Но, безусловно, это была именно та любовь, от которой рождаются дети. И которая детьми не кончается.
– У вас восемь внуков от четверых сыновей. Вы часто говорите с ними о дедушке?
– Пятеро из них помнят Александра Исаевича, они его застали. Нет особой нужды как-то специально говорить о дедушке, но вся атмосфера нашей жизни им пропитана.
– Вы хорошая бабушка?
– Плохая. То есть я хорошая бабушка в том смысле, что когда я нахожу на них время, то польза от этого немалая: за несколько лет мы с ними поставили вместе «Ромео и Джульетту», «Двенадцатую ночь», «Сирано де Бержерака» Ростана разучили, но пока не довели до представления. Я сама сокращаю пьесы исходя из величины «труппы», мы разучиваем роли, ставим спектакль. Но я – «работающая бабушка» и занимаюсь с внуками лишь тогда, когда удается быть вместе. А Александр Исаевич был хорошим отцом: он занимался с сыновьями каждый день. Каждый день один час был «школьный»: он обучил сыновей алгебре, геометрии и тригонометрии, физике и астрономии.
– Кричал?
– Нет. Не было нужды. Они были такие дети, на которых – по крайней мере ему – не надо было повышать голос. Я и кричала, и сердилась. Но я касалась другой стороны жизни. К тому же я убеждена, что родительский гнев имеет огромное воспитательное значение. Только важно не делать его обыденным, потому что маленькие дети в такую минуту думают, что всё кончено – они навсегда лишились родительской любви. И это колоссальная трагедия и встряска. И в этот момент можно многое в их понимании и поведении повернуть, исправить. Но, конечно, если это случается часто, то это уже не инструмент.
Все наши мальчики рано выучились читать и вообще рано выучились занимать себя сами: у меня не было времени, я много работала, а никаких телевизоров или других «удержателей внимания» не было. Но были диафильмы, которые мы вместе смотрели каждый вечер. И каждый из детей боролся за то, чтобы именно ему поручили читать подписи. Степа [1973 года рождения] сидел всегда унылый, потому что он был самый младший и понимал, что, когда дорастет до того, что ему поручат читать, старшим уже не будет интересно. Но вышло не так: мы семьей еще смотрели диафильмы, когда подписи уже бегло читал Степа.
– Сколько было мальчикам, когда вас выслали из СССР?
– Степану было шесть месяцев, Игнату – полтора года, старшему из «солженят», Ермолаю, – три года и два месяца. Моему старшему сыну Мите было десять.
– Каждый из «солженят» очевидно успешен в своей области. А это совершенно разные области: урбанистика, управление, музыка. Как вы растили детей, как направляли?
– Мы никогда не направляли их проповедями и нравоучениями. Такого не было даже в мыслях. Но они никогда не видели ни меня, ни Александра Исаевича в безделье. Мы всегда работали. Само собой, безо всяких слов разумелось, что праздность – состояние недолжное, что человек должен постоянно что-то делать для других. Жить только для себя безнравственно. Когда мальчики подросли, я им говорила в полушутку: «Не страшно, если жена будет некрасивая или даже глупая (конечно, лучше, чтобы и красивая, и умная). Страшно, если она будет ленивая и злая». Но, если серьезно, самой главной задачей в изгнании было сохранить русский язык. Они же были младенцами, когда нас выслали, и вокруг них сначала был океан немецкого, а потом – океан английского языка. С этой задачей мы справились. Не только наши дети, но и все внуки говорят, читают и пишут по-русски.
– После смерти Солженицына в общественном сознании вы остались будто ответственной и за себя, и за него. Часто ваши высказывания интерпретируют в духе «вот так бы сказал Солженицын».
– Я категорически не согласна и никогда не отвечаю на вопрос: «А что бы сказал Александр Исаевич?»
– Но ваши ответы так интерпретируют.
– Это уже на совести интерпретирующих. К тому же это и объективно неверно: мы в жизни с ним так много спорили, часто не соглашались. То есть, как он пишет, «позывы к бою у нас всегда сходились» – это правда. В кардинальных, стратегических вещах мы были согласны. Он, например, спрашивал: «Ну и что мы сейчас будем делать?» Я говорю: «Не ввязываемся в драку. Ждем!» Или наоборот: «Надо вступать в бой немедленно». Но по тактическим вещам мы, бывало, расходились. Он был выдающийся стратег, но не столь одаренный тактик.
Однако никакое мое знание Александра Исаевича не позволяет мне за него отвечать на вопросы или додумывать, фантазировать на тему «что бы он сказал». Хотя, разумеется, некоторые вещи я знаю наверняка.
– Например?
– Я совершенно точно знаю, что, увидев, как горят покрышки на Майдане в Киеве в 2014 году, он бы умер. Если бы он до тех пор дожил, он бы умер в ту же ночь. Его дед Захар по материнской линии – украинец. Любимый дед, который погиб в ГПУ в 1932 году, единственный, в общем, мужчина в его жизни (отца не было, другого деда тоже не было). Для деда Захара Саня – обожаемый внук. И Солженицын сохранил память о нем и обо всем, что дед говорил. Александр Исаевич любил украинский язык, Украину. Но никогда не считал украинцев полностью сформировавшимся, отдельным народом, прежде всего потому, что признак народа – это развитая культура. У украинцев изумительные песни, изумительное то, изумительное се, свой быт. Но развитую словесную культуру, литературу им еще предстоит создать. Потому что, кроме Леси Украинки и Тараса Шевченко, ничего пока не создано.
– Ну а как создать, если не оторваться?
– Может, необязательно и создавать, необязательно отрываться? Это две ветви одного народа когда-то. Однако теперь уже – ради Бога: оторвались, создавайте. Но совершенно неправильно, для того чтобы выработать свою культуру, топтать ногами ту, из которой вырос. Они это делают. Необходимость топтать предшественников – верный знак небогатой ветви.
– Считаете ли вы, что части проблем, которые обрушились на постсоветское общество, можно было бы избежать, если бы в 1991-м была не просто распущена, но и запрещена КПСС, а коммунистическая идеология получила государственное осуждение с последующими люстрациями?
– Я считаю, что моральное осуждение коммунизма и запрещение Коммунистической партии были необходимы. Но это не было сделано. Что же касается люстраций, этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Потому сложный, что в нашей стране преступный коммунизм не только убивал своих граждан, но и развращал тех, кого не убивал.
Множество людей фактически принимали сторону палачей, доносили на соседей, предавали друзей – и не потому, что родились плохими. Они были отравлены этой идеологией либо запуганы до потери себя. И вот это преступление, эта порча и калечение душ изуродовали общество. Когда в девяностые открыли архивы и люди могли видеть следственные дела своих близких, некоторые выходили оттуда больными, разрушенными, потому что оказывалось, например, что дружеская семья, которая была вроде действительно дружеской и помогала детям, сама же и участвовала в доносах и тем самым в гибели их родителей. Люди были поставлены в невыносимые условия. Население было растлено. В нашей стране люстрация могла бы стать концом вообще всех.
– Не думаю, что люстраций не было только по этой причине.
– Но их не было. И действие этого подкоммунистического растления продолжается. То, до какой степени у наших людей засверкали «баксы» в глазах и затмили всё остальное, – это тоже последствия многих лет лишения самых обычных бытовых вещей. И это стирает всякие границы, в том числе и нравственные, заставляя выбирать не профессию, которая развивала бы призвание, не дело, которое несло бы пользу, а деньги, которые якобы решают всё. Это ужасные травмы долгого коммунизма. Из-за них мы и капитализм плохо строим. Он у нас хуже, дичее, чем в Восточной Европе, где коммунизм властвовал в два раза меньший срок.
– Когда в 1991 году сносили памятник Дзержинскому, толпа так и осталась на площади, а в здание Лубянки не вошла, документов, которые там хранились, на божий свет не вынесла. Поименно никого из преступников преступниками не назвали.
– Если помните, в то время, когда люди разрушали Берлинскую стену, в Штази жгли документы.
– Ничего такого про Лубянку мы не знаем. Туда никто не пытался войти.
– А если бы и вошли, я думаю, в нашем случае КГБ был защищеннее, чем Штази.
– Мне кажется, момент, когда общество могло изменить будущее, просто говоря о прошлом в полный голос, всё же был. Но его целебность была упущена.
– То десятилетие искренних надежд на светлое будущее было еще и временем фатальных ошибок, которые допустили люди, ставшие в то время капитанами, лидерами страны и общества. Они оказались плохими психологами и никакими не лидерами, потому что лидер обязан уметь видеть мир, в том числе и глазами тех, для кого он – лидер. А они, придя к власти или к полувласти, в упоении новыми возможностями решили, что весь народ знает столько же, сколько они, все читали тот же самиздат, что и они, все, разумеется, хотят перемен, так сказать, по умолчанию. Это было совсем не так. В первую очередь надо было заниматься декоммунизацией, во вторую – созданием реального рынка и конкурентной среды; они же занялись залоговыми аукционами, в результате чего мы и оказались там, где оказались.
– Но выбора становится всё меньше. Путин, например, у власти без малого двадцать лет. И кажется, что конца и края этому нет. Как это можно менять?
– Спокойная, без коллизий, смена власти – это объективно самая трудная задача любой молодой демократии. Да и в зрелой демократии бывает негладко – смотрите, как уже целый год бьется в конвульсиях внутренняя жизнь в США, оттого что кандидат элит проиграл выборы. Но всё равно выборы – это основной инструмент смены власти. Я, например, всегда хожу на выборы. Даже если результат ясен. В предвыборном процессе можно хотя бы познакомиться с альтернативными идеями, если они есть у претендентов. Досадно, что сейчас нет у нас реальных программ, которые публиковали бы партии и их кандидаты. Нечего обсуждать!
– Программы публикуются.
– Да, навстречу выборам. И их никто и не читает. А я вот – читаю. И это по большей части программы «за всё хорошее», за прекрасный результат, но не предлагающие конкретных путей для воплощения их в жизнь. Печально.
Но есть еще местные выборы, которые сейчас во многом даже важнее. И на местах очень даже есть за кого голосовать. Последние московские выборы тоже это показали: есть несколько округов, где выбрали людей, которые реально будут работать, а не для галочки стоять. И на местном уровне уже появляется большая линейка кандидатов, из которой можно выбрать достойных людей. Так ты не поленись, заранее прочитай, кто он, где, что собирается делать, пойди на встречу с ним, расспроси. Это мы можем и должны, это в нашей компетенции. Мы можем повлиять на местные власти, на организацию ежедневной жизни там, где мы живем. Увы, этого люди в массе своей не делают. И это тоже растление со времен советской власти: все привыкли, что от них ничего не зависит, так, значит, и делать ничего не надо. Пусть за нас решают. А зря.
– Вы говорите про граждан. А что должно перемениться на государственном уровне?
– Я не знаю, что нужно и что до́лжно делать на государственном уровне. Это мне не по уму. Но я знаю твердо, что прямая и необходимая задача, стоящая перед каждым, кто хочет своей стране лучшего будущего, – это хорошо воспитывать детей. Своих детей. Воспитывать из них свободных людей, потому что государство всегда старается в первую очередь воспитать послушных граждан, не доставляющих хлопот. Но без свободных людей никогда не будет ни нормального парламента в стране, ни вообще свободной страны. Значит, надо учить детей быть даже в условиях любой несвободы максимально свободными. И с честью, с совестью, с достоинством стараться распространять такое умение вокруг себя. Это просто непреложная задача каждого из нас. Задача трудная, требующая напряжения всей жизни. Не то что я повоспитываю два года, пять, а потом в школу отдам, а через десять выдайте мне, пожалуйста, гражданина. Нет. Так не сработает. И особенно сейчас, когда школа тоже вся в конвульсиях разного рода, а в общественной жизни, контролируемой государством, всё еще масса неизжитых манер публичного и личного поведения из страшных лет нашего прошлого. Словом, эта задача очень трудная, очень личная, очень понятная каждому. Но не каждому понятно, как ее исполнять. Многие хотят сразу участвовать в перестройке государства, и мало кто – в перестройке сознания людей, которые в государстве живут. Но эта перестройка – как раз то, что нам нужнее всего. И на это больше всего времени и уйдет: вырастить свободных и разумных граждан.
Поверьте, это гораздо важнее любой политической задачи. И, в отличие от нее, – выполнимо. Это тот посильный личный вклад, который каждый способен внести в переустройство общества, а тем самым и государства. Многие обманывают себя, пытаясь не соприкасаться с действительностью, сбежать в частную жизнь, в обывательские развлечения или интеллектуальные игры. Но не могут тебя вовсе не касаться ежедневные проблемы, которые касаются твоих соотечественников, тех, кто живет рядом. Мол, кто-то за всё отвечает, а я буду только предъявлять претензии или брезгливо отворачиваться. Самоуправление, которое так необходимо нашей стране, начинается как раз с личного участия. В том же, что такое самоуправление необходимо – и даже более, чем что бы то ни было другое, – у меня сомнений нет. Его надо постепенно выстраивать. Такой огромной страной, как Россия, невозможно управлять исключительно централизованно, из Кремля.
– Мне казалось, что у вас есть возможность непублично встречаться с президентом. И, что важнее, Путин к вам прислушивается.
– Это чистый бред. Никакой подобной возможности у меня нет. У меня нет ни прямых телефонов, ни других возможностей для прямых контактов. С определенным вниманием и интересом Владимир Владимирович, насколько я могу судить, относился к Александру Исаевичу.
– Можно ли сказать, что Путин прислушивался?
– Не знаю.
– Насколько, по-вашему, власть обязана прислушиваться к просвещенному меньшинству?
– Что обязана делать власть, я не знаю, пусть сама думает. Но я абсолютно не разделяю чистоплюйства, которое свойственно людям, так часто повторяющим: «Мы с этой властью рядом не сядем и ни о чем договариваться не будем».
– Вы считаете – можно договориться?
– Нужно пытаться. У нас страна с огромным количеством тяжелых изъянов, которые можно и нужно исправлять. И многие из них исправить помимо власти невозможно. Но теперь не тоталитарный режим, слава Богу.
– Глобально ничего не переменилось.
– Давайте же правильно оценивать исторический момент: да, мы живем в стране, изуродованной язвами. Однако принципиально эти язвы исправимы, в чем опять же и состоит разница между авторитарным и тоталитарным режимами: из автократии есть выход в демократию (это доказано много раз историей, которая на наших глазах совершалась). Из тоталитаризма выйти почти невозможно. Слава перестройке – мы вырвались. Никого больше не расстреливают, и многое стало мягче. Да, в авторитарной стране и институты соответственно авторитарные, и нет полной свободы прессы: у нас она неполная, урезанная (кстати, не без самоцензуры прагматичных журналистов). Но никто больше не прячет в стол того, что пишет. И есть интернет, при котором существенные ограничения информации невозможны.
– Может, и так, но мне кажется гораздо более важным то, что в стране есть политические заключенные, заказные дела, очевидное слияние церкви и государства, отсутствие свободы слова, сверхъестественн�