Испанка. История самой смертоносной пандемии
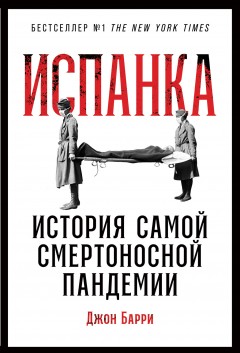
Переводчик А. Анваер
Редактор Л. Макарина
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта А. Деркач
Корректоры О. Улантикова, А. Кондратова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Фотографии на обложке и в книге: Gettyis.com, Fotodom.com
© John M. Barry, 2004, 2005, 2009, 2018
This edition published by arrangement with Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2021
Посвящается моей дорогой Энн и духу великого Пола Льюиса
Предисловие
Книга писателя и историка Джона Барри рассказывает о самом страшном в истории человечества гриппе, поразившем большую часть Европы и США в 1918–1920 гг. и унесшем десятки миллионов жизней, — и о борьбе с ним. Это описание последней в истории человечества пандемии, с которой в какой-то мере можно сравнить нынешнюю ситуацию с COVID-19.
История эпидемии испанки отражена в многочисленных научно-популярных книгах, научных статьях и обзорах литературы. Это не случайно, так как она оставила неизгладимый след в истории человечества как одно из самых жестоких и кровавых событий в жизни всего населения нашей планеты в XX в.
Каждый из авторов привносил нечто свое, новое видение, основанное и на анализе материалов, и на собственных домыслах и воображении. Книга Барри представляет собой увлекательное путешествие в ту эпоху. В центре внимания — события в США, тогдашнее состояние медицины и науки, достижения отдельных ученых страны. Автор приводит собственные рассуждения о прогрессе и о препятствиях на его пути, акцентируя внимание на ученых США и демонстрируя их индивидуальный опыт и стремление к познанию истины.
К гриппу автор подходит через аналитическое описание процессов в медицине и науке. Один из героев книги Пол Льюис, упомянутый и в посвящении, — один из ярких представителей науки и военной медицины США, внесший большой вклад в ее развитие.
В книге приводятся данные и об эпидемии кори, разразившейся среди военнослужащих американской армии. Инфицированных солдат переводили из одних лагерей в другие, и вирус перемещался вместе с ними — как шар, сбивающий кегли. «Не было такого воинского эшелона, который осенью 1917 г. не привозил бы в Кэмп-Уилер [близ Мейкона в Джорджии] от одного до шести больных корью уже на стадии высыпаний. Эти люди… распространяли болезнь в лагере и в эшелоне. Никакая сила не смогла бы остановить эпидемию в таких условиях». Самое страшное, что начали умирать молодые люди. Из всех осложнений кори самым смертоносным на тот момент оказалась пневмония.
Возвращаясь к гриппу, следует отметить, что впервые о нем заговорили много веков назад, еще в 412 г. до н. э. — именно тогда Гиппократ описал похожее на грипп заболевание. Это наиболее частая болезнь человечества — только с XII по XIX в., помимо ежегодных «пришествий» в виде сезонного гриппа, произошло более 130 опустошительных пандемий. В прошлом веке разразились четыре. Наиболее жестокая из них — пандемия 1918–1919 гг., вошедшая в историю под названием «испанка». За 19 месяцев во всем мире переболело около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения Земли, а умерло 40–100 миллионов человек, или 2,7–5,3 %. По масштабу жертв она затмила Первую мировую войну. В результате этой опустошительной пандемии рост мировой человеческой популяции приостановился на целые десять лет.
Болезнь стали называть испанским гриппом, поскольку первые публикации о новой страшной инфекции появились в испанских газетах: в стране не было цензуры, Испания не участвовала в войне. Так с легкой руки журналистов новая инфекция получила название «испанка». В мае 1918 г. в Испании было заражено 8 миллионов людей, или 39 % ее населения. Испанкой переболел и король Альфонсо XIII.
Согласно современным данным, вирус испанки впервые был зафиксирован в Восточной Азии в 1916 г., а затем, в 1917-м, в Китае. В Северную Америку он попал из Китая с рабочими (кули), привлекаемыми для строительства военных укреплений. Из армии США распространился по Европе — Франции, Великобритании и другим воюющим странам, где с сентября по ноябрь зарегистрирован пик заболеваемости в столицах (Лондоне, Париже, Берлине). Правда, автор книги считает, что «у этой гипотезы нет никаких научных оснований — это лишь вопрос вероятности», хотя и разделяет мнение, будто место зарождения большинства эпидемий — Азия или Россия (с чем как раз можно не согласиться). «В этих странах, — объясняет Барри, — многие люди живут в тесном контакте со свиньями и птицами, поэтому существует больше возможностей для перехода вируса от животного к человеку».
По утверждению Барри, эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что новый вирус гриппа появился в округе Хаскелл штата Канзас в начале 1918 г., пересек штат с запада на восток и добрался до огромной военной базы, откуда попал в Европу. Позднее он прокатился по Северной Америке, Европе, Южной Америке, Азии и Африке, по разбросанным в Тихом океане островам и далее по всему миру. Он цитирует вирусолога Макфарлейна Бёрнета, нобелевского лауреата: «Историю гриппа за тот период очень удобно прослеживать главным образом потому, что болезнь в Америке и в Европе следовала за армией».
Автор опирается на обширные исторические материалы, приводит ссылки на научные публикации и вместе с тем в популярной форме сообщает все нужные сведения и дает описание болезни, пытается проследить цепочку распространения гриппа в армии США. Он пишет: «Невозможно с уверенностью утверждать, будто кто-то принес вирус гриппа из канзасского округа Хаскелл в Кэмп-Фанстон… Это был лишь маленький ручеек — люди, ездившие из Хаскелла в Кэмп-Фанстон и обратно, но между Кэмп-Фанстон, другими военными лагерями и Францией циркулировали мощные солдатские потоки. Через две недели после первых случаев заболевания в Кэмп-Фанстон, 18 марта, грипп был зарегистрирован сразу в двух лагерях — Кэмп-Форрест и Кэмп-Гринлиф в Джорджии: заболели до 10 % личного состава обоих лагерей. Затем, по принципу домино, жертвами гриппа стали и другие учебные лагеря. Всего той весной вспышка гриппа затронула 24 из 36 крупнейших армейских лагерей. В 30 из 50 крупных городов, рядом с большинством из которых были военные базы, в апреле наблюдали всплеск „избыточной смертности“, связанной с гриппом, — правда, это стало ясно только ретроспективно».
В начале 2020 г. книга Барри вновь стала бестселлером и вошла в топ-10 самых продаваемых книг на Amazon в жанре нон-фикшен. Еще в 2005 г. Национальная академия наук США назвала ее самой выдающейся книгой года о науке и медицине.
Книга Джона Барри — это не только труд, рассказывающий о пандемии испанки, это пример сочетания исторического анализа, рассматривающего в хронологической последовательности все события того времени, и научно-популярного произведения. Замысел автора гораздо шире — проследить развитие медицины от Гиппократа до сегодняшнего дня, рассказать о ее успехах, а главное, о недостатках, включая нередкую оторванность от научных исследований и запаздывание их внедрения в практическую медицину. Во многом книга посвящена описанию преобразований в науке и медицинском образовании. В книге много цитат известных людей и крылатых фраз.
В первой части книги дается анализ состояния науки, методов познания и лечения в период от Гиппократа до конца XVIII в. Делается вывод о несостоятельности медицины в целом и слабости используемых методических подходов к изучению патологии человека. Приводятся представления о сущности патологии, гипотезы об основных процессах, лежащих в основе болезней.
Далее сравниваются достижения в науке и медицине в Европе и США — и делается вывод о существенном отставании Америки в медицине и науке. Автор констатирует: американцы, чтобы по-настоящему учиться, были вынуждены ехать в Европу. А после возвращения им было практически негде применять полученные знания и навыки. Ни одно учреждение в Соединенных Штатах не поддерживало медицинские научные исследования. Одно лишь то, что наука подрывала устои и ставила под вопрос традиционные медицинские подходы, приводило к полному отсутствию заинтересованности в поддержке науки со стороны лечебных учреждений. Тем не менее в Америке уже в те годы процветали физика и химия, развивались технологии.
Автор рассказывает о сложностях, с которыми столкнулось человечество, когда во время Первой мировой войны в Европе началась эпидемия гриппа. Пандемия гриппа 1918 г., подобно многим другим пандемиям этой болезни, шла волнами. «Первая волна, весенняя, убила немногих, — пишет Барри, — но второй волне было суждено стать смертоносной». Вторая волна была куда более опасной, болезнь нередко сопровождалась тяжелой пневмонией с высокой летальностью.
Как замечает Дж. Барри, «грипп почти всегда выбирает себе жертв среди слабейших — среди самых юных и самых старых». Грипп 1918 г. был иным. Он убивал молодых и сильных. Это подтверждено множеством исследований. У молодых взрослых, самых здоровых и крепких людей, были самые высокие шансы умереть. Автор приводит удручающую статистику: «Только в американской армии из-за гриппа и его осложнений погибло больше солдат, чем за всю вьетнамскую войну. Во время эпидемии каждый 67-й американский солдат умер от гриппа или осложнений…» Но, конечно же, грипп убивал не только военнослужащих. В Соединенных Штатах от гриппа погибло в 15 раз больше гражданских лиц, чем военных.
Следует отметить, что во всех войнах большинство военнослужащих погибали не от ран, а от эпидемических заболеваний. Соотношение убитых и умерших от инфекционных болезней (все войны второй половины ХХ в., усредненные данные) составляет 1:7. При этом инфекции распространялись и на гражданское население. Автор замечает: «От болезней умирало больше солдат даже в тех войнах, которые велись уже после того, как были сделаны открытия о микробной природе инфекционных болезней и приняты на вооружение современные санитарно-гигиенические меры».
Автор детально описывает сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в американской армии, ярко и образно рассказывает о руководителях медицинской службы, описывая их характер и личные качества, сетует на безразличие военного командования к их предложениям.
Книга представляет собой увлекательное повествование о людях, времени, медицине, инфекционных болезнях (хотя в центре внимания находится грипп): Барри знает, о чем пишет, но при этом не отходит от популярного стиля изложения. Читатель столкнется с обширным фактическим материалом о распространенности гриппа в отдельных воинских гарнизонах, городах и поселениях. Невольно окунаешься в ту эпоху, ощущаешь господствовавшие представления о причинах эпидемий и способах их профилактики. Чувствуешь дух времени и тогдашние реалии, страх и панику. Автором воссоздана картина бедствий, смертей и панических настроений населения. Но как было не поддаться панике, когда у вас на глазах умирали близкие и соседи, а в домах, моргах и госпиталях копились трупы, которые было невозможно похоронить? Сегодня мы можем констатировать: многое из того, что описывает автор, сопоставимо с пандемией новой коронавирусной инфекции, разразившейся в начале 2020 года и продолжающей бушевать. США наиболее пострадали от испанки в 1918–1919 гг. Сегодня мы видим схожую картину: на 14 августа 2020 г. число заболевших COVID-19 в США составило 5 248 678 (25,2 % от общего числа заболевших в мире), а число умерших — 167 097 (22,4 % от общего числа).
По данным Министерства здравоохранения США, обнародованным несколько лет назад, испанкой заразились 29,4 миллиона из 105 миллионов жителей страны. «Современные исследователи считают, — пишет автор, — что за время эпидемии 1918–1919 гг. избыточная смертность составила — в абсолютных величинах — 675 тысяч смертей. Тогда население страны насчитывало 105–110 миллионов человек. Сегодня, при населении 285 миллионов человек, сопоставимое число смертей составило бы 1 миллион 750 тысяч». В 2018–2019 гг. («умеренный» год для гриппа) в США было зарегистрировано 35,5 миллиона случаев гриппа — госпитализировано было 490 600 человек, умерло 34 200 (данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США). По данным ВОЗ (2017 г.), среднемировое ежегодное число летальных исходов гриппа и респираторных осложнений составляет 290–650 тысяч.
Эта великолепная книга рассказывает не только о смертоносной эпидемии испанки, но и о становлении школы медицинских исследований в США (в частности, Рокфеллеровского университета), о возникновении вирусологии, молекулярной биологии, генетики, о мобилизации населения, о внутренней политике США. В книге содержится огромное количество деталей, она стимулирует настоящий интерес к этой теме — в том числе и благодаря очень живому и доступному языку.
Автор выписывает образы ученых с любовью и уважением, приводит подробности из их жизни. Ученые Уильям Генри Уэлч, Саймон Флекснер, Виктор Воган, Пол Льюис, государственные деятели, руководители военного ведомства и службы здравоохранения — каждый узнаваем, каждому присущи свои неповторимые черты. Барри увлекательно повествует об Уэлче, рассказывает о его личном и профессиональном становлении. Этот человек способствовал появлению целой плеяды ученых, которым было суждено преобразить американскую медицину, ученых, которые смогли дать достойный отпор гриппу 1918 г., ученых, чьими данными по той эпидемии пользуются до сих пор. Уэлч организовал и преобразовал медицинскую науку в США благодаря созданию Университета Джонса Хопкинса.
Автор описывает историю появления и детально прослеживает деятельность Американского Красного Креста, его роль в оказании помощи больным и раненым во время войны. Но главной ролью Красного Креста, по его мнению, было «цементирование нации». В 1918 г. в рядах Американского Красного Креста насчитывалось 30 миллионов человек — из 105 миллионов населения.
В популярной форме, простым доступным языком, используя яркие сравнения, автор описывает процессы взаимодействия вируса с клетками организма, патогенез инфекции, формирование иммунитета. Правда, есть и некоторые неточности, учитывая, что первое издание книги вышло в 2004 г. Автор пишет: «Гемагглютинин встречается в 15 известных основных формах, нейраминидаза — в девяти. Эти формы комбинируются друг с другом, образуя подтипы». Однако на сегодня известно 18 типов гемагглютинина и 12 нейраминидазы, за счет комбинаций получается более 130 вариантов.
И далее: «Вирусологи используют буквенные и цифровые обозначения этих антигенов для того, чтобы было понятно, о каком именно вирусе идет речь. Например, к подтипу H1N1 относится вирус гриппа 1918 г. — теперь он циркулирует среди свиней». В действительности же, как говорится в послесловии, этот вирус стал причиной эпидемии в 2008–2009 гг. и сегодня циркулирует среди населения в виде «сезонного» гриппа. Для современного периода характерна одномоментная циркуляция вирусов гриппа разных серотипов: эпидемическую актуальность имеют четыре вируса гриппа: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), вирус гриппа В линии В/Виктория-подобных и вирус гриппа В линии В/Ямагата-подобных. Вирус гриппа A(H1N1) pdm09 наиболее часто становился причиной эпидемических подъемов заболеваемости — 2010–2011 гг., 2012–2013 гг., 2014–2015 гг.
Вирус гриппа был выделен в 1933 г. — ошибочно за возбудитель в период пандемии принимали «бациллу Пфайффера». Рихард Пфайффер настаивал на том, что открыл возбудителя — этиологическую причину гриппа. Его уверенность в своей правоте была так велика, что он назвал бактерию Bacillus influenzae. Позже стало известно, что речь идет о Haemophilus influenzae.
Следует отметить, что именно в описываемое время стало принято носить марлевые маски для предупреждения респираторных заболеваний. Автор цитирует Уэлча: он называл маску «чудесной вещью» и «важным вкладом в ограничение распространения воздушно-капельных инфекций». Ношение масок было рекомендовано как рутинная, обязательная мера. Автор приводит и любопытное обобщение: «…Одна из самых важных мер в сдерживании распространения инфекции — исключение скоплений людей. Доказали свою эффективность такие профилактические меры, как увеличение расстояний между кроватями в казармах, расположение изголовья одной напротив изножья другой, стоящей рядом, установка полотняных перегородок между кроватями в казарме и ширмы посередине стола в столовой».
И далее: «Были предприняты отчаянные усилия защитить войска от болезни или хотя бы предотвратить осложнения. Солдатам орошали носоглотку бактерицидными растворами, а бактерицидные полоскания было приказано делать дважды в день. Полость рта пытались дезинфицировать раствором йода в глицерине. Вазелином с ментолом смазывали носовые ходы, рот полоскали альболеном…»
Мы видим много общего в проявлениях эпидемии гриппа и коронавирусной инфекции (эпидемиологические и психологические моменты, состояние здравоохранения). Грипп, как и коронавирус, затрагивал все внутренние органы. «У пандемии гриппа 1918 г., — напоминает Дж. Барри, — была одна особенность: грипп обрушивался на жертв столь внезапно, что люди подчас не помнили тот момент, когда заболели. Кто-то мог упасть с лошади, кто-то валился с ног, идя по дороге».
И далее: «В 1918 г. баланс играл решающую роль в войне между вирусом и иммунной системой — и между жизнью и смертью. Вирус зачастую настолько эффективно проникал в легкие, что иммунная система была просто вынуждена реагировать на него с необычайной силой. Через несколько дней после начала заболевания молодых крепких людей убивал не вирус. Убийцей была массивная реакция их собственной иммунной системы». Полное совпадение клинических проявлений гриппа и COVID-19, не правда ли?
Неэффективность предпринимаемых мер, отсутствие средств специфического лечения и профилактики заставляли врачей в полном отчаянии пробовать все на свете — любые средства, самые необычные методы лечения. Эти способы представляли собой причудливую смесь тысячелетнего опыта врачевания с достижениями науки последних десятилетий. Врачи могли лишь облегчить симптомы, успокоить боль аспирином или морфином. Они могли подавлять мучительный кашель кодеином и, по некоторым данным, героином. Они лечили пациентов атропином, дигиталисом, стрихнином и адреналином — как стимуляторами. Они давали больным кислород.
Врачи вводили больным вакцину от брюшного тифа, рассчитывая — или просто надеясь, — что она сможет как-то подстегнуть иммунную систему, несмотря на то, что хорошо знали о специфичности иммунного ответа. Некоторые врачи утверждали, что метод работает. Другие врачи использовали с той же целью все известные тогда вакцины. Хинин был эффективен против единственной болезни — малярии. Были врачи, которые применяли хинин для лечения гриппа — без всякого обоснования, только от отчаяния. Согласитесь, очень похоже на то, как совсем недавно лечили COVID-19.
И хотя реалии 1918 г. сильно отличаются от современных, эта книга — хорошее напоминание, что мы по-прежнему сталкиваемся со многими проблемами, от которых страдали и в прошлом. К сожалению, современный мир не готов к своевременной идентификации и отражению всех угроз общественному здравоохранению. «В мире мало болезней столь же заразных, как грипп… Вероятно, пациент становится источником инфекции еще до появления активных симптомов…»
Как и в случае с COVID-19, пандемия 1918 г. началась из-за передающегося воздушно-капельным путем вируса, который сменил экологическую нишу, переместившись на людей с животных. Социальное дистанцирование, мытье рук и маски стали главными средствами контроля болезни — как в прошлом, так и сейчас. Медицинские советы столетней давности полностью повторяются в современных рекомендациях.
К сожалению, приходится констатировать, что и сегодня одна из главных биологических угроз человечеству — это распространение инфекционных болезней. Инфекционные болезни — постоянный спутник человека на протяжении всей истории. Многие из возбудителей возникли гораздо раньше человека. Массовые инфекционные болезни, склонные к эпидемическому распространению, оказывали и продолжают оказывать выраженное влияние на социальные и экономические условия жизни человека, а особенно — во время социальных и военных конфликтов. Ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности из-за развития международной торговли и туризма: между странами перемещаются животные, продукты животного происхождения и другие продукты питания. Заразные болезни не признают международных границ или суверенности государств.
Болезнь может возникнуть где угодно и быстро распространиться на другие регионы.
По данным ВОЗ, на сегодня из десяти основных причин преждевременной смерти людей три относятся к инфекционным болезням (респираторные инфекции, диареи и туберкулез). Ежегодно 2 миллиарда людей болеют инфекционными заболеваниями, и 14 миллионов из них умирают. Ежедневно в мире 40 тысяч смертей обусловлены инфекционными болезнями.
За последние 15 лет мир пережил несколько эпидемий, в том числе эпидемию атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и птичьего гриппа. В 2008–2009 гг. появился «свиной» грипп H1N1 — пандемия продлилась около 15 месяцев, затронула 214 стран, заболело более 1,6 миллиона человек, а 284 500 погибли (17,4 %). Этот вирус был во многом похож на возбудитель испанки (к счастью, гораздо менее вирулентный) и представлял собой тройной реассортант свиного, птичьего и человеческого гриппа (А/H1N1/Калифорния/04/2009).
Пандемия COVID-19 уже сегодня вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. Искоренить болезнь, очевидно, не удастся, и она войдет в нашу жизнь, как это сделал «свиной» грипп H1N1 в 2009 г., став одним из этиологических агентов ОРВИ. Нам еще предстоит изучить особенности этой эпидемии, извлечь уроки, проанализировать недостатки как мониторинга угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, так и обеспечения биологической безопасности населения. Ясно одно: новые вирусы будут появляться, это неотъемлемая часть нашего мира. Человечество должно научиться противостоять этим угрозам. В октябре 2019 г. Университет Джонса Хопкинса и журнал The Economist опубликовали рейтинг безопасности стран с точки зрения их устойчивости к воздействию эпидемий и рекомендации по их исправлению. В рейтинге фигурировали 195 стран. Главный вывод этого исследования — ни одна страна не готова отразить атаку эпидемии. И этот научный прогноз, к сожалению, сбылся, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19.
Н. И. Брико,академик РАН, директор ИОЗ им. Эрисмана, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России
Пролог
Шел 1918 г. Первая мировая привела Пола Льюиса в военно-морской флот. У него было довольно высокое звание — лейтенант-коммандер, но в военной форме он чувствовал себя не очень уютно. Сидела она мешковато, а сам он всякий раз терялся, когда младшие по званию отдавали ему честь.
И все же Льюис был настоящим воином: он преследовал смерть.
Обнаружив ее, он тут же бросался в схватку. Ему хотелось пригвоздить смерть булавкой, как энтомологу — бабочку, а потом разъять на части и изучить, чтобы найти способ борьбы с ней. Он делал это так часто, что риск стал для него обыденностью.
Но смерть никогда еще не являлась ему в таком страшном обличье, как теперь, в середине сентября 1918 г. Госпиталь, бесконечные ряды коек, на которых лежали окровавленные умирающие люди: это были не привычные смертные муки раненых, а что-то новое и пугающее.
Пола Льюиса вызвали сюда, чтобы он нашел разгадку тайны, поставившей в тупик врачей. Дело в том, что Льюис был ученым. Он получил медицинское образование, но никогда не был практикующим доктором. Он принадлежал к первому поколению американских ученых-медиков и практически жил в лаборатории. У Пола Льюиса было все — и блестящая научная карьера, и международное признание. При этом он был достаточно молод и только входил в пору настоящего расцвета. За десять лет до описываемых событий, работая под руководством своего наставника в Рокфеллеровском институте в Нью-Йорке, он доказал, что возбудителем полиомиелита является вирус: это до сих пор считается эпохальным достижением в истории вирусологии. Затем он разработал вакцину, которая почти со стопроцентной эффективностью предупреждала развитие полиомиелита у обезьян.
Многие коллеги называли Пола Льюиса «умнейшим человеком в мире». Он стал одним из первых ученых, начавших поиски возбудителя гриппа, средств его профилактики и лечения. В итоге стремление быть первым в изучении болезней стоило ему жизни
Благодаря этому и другим успехам он смог основать и возглавить Институт Генри Фиппса, исследовательский центр на базе Пенсильванского университета. А в 1917 г. Льюис был удостоен высокой чести прочитать ежегодную Гарвеевскую лекцию. Казалось, это лишь первая почесть из многих, которые его ждут… Сегодня дети двух выдающихся ученых, знавших его лично и встречавшихся со многими нобелевскими лауреатами, вспоминают, что их отцы отзывались о Льюисе как об умнейшем человеке на свете[1].
Врачи ждали от Льюиса объяснений по поводу тяжелейших симптомов, наблюдаемых у заболевших моряков. Кровь текла не из ран, во всяком случае не из пулевых ран; причиной не были и оторванные взрывом конечности. У большинства больных кровь шла из носа. У некоторых было сильное кровохарканье. Были даже больные с ушным кровотечением. Некоторые кашляли так сильно, что на вскрытиях у них потом обнаруживали разрывы брюшных мышц и переломы ребер. Многие больные агонизировали или бредили. Почти все приходившие в себя жаловались на сильнейшую головную боль — как будто им в глаза вбивают железные клинья; тело же, по их словам, болело так, словно переломаны все кости. Кое-кого из пациентов рвало. Кожа у некоторых моряков становилась странного цвета: у одних просто наблюдалась синюшность губ и кончиков пальцев, а у других тела и лица потемнели настолько, что белых было не отличить от негров. Они выглядели чуть ли не как чернокожие.
Льюис видел нечто подобное всего лишь раз в жизни. Двумя месяцами ранее экипаж британского корабля, вставшего на якорь в закрытом доке, перевезли санитарными каретами в филадельфийский госпиталь и там изолировали. Многие моряки умерли. На вскрытии их легкие выглядели так же, как у жертв отравляющих газов… или как у больных, умерших от легочной чумы — наиболее свирепой формы бубонной чумы.
Какой бы болезнью ни страдали те британские моряки, она не была заразной. После них не заболел ни один человек.
Но больные, которых теперь видел перед собой Льюис, сильно его озадачили. Глядя на них, он холодел от страха — страха за себя, страха перед болезнью: кто знает, чем она окажется? Болезнь, мучившая моряков, не просто распространялась — она распространялась стремительно.
Она распространялась, несмотря на хорошо спланированные, согласованные усилия. Та же болезнь вспыхнула десятью днями ранее на военно-морской базе в Бостоне. Лейтенант-коммандер Мильтон Розенау из военно-морского госпиталя в Челси (штат Массачусетс), надо полагать, сообщил об этой вспышке Льюису, с которым был близко знаком. Розенау тоже был ученым — после вступления Соединенных Штатов в войну он бросил профессорскую кафедру в Гарварде, чтобы пойти на флот. Его книга об организации санитарного дела считалась своего рода Священным Писанием среди как армейских, так и флотских врачей.
Филадельфийское военно-морское командование серьезно отнеслось к предостережениям Розенау, особенно с учетом того, что из Бостона в Филадельфию как раз прибыло первое подразделение больных матросов. Началась подготовка к изоляции больных на случай вспышки эпидемии. Командование было уверено, что изоляция позволит остановить распространение болезни.
Однако через четыре дня после прибытия бостонских матросов в Филадельфии были госпитализированы еще 19 моряков с симптомами той же болезни. Несмотря на немедленную изоляцию больных и всех, кто с ними контактировал, на следующий день заболели и были госпитализированы еще 87 матросов. Их тоже изолировали — вместе с контактами. Но через два дня с той же странной болезнью госпитализировали еще 600 человек. В госпитале закончились свободные койки, начали заболевать сотрудники. Моряков, у которых были симптомы, отправляли уже в гражданские больницы; счет больных шел на сотни. Моряков и гражданских то и дело перемещали между городскими и военно-морскими медицинскими учреждениями, как это было и в Бостоне. В то же время медицинский персонал из Бостона — а теперь уже и из Филадельфии — направляли и в другие города страны.
Это тоже пугало Льюиса.
Льюис обошел первых больных и взял на анализ кровь, мочу и мокроту, а также сделал соскобы из носоглотки. Через некоторое время он вернулся, чтобы повторить сбор материала и понаблюдать за симптомами, желая понять природу заболевания. В лаборатории Льюис и его подчиненные энергично взялись за выявление патогена, вызывавшего болезнь. Нужно было найти патоген. Нужно было найти причину болезни. Но еще нужнее была лечебная сыворотка или профилактическая вакцина.
Льюис любил лабораторию больше всего на свете. Рабочее пространство было тесным и ограниченным; выглядело оно как нагромождение льдинок — пробирки в штативах, сложенные стопками чашки Петри, пипетки, — но эти льдинки согревали Льюиса, давали ему уверенность и спокойствие. Так же, как дом и семья… или даже больше. Но работать так, как здесь, в Филадельфии, Льюису не нравилось. Нет, ему не мешала напряженная — из-за необходимости найти решение как можно быстрее — обстановка: в конце концов, исследования по полиомиелиту он проводил в разгар эпидемии в Нью-Йорке, когда для выезда из города требовалось специальное разрешение. Куда больше огорчала Льюиса невозможность положиться на академическую науку. Для того чтобы создать вакцину или сыворотку, ему придется выдвигать гипотезы, основанные в лучшем случае на весьма расплывчатых данных, так что каждая догадка должна быть верной.
Одно предположение он уже сделал. Пусть Льюис пока точно не знал, что вызывает болезнь, и не знал, как ее предотвратить или вылечить, но он знал — или думал, что знает, — какая это болезнь.
Он считал, что это инфлюэнца, то есть грипп — но какой-то совсем новый грипп.
Льюис оказался прав. В 1918 г. появился (по всей видимости, в Соединенных Штатах) вирус гриппа, которому было суждено распространиться по всему миру, и в своей самой ранней, смертоносной форме он возник в Филадельфии. Прежде чем пандемия сошла на нет в 1920 г., она успела убить больше людей, чем любая другая вспышка инфекции в истории человечества. Если говорить о доле населения, чума XIV в. свирепствовала сильнее и погубила более четверти всех жителей Европы — но в абсолютных величинах грипп унес больше жизней, чем средневековая чума тогда, и больше, чем сегодняшний СПИД.
По самым осторожным подсчетам, пандемия убила 21 миллион человек — притом что население Земли составляло тогда треть от его численности в наши дни. Эта оценка основана на эпидемиологических исследованиях того времени, но она, очевидно, неверна. Современные эпидемиологи считают, что умерло не меньше 50 миллионов — а, возможно, и около 100[2].
Но даже это число не отражает весь ужас болезни — ужас в других данных. Обычно грипп убивает стариков и маленьких детей, но во время пандемии 1918 г. около половины умерших составляли мужчины и женщины в самом расцвете сил, от 20 до 40 лет. Харви Кушинг, блестящий нейрохирург, которого в то время еще только ожидала всемирная слава, говорил, что жертвы пандемии «дважды мертвы, поскольку умерли молодыми»[3] (он сам переболел испанкой и всю жизнь страдал от осложнений).
Конечно, сложно говорить со всей определенностью, но если верхняя оценка числа умерших верна, то вирус убил 8–10 % всех живших в то время молодых людей.
И умирали они быстро, в жестоких мучениях. Несмотря на то, что пандемия гриппа растянулась больше чем на два года, две трети жертв умерли в первые 24 недели, а больше половины этих смертей пришлись на еще более короткий промежуток времени — от середины сентября до начала декабря 1918 г. Грипп убил больше людей за один год, чем средневековая «черная смерть» — за 100 лет; грипп унес больше жизней за первые 24 недели, чем СПИД за первые 24 года.
Однако пандемия гриппа напоминает оба эти бедствия и в других отношениях. Подобно СПИДу, испанка в первую очередь убивала тех, кому еще было для чего жить. А в Филадельфии, одном из самых передовых американских городов начала ХХ в., в просвещенном 1918 г. по улицам ездили священники в запряженных лошадьми повозках и, останавливаясь у закрытых дверей, призывали запершихся горожан выносить своих мертвых — так же, как и во время «черной смерти»…
Но история о вирусе гриппа 1918 г. — это не только история беды, смерти и опустошения. Это история человеческого общества, ведущего войну с природой на фоне тяжелейшей войны внутри самого общества. Это история науки и открытий, история о том, как люди мыслят и меняют свой образ мыслей, о том, как на фоне всеобщего хаоса все же находятся те, кто сохраняет способность рассуждать хладнокровно и взвешенно, сохраняет спокойствие, из которого произрастают жесткие и решительные действия, а не философствование.
Все дело в том, что испанка стала первым в истории столкновением природы и современной науки. Это был первый великий конфликт между природной силой и обществом, где нашлись личности, отказавшиеся подчиняться этой силе или взывать к божественному вмешательству ради спасения своих жизней; личности, которые вместо этого решились с открытым забралом выступить против природы, противопоставив ей развивающуюся технологию и человеческий разум.
В Соединенных Штатах это была история о горстке удивительных людей, одним из которых и был Пол Льюис. Эти мужчины и женщины (женщин среди них были единицы, но все же они были) заложили основы фундаментальной науки, на которой во многом зиждется современная медицина. Уже в то время эти люди разрабатывали вакцины и создавали антитоксины, а также придумывали методики лечения, которыми врачи пользуются по сей день. В отдельных вопросах они сумели вплотную подойти к границам нашего сегодняшнего знания.
Получается, эти ученые (во всяком случае, некоторые из них) в каком-то смысле всю свою жизнь готовились к тому, с чем им пришлось столкнуться в 1918 г., — и готовились не «вообще», а к очень конкретным вещам. Во всех войнах, которые до тех пор вела Америка, болезни убивали больше солдат, чем неприятельские пули. За всю человеческую историю было немало войн, и все они шли рука об руку с болезнями. Ведущие американские ученые предвидели, что во время Первой мировой — в Америке ее тогда называли Великой войной — разразится большая эпидемия. Они готовились к ней, насколько это было в их силах. И, подготовившись, стали ждать удара.
История эта, однако, началась значительно раньше. Медицина не могла бы рассчитывать на успех в столкновении с болезнями, не став научной. А это требовало революции.
Медицина никогда не была и никогда не будет наукой в полном смысле этого слова, это невозможно из-за биологических и психологических особенностей индивидуумов — как больных, так и самих врачей. Но еще в конце XIX в., за несколько десятилетий до Первой мировой войны, медицинская практика оставалась, по сути, такой же, какой она была при Гиппократе, более 2000 лет назад. Именно тогда, на рубеже веков, произошли кардинальные изменения в медицинской науке, повлекшие за собой изменения и в медицинской практике — сначала в Европе. Но, несмотря на европейский прогресс, медицина в Соединенных Штатах не менялась. В медицинской науке и в ее преподавании американцы сильно отставали, и, следовательно, отставала и клиническая практика.
В то время как в Европе уже в течение нескольких десятилетий в медицинских школах и на медицинских факультетах от студентов требовали фундаментальных знаний в химии, биологии и других естественных науках, в Америке еще в 1900 г. было труднее поступить в респектабельный колледж, чем в медицинскую школу. По меньшей мере 100 медицинских учебных заведений были готовы принять любого мужчину (женщинам дорога в медицину была закрыта), готового платить за обучение. А в 20 % случаев для получения медицинского образования требовалось только свидетельство об окончании средней школы, — то есть подготовка в естественных науках была практически не нужна! — и лишь некоторые медицинские школы требовали для поступления диплом колледжа[4]. При этом американские медицинские учебные заведения ничего не делали для восполнения пробелов у своих студентов. Медицинскую степень получал любой, кто посещал лекции и сдавал несложные экзамены. Были даже такие школы, где студенты пропускали несколько курсов, в глаза не видели ни одного пациента — и все равно получали диплом о медицинском образовании.
Лишь в самом конце XIX в. — чудовищно поздно — горстке ведущих американских ученых-медиков удалось запланировать революцию, которая сделала отсталую американскую медицину лучшей в мире.
Уильям Джеймс, отец современной психологии, был другом нескольких из этих людей (а впоследствии с ними довелось работать его сыну). Он писал, что критическая масса гениев может заставить содрогнуться целую цивилизацию и потрясти ее до основания[5].
Но для этого были нужны не только ум и образование, но и настоящее мужество — мужество отказаться от всякой поддержки, от помощи авторитетов. Впрочем, быть может, это называлось безрассудством.
Вспомним «Фауста» Гете[6].
- Написано: «В начале было Слово» —
- И вот уже одно препятствие готово:
- Я слово не могу так высоко ценить.
- Да, в переводе текст я должен изменить,
- Когда мне верно чувство подсказало,
- Я напишу, что Мысль всему начало…
На «слово» опирались власть, стабильность и закон; «мысль» досаждала, рвала на части и созидала — не зная, что она сотворит, и не слишком беспокоясь об этом.
Незадолго до начала Великой войны люди, стремившиеся преобразить американскую медицину, одержали победу. Они создали систему, способную выковать думавших по-новому специалистов, которые были готовы бросить вызов привычному порядку вещей. Эти люди, совместно с первым поколением воспитанных ими ученых — Полом Льюисом и его немногими соратниками, как раз и были теми воинами, что стояли на страже и, надеясь, что эпидемии не случится, все же ожидали ее и готовились к ней.
Когда же болезнь пришла, они, рискуя жизнью, встали у нее на пути и приложили все свои силы, все свои знания к тому, чтобы победить ее. Беда их потрясла, но они сумели взять себя в руки и выстроить знание, необходимое для будущего триумфа. И действительно: научные знания, полученные в ходе пандемии, указывали — и до сих пор указывают — путь в будущее медицины.
Часть I. Воители
Глава первая
Толпа, заполнившая 12 сентября 1876 г. аудиторию Балтиморской музыкальной академии, пребывала в радостном волнении — и без малейшего намека на легкомыслие. И действительно, даже несмотря на присутствие множества женщин, по большей части из высшего общества, один из газетчиков особо отметил: «Сюда пришли не похвастаться нарядами, это был не показ мод». Люди собрались здесь по весьма серьезному поводу. В тот день предстояло открытие Университета Джонса Хопкинса: основатели и руководители хотели не просто открыть новый университет, но и кардинально изменить сами принципы американского образования. А на самом деле они стремились к большему. Они хотели изменить сам способ, посредством которого американцы старались понять законы природы и противостоять ей. Эту цель воплощал главный выступающий, английский ученый Томас Гексли.
Такое важное мероприятие не ускользнуло от внимания общественности. Многие газеты, в том числе The New York Times, прислали репортеров для освещения события, а потом опубликовали полный текст речи Гексли.
В то время, как это часто бывает, страна воевала сама с собой; мало того, на деле велось несколько войн одновременно, и каждая — на нескольких фронтах, тех самых разломах, которые разделяют Америку и сегодня.
Первая война — война за расширение границ — была войной расовой. В Дакоте Седьмая кавалерийская дивизия Джорджа Армстронга Кастера была разгромлена «первобытными дикарями», не желавшими терпеть посягательства белых на свои земли. В день выступления Гексли на первой полосе The Washington Star было напечатано сообщение о том, как «злые сиу, сытые и хорошо вооруженные» буквально на днях «устроили резню в шахтерском поселке»[7].
На Юге шла куда более важная, но столь же свирепая война: белые демократы проповедовали «избавление» от Реконструкции — преобразования бывших рабовладельческих штатов — в преддверии президентских выборов. По всему Югу шло формирование пехотных и кавалерийских частей из участников «стрелковых клубов», «сабельных клубов» и «стрелковых команд», бывших конфедератов. Газеты сообщали о растущем числе угроз, избиений, убийств и других преступлений против республиканцев и чернокожих. После убийства 300 чернокожих в одном из округов штата Миссисипи один американец, уверенный, что слова, произнесенные самими демократами, убедят мир в чистоте их помыслов, обратился с отчаянным призывом к The New York Times: «Бога ради, опубликуйте показания демократов перед Большим жюри!»[8]
Уже начали поступать результаты голосования — единого дня выборов тогда не было, — и два месяца спустя демократ Сэмюэл Тилден выиграет всенародные выборы с небольшим, но явным перевесом… Но ему не суждено было стать президентом. Вместо этого военный министр (республиканец) пригрозил силой отменить итоги выборов; федеральные войска со штыками наперевес патрулировали улицы Вашингтона, а южане начали поговаривать о возобновлении Гражданской войны. В конечном счете этот кризис был разрешен комитетом, созданным в обход конституции и в результате политического компромисса: республиканцам позволят отменить результаты голосования в трех штатах — Луизиане, Флориде и Южной Каролине — и утвердить в свою пользу голосование выборщиков в Орегоне, чтобы президентом снова стал республиканец, Разерфорд Хейс. В обмен республиканцы обязались вывести федеральные войска с Юга и перестать вмешиваться в дела южан, оставив негров, по сути, на произвол судьбы.
Война с участием Университета Хопкинса была не столь громкой, но от этого не менее важной. Исход этой войны должен был определить еще одну черту в характере нации: насколько Америка готова принять современную науку и (в меньшей степени) насколько светской станет страна, много ли в людях останется религиозности.
Ровно в 11 часов утра на сцену начали подниматься люди. Первым шел президент нового университета Дэниел Койт Гилман, а рядом с ним Гексли. Дальше, один за другим, шествовали губернатор, мэр и другие важные персоны. Когда они заняли свои места, разговоры в зале быстро стихли: все затаили дыхание, словно вот-вот должны были объявить войну.
Гексли, человек среднего роста и среднего возраста (хотя у него уже была седина в волосах, а бакенбарды поседели полностью), с «приятным лицом», как тогда было принято говорить, отнюдь не был похож на воина. Но жесткостью характера он не уступал самым закаленным воякам. Ему принадлежит следующий афоризм: «Главное в нравственности — это раз и навсегда покончить с ложью». Гексли — блестящий ученый, будущий президент Лондонского королевского общества — советовал коллегам: «Перед лицом любых фактов будьте как дети, оставьте предубеждения. Смиренно следуйте за природой, куда бы она вас ни вела и какие бы бездны перед вами ни открывала, иначе вы никогда и ничему не научитесь». Он был уверен, что у науки есть цель: «Великая цель жизни — это не знание, а действие».
Он решил воздействовать на мир собственным примером и стал проповедником веры в человеческий разум. К 1876 г. он уже был самым известным в мире поборником теории эволюции и науки в целом. И действительно: журналист Генри Менкен говорил о Гексли, что «именно он, как никто другой, способствовал великому перевороту в человеческом мышлении, перевороту, которым отмечен XIX в».[9].
Президент Гилман произнес короткую и простую вступительную речь. А затем слово было предоставлено профессору Гексли.
Обычно он говорил о теории эволюции, но на этот раз тема была даже более масштабной. Гексли поднял вопрос интеллектуального поиска — как растить ученых? Университет Джонса Хопкинса, по его мнению, должен быть не похож ни на одно прежнее учебное заведение Америки. Университет, нацеленный не просто на образование, а в первую очередь на научно-исследовательскую деятельность, должен был, согласно планам его учредителей, соперничать не с Йелем или Гарвардом — они не считались достойными подражания, — а с ведущими учебными заведениями Европы, в особенности Германии. Вероятно, только в Соединенных Штатах, в стране, которая еще продолжала формироваться, могло возникнуть такое учебное заведение — с полностью готовой концепцией и с программой, объявленной еще до того, как были заложены учебные корпуса.
«Он говорил негромко, ясно и отчетливо»[10], — вспоминал один из слушателей. «Аудитория жадно внимала каждому произнесенному им слову, иногда выказывая свое одобрение аплодисментами, — говорил другой. — Профессор Гексли рассуждает неторопливо, точно и ясно, отстаивает свою позицию тонко и умело. Он не произносит ничего необдуманного, не поддается запальчивости, которая извинительна в случае глубокой убежденности; наоборот, он говорит взвешенно и рассудительно — это плод тщательного изучения вопроса».
Гексли очертил смелые цели Университета Хопкинса, затем заговорил о своих теориях, касающихся образования (вскоре эти теории вдохновят все того же Уильяма Джеймса и знаменитого философа Джона Дьюи), а также весьма порадовался тому факту, что само появление Университета Джонса Хопкинса означает, что «наконец-то ни политическое, ни церковное сектантство» не будет более препятствовать поиску истины.
По правде говоря, читая речь Гексли сегодня, почти полтора столетия спустя, нельзя не заметить ее более чем сдержанного — по нашим современным меркам — тона. И все же речь Гексли и вся церемония настолько потрясли страну, что Гилман и по прошествии многих лет дистанцировался от выступления англичанина, хотя при этом изо всех сил старался воплощать в жизнь идеи, о которых говорил Гексли.
Самым важным для церемонии словом стало как раз то, которое на ней не прозвучало: ни один ее участник не произнес слово «Бог», ни единого раза не был упомянут Всевышний. Это знаменательное упущение возмутило тех, кто не принимал механистический (и, следовательно, безбожный) взгляд на Вселенную. И все это происходило в эпоху, когда в американских университетах было 200 кафедр богословия против пяти медицинских[11]; в эпоху, когда президент Университета Дрю говорил, что опыт и долгие размышления привели его к выводу — лишь христианский священник может быть преподавателем колледжа.
Красноречивое умолчание о Боге выглядело как декларация: Университет Хопкинса будет искать истину, не страшась заглядывать в бездну.
Ни в одной области истина так сильно не грозила устоявшемуся порядку, как в науке о жизни, ни в одной области Соединенные Штаты так не отставали от остального мира, как в биологии и медицине. Именно в этой области влияние Университета Джонса Хопкинса будет наиболее значительным…
К 1918 г., когда Америка уже вступила в войну, страна привыкла опираться на изменения, широко (хотя и не полностью) внедренные в жизнь людьми, которые вышли из Университета Хопкинса. Но не только: армия Соединенных Штатов мобилизовала этих людей в особые подразделения, дисциплинированные, преданные и готовые обрушиться на противника.
Наука ставит два главных вопроса: «Что я могу узнать?» и «Как я могу это узнать?».
Строго говоря, и наука, и религия задаются первым вопросом — что может узнать каждый человек. Религия — и в какой-то мере философия — полагает, будто знает (или хотя бы может попытаться узнать) ответ на вопрос «Почему?».
В большинстве религий ответ на этот вопрос так или иначе сводится к Богу: потому что так Он повелел. Религия по сути своей консервативна; даже религия, предлагающая нового бога, всего лишь создает новый порядок.
Вопрос «Почему?» слишком глубок для науки. Вместо этого наука считает, что нужно пытаться ответить на другой вопрос: «Как?»
Революция в современной науке, и особенно в медицинской науке, началась с отхода от вопроса «Что я могу узнать?» как единственно возможного. А далее, что еще важнее, наука перешла, вооружившись иным методом, к вопросу «Как я могу это узнать?».
Ответ на этот вопрос представляет не только академический интерес, он влияет и на то, какова структура общества, как оно управляется, как живут его граждане. Если общество, по Гете, способно «слово… высоко ценить», если оно верит, что знает истину, и не считает нужным ставить под сомнение свои убеждения, то такое общество, скорее всего, будет жить согласно жестким предписаниям и едва ли захочет меняться. Если же общество оставляет место сомнениям в истине, то, скорее всего, оно будет свободным и открытым.
В более узком контексте самой науки ответ на этот вопрос определяет, как люди изучают природу, как они занимаются наукой. Способ, посредством которого добываются ответы — научная методология, — так же важен, как и сам вопрос. Ведь метод исследования лежит в основе знания и часто определяет, что именно открывают с его помощью: то, как человек исследует вопрос, часто диктует или по крайней мере ограничивает ответ.
Строго говоря, методология превыше всего. Например, хорошо известная теория Томаса Куна о циклах развития науки придает огромное значение методологии. Кун расширил область применения термина «парадигма», утверждая, что в любой конкретный момент в научном мышлении господствует какая-то частная парадигма, воспринимаемая как истина. Другие специалисты применяют эту концепцию не только к научному знанию, но и к другим областям.
Согласно Куну, преобладающая парадигма имеет тенденцию замораживать прогресс и опосредованно, создавая психологический барьер на пути творческих идей, и непосредственно: например, «наверху» отказывают в финансировании новых направлений, в особенности если они вступают в противоречие с установившейся парадигмой. Согласно Куну, ученые, несмотря на это, в итоге находят так называемые аномалии, которые не вписываются в парадигму. Каждая такая аномалия размывает фундамент парадигмы, и когда их число достигает критического порога, парадигма рушится. Затем ученые ищут новую парадигму, которая успешно объясняет и старые, и новые факты.
Но развитие науки — и научный прогресс — протекают более плавно, нежели предполагает теория Куна. Наука в своем движении больше напоминает амебу расплывчатой формы. И главное, что следует помнить, — метод важнее всего. Собственно, теория Куна признает, что сила, двигающая науку от одного объяснения к другому, берет свое начало в методологии, в том, что мы называем научным методом. Но при этом Кун принимает за аксиому: тот, кто ставит вопросы, постоянно проверяет существующие гипотезы. И действительно — благодаря методологии, которая предполагает изучение и проверку гипотез, прогресс неизбежен при любой парадигме. Без такой методологии прогресс попросту случаен.
Однако исследователи природы не всегда полагались на научный метод. Испокон веков ученые, пытавшиеся проникнуть в тайны мироздания, в то, что мы теперь называем наукой, опирались только на свой разум, только на собственные рассуждения. Они верили: мы сможем что-то узнать, если наше знание будет логически вытекать из верных, как нам кажется, посылок. Посылки же основывались главным образом на наблюдении.
Эта приверженность логике, а также человеческое стремление видеть мир как нечто разумно устроенное и связное на самом деле ослепляли науку в целом и медицину в частности. Главным врагом прогресса по злой иронии стал чистый разум. В течение двух с половиной тысяч лет — 25 веков — в лечении больных фактически не происходило никакого прогресса.
И в этом отсутствии прогресса невозможно обвинить религию или суеверия. На Западе — во всяком случае, начиная с V в. до н. э. — медицина была преимущественно светской. Несмотря на то, что целители школы Гиппократа (часть текстов, приписываемых Гиппократу, писали разные люди) работали в храмах и соглашались с «плюралистическим» объяснением природы заболеваний, они настаивали на материалистических толкованиях.
Сам Гиппократ родился около 460 г. до н. э. В своем сочинении «О священной болезни» (авторство этой работы, одной из самых известных, чаще всего приписывают ему самому) Гиппократ даже высмеивает теории, объяснявшие эпилепсию вмешательством богов[12]. Сам он и его последователи отстаивали принцип наблюдения, из которого затем выводили теории. Объяснял он это так: «Рассуждение состоит в некотором синтетическом воспоминании обо всем, что воспринимается чувством», «из того, что выводится только путем рассуждения, нельзя почерпнуть ничего», «я вместе с тем хвалю и рассуждение, если только оно берет начало из случившегося обстоятельства и достигает вывода из явлений методическим путем»[13].
Конечно, это очень близко к современному научному подходу, но у Гиппократа отсутствуют два особенно важных элемента.
Во-первых, Гиппократ и его единомышленники просто наблюдали за природой. Они ее не исследовали.
Такая неспособность исследовать природу была в какой-то мере понятной и объяснимой. Вскрывать трупы умерших было тогда просто немыслимо. Но авторы приписываемых Гиппократу текстов не проверяли свои умозаключения и теории. Теория должна давать прогноз — и только в этом случае ее можно считать полезной и научной. В конечном счете теория должна сводиться к следующему: если А, то В. При этом изучение и проверка выводов — самый важный элемент современной методологии. После проверки одного вывода следует немедленно браться за другой. Этот процесс нельзя остановить.
Однако эти авторы наблюдали пассивно — активно они лишь рассуждали. Внимательно наблюдая, они отмечали слизистые выделения, менструальные кровотечения, водянистые испражнения при дизентерии. Они наверняка видели, что происходит с налитой в сосуд кровью, которая со временем разделяется на слои: один прозрачный (это слой желтоватой сыворотки), а другой темный. На основании этих наблюдений они выдвинули гипотезу, что есть четыре вида телесных жидкостей, или «гуморов»: кровь, слизь, желчь и черная желчь[14]. (Отголосок этой терминологии существует до сих пор — в словосочетании «гуморальный иммунитет», которым обозначают такие элементы иммунной системы, как антитела, циркулирующие в крови.)
Это осмысленная гипотеза, так как она согласуется с наблюдениями и может объяснить многие симптомы. Скажем, кашель, согласно ей, возникает из-за притока слизи в грудную клетку. Наблюдения за больными, отхаркивающими мокроту, подтверждали этот вывод.
В более широком смысле гипотеза соответствовала и тому, как греки видели природу: они наблюдали четыре времени года, четыре признака окружающей среды (холод, тепло, влагу и сухость) и четыре стихии, или элемента (землю, воздух, огонь и воду).
Медицине пришлось ждать следующего импульса еще шесть столетий, до Галена. Но Гален не порвал со старыми учениями — он их систематизировал и усовершенствовал. Гален утверждал: «Я сделал для медицины столько же, сколько Траян для Римской империи, построивший мосты и дороги по всей Италии. Это я, и только я один, открыл в медицине истинный путь. Надо признать, что этот путь наметил Гиппократ… Он его подготовил, но я сделал его проходимым»[15].
Гален не только пассивно наблюдал. Он препарировал животных, хотя и не вскрывал трупы людей. Однако он работал врачом гладиаторов и, наблюдая за их ранами, видел, что находится у человека глубоко под кожей. Таким образом, познаниями в анатомии Гален превосходил всех предшественников. Но все же он оставался преимущественно теоретиком, логиком: он упорядочил работы Гиппократа и его единомышленников, примирил конфликтные воззрения, рассуждая настолько логично, что всякий, кто соглашался с его посылками, был вынужден согласиться и с его безупречными выводами. Гален сделал гуморальную теорию безупречно логичной и даже изящной. Как отмечает историк Вивьен Наттон, он поднял свою теорию на истинно концептуальный уровень, отделив темпераменты от непосредственной связи с гиппократовыми «телесными соками» и представив их как невидимые сущности, «распознать которые можно только посредством логики»[16].
Работы Галена были переведены на арабский язык и легли в основу как западной, так и исламской медицины на следующие 15 веков — пока не подверглись первому серьезному испытанию на прочность. Подобно целителям школы Гиппократа, Гален считал, что болезни возникают от нарушения баланса жидкостей тела. Согласно Галену, этот баланс может быть восстановлен врачебным вмешательством: именно так врач может успешно лечить болезни. Если болезнь возникла вследствие отравления, то вылечить ее можно выведением яда из тела. Вывести яд, восстанавливая равновесие, можно с потом, мочой, калом и рвотными массами. Этот подход заставлял врачей рекомендовать слабительные и прочие очищающие лекарства, а также горчичники и другие средства, которые истязали тело, покрывали его мокнущими волдырями и, таким образом, теоретически восстанавливали равновесие.
Из всех медицинских практик, проверенных столетиями, одной из самых долговечных — хотя и наименее объяснимых для современного человека — была практика, которая представляла собой совершенно логичное продолжение воззрений Гиппократа и Галена (более того, они оба ее рекомендовали). Речь идет о кровопусканиях. Кровопускание было одним из самых универсальных средств — его применяли для лечения буквально всех болезней.
До середины XIX в. считалось, согласно заветам Гиппократа, что нельзя вмешиваться в естественные процессы. Различные виды очищения должны были, по мысли врачей, усиливать и ускорять естественные процессы, а не мешать им. Скажем, гной, наблюдавшийся практически во всех ранах, рассматривался как необходимый элемент излечения и заживления раны. До конца XIX в. врачи, как правило, ничего не делали для того, чтобы избежать нагноения, и даже весьма неохотно дренировали гной. Они предпочитали называть его «благоприятным гноем».
Гиппократ и хирургию считал вредным вмешательством, мешающим естественному течению природных процессов; согласно Гиппократу, хирургия — всего лишь механический навык, и для врача, занятого куда более «возвышенным» делом, это ниже собственного достоинства. Такое интеллектуальное высокомерие было характерно для западных врачей на протяжении более 2000 лет.
Это не означает, конечно, что в течение 2000 лет работы Гиппократа и Галена были единственными теоретическими построениями, трактовавшими понятия здоровья и болезни. Ученые выдвигали множество идей и гипотез, как работает организм и как развиваются болезни. Постепенно в традиционной медицине Гиппократа и Галена возникла соперничающая школа, ставившая на первое место эмпирический опыт и отвергавшая чистое теоретизирование.
Невозможно кратко описать эти новые теории, но почти все они были основаны на общей концепции: здоровье есть состояние равновесия и баланса, а заболевание — это возникновение дисбаланса либо по внутренним причинам, либо под влиянием внешних воздействий (например, атмосферных миазмов), либо вследствие и первого, и второго.
Однако в начале XVI в. нашлись три человека, дерзнувшие усомниться хотя бы в методах медицины. Парацельс объявил, что будет исследовать природу «не слепым следованием старым учениям, но собственным наблюдением за природой, подтвержденным… опытом и разумными рассуждениями»[17].
Везалий же заключил, что выводы Галена основывались на вскрытиях животных и были глубоко ошибочными: сам он вскрывал человеческие трупы. За это его приговорили к смерти, но затем приговор был смягчен.
А Фракасторо — астроном, математик, ботаник и поэт — тогда же выдвинул гипотезу, что всякая болезнь вызывается специфической причиной, а «поражение» (контагий) передается «от одного к другому» и «совершается в мельчайших и недоступных нашим чувствам частицах». Один историк медицины назвал свод работ Фракасторо «вершиной, не превзойденной, возможно, никем — от Гиппократа до Пастера»[18].
Современниками этих людей были Мартин Лютер и Николай Коперник, личности, изменившие мир. Идеи Парацельса, Везалия и Фракасторо по поводу медицины мир не изменили. Даже во врачебной практике того времени не изменилось ровным счетом ничего.
Но сам подход, за который они ратовали, наделал много шума. А между тем схоластика, душившая почти все области научного исследования, начала рушиться. В 1620 г. Фрэнсис Бэкон в книге «Новый Органон» резко выступил против чисто дедуктивного логического мышления: Аристотель, по его словам, «свою натуральную философию совершенно предал своей логике и тем сделал ее сутяжной и почти бесполезной». Бэкон жаловался: «Логика, которой теперь пользуются, скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины. Поэтому она более вредна, чем полезна».
В 1628 г. Гарвей доказал существование кровообращения в организме — то есть совершил, возможно, величайшее открытие в медицине. Во всяком случае, вплоть до XIX в. это было величайшим достижением медицины. Вся Европа была охвачена настоящим брожением умов. Через полвека после Гарвея Ньютон совершил революцию в физике и математике. Современник Ньютона Джон Локк, медик по образованию, подчеркивал важность получения знаний через опыт. В 1753 г. Джеймс Линд провел первый контролируемый эксперимент в английском флоте и продемонстрировал, что цингу можно предотвратить употреблением сока лимона и лайма. С тех пор к британским морякам и приклеилась кличка limeys — «лаймоеды». После этой убедительной демонстрации Дэвид Юм, последователь Локка, подхватил знамя эмпиризма. Его современник Джон Хантер{1} блистательно использовал научные достижения в хирургии, превратив ее из ремесла цирюльников в отрасль медицины. Хантер проводил модельные научные эксперименты — в том числе и на самом себе. Например, он ввел себе гной больного гонореей и, заразившись, доказал свою гипотезу.
Затем, в 1798 г. Эдвард Дженнер, ученик Хантера, опубликовал свой труд (Хантер не зря твердил ему: «Не рассуждай, пробуй»[19]). Еще студентом Дженнер услышал, как одна доярка сказала: «Я не подхвачу оспу, у меня уже была коровья». Вирус коровьей оспы настолько похож на вирус натуральной оспы, что человек, переболевший коровьей оспой, получает иммунитет к оспе натуральной. Кроме того, у человека коровья оспа редко протекает тяжело. (Оба слова — и «вакцина», и «вакцинация» — происходят от термина Variolae vaccinae, которым Дженнер называл коровью оспу).
Работа Дженнера была знаменательной вехой в развитии медицины, но не потому, что он первым начал прививать людей против оспы. В Китае, Индии и Персии уже давно существовали различные способы прививки оспы детям, чтобы дать им иммунитет к оспе, да и в Европе уже в начале XVI в. обычные люди — даже не врачи — брали гной из пустул больных легкой формой оспы и вводили его в царапины на коже тех, кто еще не переболел оспой. В большинстве случаев это вызывало заболевание в легкой форме, но привитые становились иммунными к натуральной оспе. В 1721 г. проповедник, биолог и медик Коттон Мэзер из Массачусетса последовал совету черного раба и, воспользовавшись этим методом, сумел предотвратить смертоносную эпидемию. Но беда в том, что такая «вариоляция» (от латинского слова Variola — натуральная оспа) могла и убить. Вакцинация коровьей оспой была много безопаснее вариоляции.
С научной точки зрения, однако, самым важным вкладом Дженнера было строгое следование научной методологии. О своем открытии он говорил так: «Я установил его на твердый фундамент доказательства, сделал его незыблемым — и только после этого предъявил его публике»[20].
Но старые идеи умирают далеко не сразу. Даже в то время, когда Дженнер проводил свои опыты, медицинская практика, несмотря на огромную массу новых знаний, почерпнутых из трудов Гарвея и Хантера, оставалась неизменной. Многие (если не все) врачи, глубоко размышлявшие о медицине, все же по-прежнему смотрели на нее с точки зрения логики и чистого наблюдения.
В Филадельфии, через 22 века после Гиппократа и через 16 веков после Галена, Бенджамин Раш, психиатр-первопроходец, один из отцов-основателей, подписавших Декларацию независимости, все еще полагался исключительно на логику и наблюдение для того, чтобы построить «более простую и последовательную систему медицины из всех, что до сих пор видел мир»[21].
В 1796 г. он выдвинул гипотезу — столь же, по его мнению, стройную и изящную, как физика Ньютона. Обратив внимание на покраснение кожи как постоянный симптом лихорадки, он пришел к выводу, что покраснение вызывается расширением капилляров, и рассудил так: ближайшей причиной лихорадки является ненормальное «конвульсивное действие» в сосудах. Но, не остановившись на этом, Раш заключил, что любая лихорадка возникает в результате раздражения капилляров. А поскольку капилляры — часть системы кровообращения, значит, по мысли Раша, причиной всего является повышение давления во всей системе кровообращения. Раш предложил устранить эти судорожные сокращения самым действенным способом — венесекцией и кровопусканием. Вывод, безусловно, логичный.
Раш был одним из самых пылких поборников «героической медицины». Правда, героизм должны были проявлять пациенты. В начале XIX в. слава Раша дошла и до Европы, и один лондонский врач заявил, что Раш соединил в себе «совершенно беспрецедентным образом прозорливость и способность к здравому суждению»[22].
Напоминанием о всеобщем согласии с благотворным действием кровопусканий служит сохранившееся и по сей день название одного из ведущих британских медицинских журналов — The Lancet. Известно, что ланцет был главным инструментом для кровопусканий.
Но если первоначально медицина была несостоятельной — и эта несостоятельность продержалась практически два тысячелетия, а затем лишь немногие врачи в течение 300 лет делали робкие попытки поколебать старые воззрения, а остальные пассивно наблюдали и делали из наблюдений какие-то выводы, — то теперь наконец-то настало время распрощаться с этой несостоятельностью.
Что я могу знать? Как я могу это узнать?
Если с помощью одного только разума можно решать математические задачи, если Ньютон смог продумать свои построения в физике, то почему невозможно проникнуть одним только рассуждением в хитросплетения работы живого организма? Почему в медицине мало одного только разума?
Одно из объяснений заключается в том, что учение Гиппократа и Галена предлагало систему лечения, которая, казалось, дает желаемый результат. Казалось, что эти методы лечения работали. Таким образом, модель Гиппократа — Галена продержалась так долго не только благодаря логической непротиворечивости, но и благодаря кажущейся эффективности.
Кровопускание — сегодня эту процедуру называют «флеботомия» — в некоторых случаях действительно может помочь. Например, при лечении такого редкого заболевания, как полицитемия: это, строго говоря, редкая генетическая аномалия, при которой возрастает масса циркулирующей крови. Показано кровопускание и при гемохроматозе — заболевании, когда в организме содержится слишком много железа. Куда чаще встречается отек легких, когда их ткань переполняется жидкостью, препятствуя нормальному дыханию. Одним из решений может быть кровопускание, и в некоторых случаях к нему действительно прибегают. Например, при застойной сердечной недостаточности избыток жидкости в легких причиняет пациентам сильные страдания и может их даже убить, если сердце не справляется с перекачиванием крови из легких. После кровопускания такие больные чувствуют себя лучше: лечение помогает, что подтверждает его правильность.
И даже если врачи видели, что кровопускание ослабляет пациента, сама эта слабость, по их мнению, была для больного благом. Если у больного отмечались жар и покраснение кожи на фоне лихорадки, то облегчение этих симптомов после кровопускания — больной становился бледным — считалось хорошим признаком. Если больной побледнел, значит, средство сработало как надо.
И, наконец, после кровопускания у некоторых больных наблюдалась эйфория. И это тоже подкрепляло правильность теории. Таким образом, в глазах последователей учения Гиппократа и Галена кровопускание имело логическое обоснование, а иногда и объективно подкрепляло эту логику на практике. Другие методы лечения тоже делали то, ради чего они были придуманы, — в известном смысле. Не далее как в конце XIX в. — то есть спустя несколько десятилетий после Гражданской войны в США — врачи в большинстве своем все еще рассматривали организм как нечто цельное, все части которого взаимосвязаны и взаимозависимы. Они все еще считали, что любой специфический симптом есть результат дисбаланса, нарушения некоего равновесия в целостном организме. Как подчеркивал историк Чарльз Розенберг, даже натуральную оспу, несмотря на общеизвестность ее клинического течения и на тот факт, что ее удавалось предотвратить вакцинацией, в то время считали проявлением системного нарушения[23]. Тогдашняя нетрадиционная медицина — от хиропрактики с ее «подвывихами позвонков» до китайцев с их «инь» и «ян» — также была склонна рассматривать болезнь как результат нарушения баланса внутри организма.
Врачи и пациенты хотели, чтобы лечение усиливало и ускоряло, но ни в коем случае не блокировало течение болезни, естественный процесс выздоровления[24]. Считалось, что можно регулировать состояние организма, назначая пациенту ядовитые вещества — ртуть, мышьяк, сурьму, йод. То же самое касалось лекарств, вызывающих образование волдырей. Действенными считались также потогонные и рвотные средства. Например, один врач, столкнувшись со случаем плеврита, назначил больному камфору и записал, что «больному очень скоро стало легче после того, как он пропотел»[25]. Доктор был уверен, что больного излечило его вмешательство.
Тем не менее улучшение состояния больного отнюдь не говорит о том, что лечение работает. Например, в 1889 г. Merck Manual — медицинский справочник фармацевтической компании Мерк — рекомендовал около 100 методов лечения бронхита, у каждого из которых были тысячи восторженных сторонников, хотя в современных редакциях справочника признается, что «ни одно из этих средств не было действенным». Надо сказать, что для лечения морской болезни этот же справочник в свое время рекомендовал такие средства, как шампанское, стрихнин и нитроглицерин.
Если же становилось понятно, что метод не работает, то в игру вступали сложные, подчас глубоко личные отношения больного и врача со всеми их хитросплетениями, и к процессу лечения подключалась эмоциональная составляющая. Одна медицинская истина со времен Гиппократа до наших дней остается неизменной: столкнувшись с безнадежным пациентом, врач не может махнуть рукой — врачей ведь не учат отмахиваться от больных! — и просто ничего не делать. И врач, пребывающий в таком же отчаянии, как и пациент, начинает хвататься за всё подряд, даже за средства абсолютно бесполезные — но, по крайней мере, безвредные. В этом случае пациент хотя бы получит какое-то утешение.
Один онколог признавался: «Строго говоря, я и сам поступаю так же. Если мне приходится лечить сломленного, отчаявшегося больного, то я назначу ему малую дозу интерферона альфа, хоть и не верю, что он способен кого-то вылечить. У интерферона нет побочных эффектов, и одно это уже дает пациенту надежду».
В онкологии можно найти и другие подобные примеры. Нет никаких подтвержденных научных данных, что эхинацея как-то влияет на рак, но ее активно назначают в Германии многим онкологическим больным в терминальной стадии. Японские врачи массово назначают таким пациентам плацебо. Стивен Розенберг, ученый из Национального института рака, который придумал, как стимулировать работу иммунной системы в терапии рака, и возглавлял команду, осуществившую первую экспериментальную попытку генной терапии, замечает: химиотерапию годами рекомендуют практически всем страдающим раком поджелудочной железы, хотя до сих пор нет доказательств, что какая бы то ни было схема лечения способна продлить жизнь таких больных даже на день. (Когда эти строки были уже написаны, было объявлено, что группа ученых доказала: гемцитабин может увеличить медианную продолжительность жизни таких больных на 1–2 месяца. Правда, это лекарство отличается весьма высокой токсичностью.)
Есть и другое объяснение невозможности двигать медицину вперед при помощи только логики и наблюдений: в отличие, скажем, от физики, которая пользуется одной из форм логики — математикой — как своим естественным языком, биология не поддается логике. Лео Силард, выдающийся физик, осознал это и даже жаловался, что, переключившись с изучения физики на изучение биологии, перестал получать удовольствие от горячей ванны. Будучи физиком, он погружался в теплую воду и принимался крутить проблему в голове, логически прикидывая различные варианты ее решения. А вот Силарду-биологу постоянно приходилось вылезать из ванны, чтобы посмотреть на нужные данные[26].
Действительно, биология — это воплощенный хаос. Биологические системы — продукт не логики, а эволюции. Эволюция — не слишком-то элегантный процесс. Жизнь не пытается выбрать наилучшее решение с точки зрения логики, чтобы справиться с новой ситуацией. Эволюция приспосабливает к ней то, что уже существует. Многие элементы человеческого генома «консервативны» — в том смысле, что эти гены не отличаются от генов представителей более простых видов. Эволюция строится на том, что уже есть в ее распоряжении.
Поэтому и результат получается не таким, к какому мог бы привести прямой и понятный логический путь, а неупорядоченным и хаотичным. Можно провести аналогию со строительством энергетически эффективного деревенского дома. Если человек начинает строительство с чистого листа, с проекта, то логика заставит его использовать определенные строительные материалы и планировать расположение окон и дверей, имея в виду соответствующие затраты киловатт-часов; возможно, он предусмотрит установку на крыше солнечной батареи и так далее. Но если он захочет сделать энергоэффективной постройку XVIII в., то ее придется приспосабливать к современным условиям — насколько это окажется возможным. Строитель будет действовать логично, делая то, что имеет практический смысл, и учитывая то, с чего начинается работа, — то есть свойства уже существующего дома. Строителю придется заливать щели герметиком, делать влаго- и шумоизоляцию, менять камин или печку на котел и новую систему отопления. Старый фермерский дом получится, возможно, даже лучше, особенно если учитывать его исходное состояние, но окажется нестандартным: по размеру окон, по высоте потолков, по использованным строительным материалам он будет весьма мало напоминать новый дом, построенный на пустом участке земли и спланированный с учетом максимальной энергетической эффективности.
Чтобы логика была полезна в биологии, ее нужно применять к заданной исходной точке — согласно существующим правилам игры. Именно поэтому Силарду приходилось вылезать из ванны всякий раз, когда ему требовались данные.
Наконец, логика и наблюдение не способны проникнуть в механизмы работы организма не из-за неправильности гипотез Гиппократа, парадигмы Гиппократа. Логика и наблюдение не смогли продвинуть медицину вперед, потому что гипотезы не проверялись.
Как только ученые приложили к медицине нечто похожее на современный научный метод, старая парадигма рухнула.
К началу XIX в. в других науках произошел гигантский прогресс, который начался несколькими столетиями ранее с революции в количественном измерении данных. Бэкон и Декарт, несмотря на противоположность своих воззрений относительно пользы чистой логики, создали философскую точку отсчета для нового взгляда на природный мир. Ньютон, можно сказать, перекинул мост между их воззрениями, выдвинув на первое место математику (через логику), но при этом опираясь на эксперимент и наблюдение для подтверждения логических — или математических — выводов. Джозеф Пристли, Генри Кавендиш и Антуан-Лоран Лавуазье создали современную химию и проникли в тайны природного мира. В частности, для биологии очень важным оказалось открытие Лавуазье химии горения и природы химических процессов, лежащих в основе дыхания.
Однако, невзирая на этот прогресс, в 1800 г. и Гиппократ, и Гален узнали бы в господствовавшей в то время старой доброй медицинской практике свою привычную парадигму и, вероятно, согласились бы с ней. В 1800 г., по меткому выражению одного историка, медицина оставалась «высохшей ветвью науки»[27].
В XIX в. ситуация начала меняться, причем с удивительной быстротой. Вероятно, самый крупный прорыв был связан с Французской революцией, когда при новом французском правительстве зародилась парижская клиническая школа — так ее потом назовут. Одним из лидеров этого направления стал Ксавье Биша, который, проводя вскрытия, установил, что человеческие органы состоят из различных скоплений клеток, иногда расположенных слоями, и назвал эти слои «тканями». Другим революционером стал Рене Лаэннек, изобретатель стетоскопа.
Между тем медицина поставила себе на службу другие объективные измерения и математику. Это тоже стало серьезным новшеством. В своих сочинениях Гиппократ особо подчеркивал, что органы чувств врача способны дать больше информации, чем любые объективные измерения, и поэтому врачи, несмотря на привлечение в медицину логики, всегда старались не прибегать к математике в изучении организма и его болезней. В 20-е годы XIX в., через 200 лет после изобретения термометра, французские врачи стали применять его на практике. Клиницисты наконец-то воспользовались достижениями XVIII в. и начали точно считать пульс и измерять артериальное давление.
Одновременно с этим еще более важный шаг вперед сделал в Париже Пьер Луи. В больницах, где сотни страждущих ожидали помощи, он сопоставил — при помощи простейшей математики, всего лишь четырех арифметических действий — различные виды лечения, которое получали пациенты с одними и теми же заболеваниями, и результаты этого лечения. Впервые в истории медик создал надежную и систематизированную базу данных. Врачам стоило бы сделать это раньше. Для этого не требовались ни микроскопы, ни передовые технологии — надо было лишь аккуратно вести записи.
Тем не менее современная медицина по-настоящему и полностью отделилась от классики именно тогда, когда доктор Луи и другие врачи начали изучать патологическую анатомию. Луи не только выводил зависимость результатов от методов лечения, чтобы делать выводы об эффективности терапии (кровопускания он отвергал, считая их бесполезными), он совместно с коллегами также выполнял патологоанатомические вскрытия, чтобы сопоставить изменения в органах с клинической симптоматикой. Исследователи рассекали органы, сравнивали больные органы со здоровыми, изучали их функции до мельчайших деталей.
Их открытие — одновременно поразительное и убедительное — помогло выработать новую концепцию болезни как самостоятельной, объективной сущности. В XVII в. Томас Сайденхэм начал классифицировать болезни, но и он сам, и его последователи по-прежнему рассматривали болезни как результат дисбаланса — в полном согласии со взглядами Гиппократа и Галена. Теперь же начала развиваться новая «нозология», новая классификация и перечисление болезней.
Болезнь начали рассматривать как нечто поражающее определенные части тела, как независимую сущность, а не как общее расстройство крови. Это стало фундаментом будущей революции.
Влияние взглядов Луи и появление того, что потом стали называть «количественной системой», невозможно переоценить. Стетоскоп, ларингоскоп, офтальмоскоп, измерение температуры и давления крови, морфологическое изучение частей тела — все эти достижения породили дистанцию и между врачом и больным, и между больным и его болезнью; эти достижения сделали гуманность объективной. Несмотря на то, что Мишель Фуко — не последнее имя в науке — осудил парижскую клиническую школу как первую попытку превратить человеческое тело в объект, именно ее подход заложил основы прогресса в медицине[28].
Но, справедливости ради, это направление осуждали и современники. Вот типичный упрек одного из критиков: «Медицинская практика, соответствующая этим воззрениям, является целиком эмпирической, ей не хватает рациональных выводов, она занимает место среди экспериментальных наблюдений низшего порядка и опирается на разрозненные, фрагментарные факты»[29].
Невзирая на критику, количественный подход к медицине начал завоевывать — одного за другим — все новых и новых сторонников. В 40–50-е гг. XIX в. британский врач Джон Сноу начал применять математику в медицине по-новому — как эпидемиолог. Он тщательно изучил закономерности распространения заболевания во время вспышки холеры, отмечая, кто заболевал, а кто нет, где и в каких условиях жили больные и здоровые. Он сумел проследить распространение болезни до источника питьевой воды в Лондоне и заключил, что причиной эпидемии стала зараженная вода. Это была блистательная детективно-эпидемиологическая работа. Уильям Бадд, английский сельский врач, позаимствовал методологию Сноу и быстро адаптировал ее для изучения распространения брюшного тифа.
Ни Сноу, ни Бадду не понадобились никакие научные знания, никакие лабораторные данные для того, чтобы прийти к верным заключениям. Мало того, они сумели прийти к ним в 50-е гг. XIX в., то есть еще до открытия бактериальной природы инфекционных заболеваний. Подобно выводу Луи, что кровопускание — это процедура не просто бесполезная, но и практически всегда вредная, открытия Сноу и Бадда можно было бы сделать на 100 или на 1000 лет раньше. Но их работа отражала новый взгляд на мир, новый способ поиска объяснений, новую методологию, новый подход к использованию математики как аналитического инструмента.
В скобках заметим, что усилия по выявлению корреляции лечения и его результатов пока не увенчались особым успехом. «Новое» направление — доказательная медицина — возникло сравнительно недавно: ученые пытаются выявить наилучшие методы лечения конкретных заболеваний и сообщают о них лечащим врачам. Ни один хороший современный врач не станет отрицать ценность статистики и доказательств, систематически накопленных в ходе исследований. Но отдельные врачи, убежденные в адекватности случайных данных и опирающиеся на свой личный опыт или на традицию, критикуют использование статистики и теории вероятности для определения лечения и очень неохотно соглашаются с выводами доказательной медицины. Например, невзирая на убедительные результаты исследований, потребовались годы, чтобы хирурги-онкологи перестали выполнять радикальную мастэктомию при всех случаях рака молочной железы.
То же самое касается методологии «клинических исследований» — то есть исследований с участием людей. Снова сошлемся на опыт онкологов — это Винс ДеВита, бывший директор Национального института рака, Сэмюэл Хеллман, ведущий онколог, и Стивен Розенберг, шеф Хирургического отдела Национального института рака, соавтор руководства для врачей по стандартам лечения рака. ДеВита и Розенберг считают, что тщательно контролируемые рандомизированные исследования — эксперименты, в ходе которых исследуемый метод лечения назначается случайным образом, — необходимы для выявления метода, который работает лучше всего. Однако Хеллман опубликовал статью в The New England Journal of Medicine, где доказывал, что проведение рандомизированных исследований неэтично. Согласно Хеллману, врачи должны всегда и при любых обстоятельствах применять наилучшие, по их мнению, методы и не могут полагаться на случай — даже для того, чтобы ответить на вопрос, какое именно лечение является наилучшим, и даже в том случае, если больной дает полное информированное согласие на участие в испытании.
В то же время прогресс медицины продолжался — в том числе благодаря опоре на достижения других наук. Открытия в области физики позволили ученым проследить распространение электрических импульсов вдоль нервных волокон. Химики смогли разложить клетку на компоненты. Когда же ученые начали использовать удивительный новый инструмент — микроскоп, снабженный новыми ахроматическими линзами, которые были изобретены в 30-е гг. XIX в., — перед ними открылась широкая и прежде неведомая вселенная.
В этой вселенной безусловное лидерство захватили немцы — отчасти потому, что французы реже, чем немцы, прибегали к микроскопу, а отчасти потому, что французские врачи в середине XIX в. были менее решительными в проведении экспериментов, в создании контролируемых условий для испытания природы и даже манипуляциях с ней. (Это не простое совпадение, что такие титаны французской науки, как Луи Пастер и основоположник эндокринологии Клод Бернар, проводившие эксперименты, не работали в медицинских научных учреждениях. Практически повторяя слова Хантера, сказанные им молодому Эдварду Дженнеру, Бернар заметил одному американскому студенту: «Зачем думать? Сначала исчерпывающий эксперимент, а уже потом обдумывание»[30].)
А между тем в Германии Рудольф Вирхов — и он, и Бернар окончили медицинские учебные заведения в 1843 г. — создал отдельную науку под названием «клеточная патология». В ее основу легла идея, что болезнь начинается на клеточном уровне. В Германии блестящие ученые организовали крупные лаборатории, где можно было беспрецедентным образом исследовать природу в ходе самых разных экспериментов. Якоб Генле, патологоанатом и физиолог, положивший начало современной микробиологии, вслед за Фрэнсисом Бэконом говорил: «Природа отвечает только тем, кто задает ей вопросы»[31].
Во Франции Пастер писал: «Я стою на пороге тайны, от ее открытия меня отделяет завеса, которая все утончается».
Никогда в медицине не происходило сразу столько захватывающих событий.
Тем не менее очень небольшую часть этих новых научных знаний можно было использовать в лечении или предупреждении болезней — если не считать данных по холере и брюшному тифу (но и они были признаны далеко не сразу). А многое из того, что удалось открыть, не было понято. Например, в 1868 г. один швейцарский ученый выделил дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) из клеточного ядра, но не смог понять, в чем заключается ее функция. Только через три четверти века, после завершения некоторых исследований, непосредственно связанных с пандемией гриппа 1918 г., были высказаны смутные догадки (о демонстрации и речи не шло), что ДНК является носителем генетической информации.
Как ни парадоксально это звучит, но именно прогресс медицины привел к «врачебному нигилизму». Врачи уже разочаровались в традиционных методах лечения, но заменить их было нечем. В 1835 г. в ответ на выводы Луи и других исследователей гарвардский врач Джейкоб Бигелоу в одном из выступлений заявил, сославшись на «непредвзятое мнение многих врачей, обладающих здравым суждением и длительным опытом», что «число смертей и несчастий в мире уменьшилось бы, предоставь мы все болезни их естественному течению»[32].
Это выступление вызвало мощный резонанс. Помимо всего прочего, оно показало, в каком хаосе пребывает медицина и какую растерянность испытывают практикующие врачи. Врачи отказывались от методов лечения, популярных всего лишь несколькими годами ранее и, уверившись в бесполезности терапии, все реже вмешивались в ход заболеваний. В Филадельфии в начале XIX в. Бенджамин Раш, напомним, призывал к кровопусканиям, и ему бешено аплодировали. В 1862 г. в той же Филадельфии было проведено статистическое исследование, выявившее, что при лечении 9502 больных врачи прибегли к кровопусканию «только в одном случае»[33].
Простые пациенты тоже потеряли веру в «героическую медицину» и очень неохотно соглашались на ее пыточные способы исцеления. А поскольку новые знания, которые накапливала традиционная медицина, пока не порождали новых способов борьбы с заболеваниями, то начали появляться альтернативные идеи, касающиеся причин болезней и методов лечения. Некоторые из них были откровенно псевдонаучными, а другие больше походили на какое-то сектантство.
Этот хаос, надо сказать, творился не только в Америке. Показательный пример — Самуэль Ганеман из Германии, придумавший гомеопатию: свои идеи он опубликовал в 1810 г., то есть еще до того, как немецкая наука стала играть ведущую роль в Европе. Но нигде не было так легко ниспровергать авторитеты, чем в Америке. И нигде хаос не был столь обширен.
Сэмюэл Томпсон, основатель движения, получившего его имя и снискавшего большую известность по всей стране перед Гражданской войной, утверждал, что медицина достаточно проста для того, чтобы ею мог овладеть каждый, — и, следовательно, любой человек может выступать в роли врача. «Возможно, скоро наступит такое время, когда мужчины и женщины станут сами для себя священниками, врачами и адвокатами; случится это, когда самоуправление, равные права и философия нравов вытеснят мошенничество и мошенников всех мастей»[34], — говорилось в одной из статей в защиту томпсонизма. В системе Томпсона пропагандировалась «ботаническая» медицина, и он замечал: «Ложные теории и гипотезы захлестнули физику»[35].
Томпсонизм был одним из самых популярных движений любительской медицины, но не единственным. По всей стране, особенно в провинции, появлялись общества, которые нельзя было назвать иначе как религиозными сектами. Отношение к врачам было емко выражено в одном незатейливом «томпсонистском» стишке:
- Есть у нас три ученые птицы:
- Теология, физика, право.
- Им позволено вместе гнездиться,
- Нет на них ни силков, ни управы.
- Должен каждый из нас быть готов
- Гнать священников и докторов[36].
Эти идеи распространялись все шире, беспомощность врачей делалась все заметнее, президент Эндрю Джексон все громче пропагандировал демократию и всеобщее равенство — а американская медицина между тем превращалась в настоящий фронтир, дикий, неуправляемый и готовый принять любого проходимца. В XVIII в., еще при британском владычестве, были снижены требования к выдаче врачебных лицензий. Теперь же законодательство нескольких штатов вообще отказалось от лицензирования врачей. Зачем и кому нужны эти дурацкие требования? Что вообще знают эти врачи? Они что, могут кого-то вылечить? Один журналист писал в 1846 г.: «Нигде в мире нет более аристократической монополии, чем монополия официальной медицины, но нигде в мире нет и такого низкого мошенничества»[37]. В Британии звание «профессор» было закреплено за теми, кто занимал места на университетских кафедрах, и даже после того, как Джон Хантер привнес в хирургию научный метод, хирургов чаще именовали просто «мистер». В Америке обращений «профессор» и «доктор» удостаивались все, кто на это претендовал. Еще в 1900 г. фармацевтические лицензии выдавал 41 штат, в 35 лицензировали дантистов, и только в 34 — врачей[38]. В одной типичной статье в медицинском журнале за 1858 г. автор вопрошал: «По какой причине американская общественность так не уважает профессию врача?»[39]
С началом Гражданской войны американская медицина сделала шажок вперед — но очень маленький шажок. Самый впечатляющий прогресс произошел в хирургии. Этому во многом способствовала анестезия, впервые продемонстрированная в Массачусетской больнице общего профиля в 1846 г. И если Гален изучил анатомию, врачуя раны гладиаторов, то американские хирурги многому научились на войне, обогнав своих европейских коллег.
Правда, в случаях инфекционных и прочих заболеваний врачи продолжали терзать пациентов горчичными пластырями вплоть до волдырей, а также травили мышьяком, ртутью и другими ядами. Слишком многие врачи продолжали цепляться за великие философские доктрины, и Гражданская война показала, что французское влияние на американскую медицину невелико. Европейские медицинские школы призывали вооружиться термометрами, стетоскопами и офтальмоскопами, но американцы редко ими пользовались: достаточно сказать, что на всю Федеральную армию едва ли приходилось с полдюжины термометров. Американцы продолжали утолять боль раненых опиатными присыпками, а не вводили опиум шприцами. Когда же начальник медицинской службы Федеральной армии Уильям Хаммонд запретил применять самые свирепые слабительные, на него подали в суд и исключили из Американской медицинской ассоциации[40].
После Гражданской войны Америка продолжала штамповать все новые и новые системы лечения — «простые», «всеобъемлющие» и «самодостаточные». Две из них, хиропрактика и Христианская наука, живы до сих пор. (Объективные данные говорят о том, что хиропрактика эффективно облегчает симптоматику скелетно-мышечных поражений, но нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения хиропрактиков, будто все болезни вызваны нарушениями взаимного расположения позвонков.)
Медицина открывала новые лекарства — хинин, дигиталис и опий — которые приносили ощутимую пользу, но, как заметил по этому поводу один историк, их начали постоянно прописывать для лечения всех болезней без разбора, за их общее воздействие на организм, а не на какую-то специфическую причину. С такой «общей» целью, а не только при малярии, назначали даже хинин[41]. Поэтому американский врач Оливер Уэнделл Холмс-старший (отец выдающегося правоведа) не сильно преувеличил, заявив: «Я глубоко убежден, что если всю materia medica, которую применяют сейчас в медицине, утопить в морских пучинах, то это будет благом для людей — и великим горем для рыб»[42].
Об Америке можно сказать и еще кое-что. Она страшно практична. Нацию переполняла энергия, американцы не терпели ни болтовни, ни бессмысленных мечтаний, ни пустой траты времени. В 1832 г. Луи предложил одному из своих любимых учеников — американцу — позаниматься несколько лет наукой, прежде чем приступить к медицинской практике. Отец этого студента тоже был врачом, основателем Массачусетской больницы общего профиля. Звали его Джеймс Джексон, и он с презрением отверг совет Луи его сыну: «В нашей стране это покажется столь странным, что вызовет полное отчуждение коллег. Мы деловые люди… Нам предстоит сделать очень многое, а тот, кто не будет работать, покажется последним тунеядцем»[43].
Одно то, что наука ставит под сомнение традиционные терапевтические подходы, отбивало у американских учреждений охоту ее поддерживать. Тем не менее в Америке процветали физика, химия, техника. Резко увеличилось количество инженеров — от 7 тысяч в конце XIX в. до 226 тысяч сразу после Первой мировой войны[44]. Эти инженеры были способны на невероятное. Они превратили производство стали из искусства в науку, изобрели телеграф, проложили кабель, соединивший Америку с Европой телеграфной связью, построили железные дороги, которые пересекли всю страну из конца в конец, построили небоскребы, рвавшиеся к облакам, изобрели телефон — на очереди были автомобили и аэропланы. Мир стремительно менялся. То, что люди узнавали о биологии в лабораториях, дополняло фундаментальную науку. И все же лабораторные исследователи, доказав бесполезность старой медицинской практики, так и не смогли предложить ничего взамен, если не считать анестезиологию.
Тем не менее в Европе к 70-м г. XIX в. медицинские учебные заведения требовали серьезных знаний и давали качественное научное образование, получая значительные государственные субсидии. В отличие от Европы, большинство американских медицинских школ принадлежало преподавателям, чье жалованье — даже если не они владели школой — оплачивалось из средств, вносимых студентами в качестве платы за обучение, поэтому единственным условием поступления была платежеспособность. Ни одна медицинская школа в Америке не допускала студентов к вскрытиям и не устраивала осмотры пациентов; все медицинское образование часто состояло всего лишь из двух лекционных семестров, каждый по четыре месяца. Очень немногие медицинские школы имели связи с университетами, еще меньше — с госпиталями. В 1870 г. даже в Гарварде студент-медик мог провалить четыре из девяти экзаменов — но все же получить диплом доктора медицины[45].
Несмотря на это, в США находились ученые-одиночки, которые проводили исследования (и подчас выдающиеся), но их не поддерживало ни одно учебное заведение. Сайлас Уэйр Митчелл, ведущий американский физиолог-экспериментатор, некогда признался, как боялся всего, что «отнимало время и силы от поиска новых истин, окруживших меня плотным кольцом»[46]. Однако в 70-е гг. XIX в., когда Митчелл уже был всемирно известен благодаря своим экспериментам со змеиным ядом (впоследствии они привели его к пониманию основ иммунитета и созданию противоядий), ему было отказано в должности преподавателя физиологии в Пенсильванском университете и в Джефферсоновском медицинском колледже — эти учебные заведения не проявили интереса ни к исследованиям, ни к открытию лабораторий для обучения студентов и научной работы. В 1871 г. при Гарвардском университете была создана первая и единственная в Америке лаборатория экспериментальной медицины, но ее задвинули буквально на чердак, а ее работу оплачивал из своих средств отец профессора. А в том же 1871 г. один гарвардский профессор патологической анатомии признался, что не умеет пользоваться микроскопом[47].
Но в 1869 г. президентом Гарварда стал интеллектуал Чарльз Элиот (у него от рождения была изуродована половина лица, и он всегда фотографировался только в профиль). Вступая в должность, он заявил: «Вся система медицинского образования в этой стране требует полного реформирования. Невежество и полная некомпетентность среднего выпускника американских медицинских школ, когда он входит во врачебное сообщество, не вызывают ничего, кроме ужаса»[48].
Вскоре после этого выступления свежеиспеченный выпускник Гарвардской медицинской школы убил трех пациентов подряд, так как не знал, какая доза морфия смертельна. Но и этот скандал помог Элиоту провести лишь очень скромные реформы — приходилось преодолевать и сопротивление профессорско-преподавательского состава. Профессор хирургии Генри Бигелоу, один из самых влиятельных сотрудников, обратился к попечительскому совету Гарварда с протестом: «[Элиот] и в самом деле предлагает ввести письменный экзамен на степень доктора медицины. Мне пришлось сказать ему, что он не имеет никакого представления о качестве подготовки гарвардских студентов-медиков. Более половины из них едва умеют писать. Конечно же, они не смогут сдать письменный экзамен… Ни одна медицинская школа не сочтет правильным рисковать количеством вносящих щедрую плату студентов, вводя более строгие стандарты»[49].
На самом же деле многие американские врачи были просто восхищены лабораторными достижениями европейских ученых — но американцам, желавшим по-настоящему учиться, приходилось ехать в Европу. А после возвращения им было практически негде применять полученные знания и навыки. Ни одно учреждение в Соединенных Штатах не поддерживало какие бы то ни было медицинские научные исследования[50].
Один американец, учившийся в Европе, вспоминал: «В Германии меня часто спрашивали, как получилось, что у нас в стране не занимаются никакой медицинской научной работой, как получилось, что многие прекрасные люди, хорошо зарекомендовавшие себя в Германии и выказавшие незаурядные таланты, не занимаются научной работой, вернувшись домой. Ответ заключается в том, что здесь для этого нет никаких возможностей, здесь нет потребности в такой работе… Состояние медицинского образования здесь просто ужасное»[51].
Джонс Хопкинс умер в 1873 г., оставив после себя фонд в 3,5 миллиона долларов на учреждение университета и госпиталя. На тот момент это было крупнейшее пожертвование на строительство университета. «Библиотека» Принстонского университета в то время состояла из нескольких жалких книг и работала всего лишь один час в день. Немногим лучше обстояли дела в Колумбийском университете: его библиотека работала два часа в день, но студентам младших курсов можно было попасть в нее только по особому разрешению. Лишь 10 % преподавателей Гарвардского университета имели степень доктора философии.
Попечителями фонда Хопкинса были квакеры, люди неторопливые, но решительные. Вопреки советам президента Гарварда Чарльза Элиота, президента Йеля Джеймса Баррила Энджелла и президента Корнеллского университета Эндрю Уайта[52], они решили построить новое учебное заведение по образцу немецких университетов, наполнив его учеными, создающими новые знания, а не только вещающими с кафедры общепринятые истины.
Попечители приняли это решение именно потому, что в Америке не было таких университетов; именно потому, что они это поняли, проведя, выражаясь современным языком, маркетинговое исследование. Один из членов попечительского совета позже говорил: «У молодых людей в нашей стране была огромная потребность в образовании, выходящем за рамки обычных курсов колледжей или университетов… Самым надежным свидетельством такой потребности был рост числа студентов-американцев, посещающих лекции в немецких университетах»[53]. Попечители решили, что этот товар удастся выгодно продать. Они были твердо намерены нанять самых лучших профессоров и создать условия для передового обучения.
За их планом стояла чисто американская дерзость: устроить революцию на пустом месте. Казалось бы, не было никакого смысла учреждать новое учебное заведение в Балтиморе, грязном промышленном и портовом городе. В отличие от Филадельфии, Бостона или Нью-Йорка, в Балтиморе не было ни традиций филантропии, ни общественной элиты, готовой возглавить новое движение, ни нескольких поколений интеллектуалов. Даже архитектура Балтимора была бесконечно унылой — длинные ряды одинаковых домов c неизменными тремя ступеньками. Дома теснились вдоль улиц — совершенно безлюдных улиц: казалось, что люди в Балтиморе либо сидят по домам, либо гуляют исключительно во внутренних дворах.
Словом, никакого фундамента для основания университета в Балтиморе не было. Были только деньги — и это еще одна чисто американская черта.
На должность президента попечители пригласили Дэниела Койта Гилмана, который покинул недавно организованный Калифорнийский университет после конфликта с законодателями штата. Ранее он участвовал в создании Шеффилдской школы наук (при Йельском университете, но независимую от него), а затем ее возглавил. Эта школа была создана отчасти из-за того, что руководство Йельского университета не пожелало сделать науку основой учебного плана.
Гилман тут же начал собирать в Университете Хопкинса преподавателей, имевших международный авторитет и международные связи, что сразу добавило веса новому учебному заведению. А такие европейцы, как Гексли, усмотрели в Университете Хопкинса удачное сочетание взрывной энергии и открытости американцев с передовой наукой: такое сочетание могло потрясти мир.
Для того, чтобы воздать честь Университету Хопкинса в самом начале его деятельности, чтобы поддержать веру его основателей в свои силы, Томас Гексли и прибыл в Америку.
Университет должен был отличаться строгими нравами и правилами. И он действительно станет самым строгим учебным заведением из всех, какие знала Америка.
Университет Джонса Хопкинса открылся в 1876 г. Медицинская школа при нем появилась позже, в 1893 г., но она развивалась так быстро и сверкала так ярко, что к началу Первой мировой войны американская медицинская наука догнала европейскую и была уже готова ее превзойти.
Грипп — это вирусное заболевание. Если он убивает, то, как правило, одним из двух способов: либо быстро и непосредственно за счет жесточайшей вирусной пневмонии, которую сравнивают с пожаром в легких, либо медленно и опосредованно, ослабляя иммунитет и открывая ворота для бактерий, которые поражают легкие, долго и мучительно убивая больного бактериальной пневмонией.
К началу Первой мировой войны те, кто учился в Университете Джонса Хопкинса, уже были мировыми лидерами по изучению пневмонии, болезни, которую называли в то время «предводителем вестников смерти». В некоторых случаях им удавалось предотвращать и даже лечить пневмонию.
Повествование о них надо начать с рассказа об одном человеке.
Глава вторая
В детстве и юности этого человека не было ничего, что предвещало бы его необыкновенное будущее.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что лучшие его биографии начинаются не с детства, а… с празднования восьмидесятилетнего юбилея в 1930 г.[54] Друзья, коллеги и почитатели собрались в тот день для чествования юбиляра не только в Балтиморе, где он жил, но и в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, в Чикаго, Цинциннати и Лос-Анджелесе, в Париже, Лондоне, Женеве, Токио и Пекине. Участники торжеств связывались друг с другом по телеграфу и радио, а время торжеств было установлено так, чтобы они перекрывали друг друга, насколько это возможно при разнице во времени. В банкетных залах присутствовало множество ученых из самых разных областей науки, включая нескольких нобелевских лауреатов. С приветствием к юбиляру обратился президент Герберт Гувер, и его речь на торжестве транслировали все американские радиостанции.
Это чествование было посвящено Уильяму Генри Уэлчу — на тот момент, возможно, самому влиятельному ученому в мире. Он был президентом Национальной академии наук, президентом Американской ассоциации научного прогресса, президентом Американской медицинской ассоциации, а также возглавлял добрый десяток других научных организаций (или был в них весьма влиятельной фигурой). В те времена, когда не существовало никаких государственных фондов для поддержки научных исследований, он, будучи одновременно председателем исполнительного комитета Института Карнеги в Вашингтоне и многолетним, в течение 32 лет, президентом совета научных директоров Рокфеллеровского института медицинских исследований (ныне Рокфеллеровский университет), он распределял денежные поступления от двух крупнейших филантропических организаций США.
Но при этом сам Уэлч не был первопроходцем даже в своей собственной отрасли, в медицине — он не снискал лавров Луи Пастера, Роберта Коха, Пауля Эрлиха или Теобальда Смита. Он не породил ни одной блистательной научной идеи, не сделал ни одного грандиозного открытия, не задавался глубокими и значимыми научными вопросами, не оставил после себя ценных записей в лабораторных журналах и в личных дневниках. У него было слишком мало работ — беспристрастный судья сказал бы, что он не написал ни одной работы, достойной поста президента Национальной академии наук.
Тем не менее сотни ведущих ученых с мировыми именами исчислили и взвесили его заслуги (хладнокровно и объективно, как они исчисляли и взвешивали все) — и нашли их огромными. В тот день они собрались, чтобы воздать Уэлчу заслуженные почести — не за его собственные научные заслуги, а за все, что он сделал для науки.
В течение его жизни мир радикально изменился, на смену лошадиной тяге и телегам пришли радио, аэропланы и даже первые телевизоры. Была придумана «Кока-Кола», которая к 1900 г. уже триумфально шествовала по миру; к 1920-м гг. у Вулворта было уже более 1500 магазинов[55]; технократическое преображение Америки сопровождало Эпоху прогресса, кульминацией которой стала конференция по воспитанию детей, проведенная в Белом доме в 1930 г. В ходе этой конференции было заявлено, что специалисты по воспитанию превосходят своими достоинствами родителей, поскольку «воспитать своего ребенка так, чтобы он смог вписаться в сложную, запутанную и многогранную социально-экономическую систему созданного нами мира, не способен ни один родитель»[56].
Уильям Генри Уэлч — самый влиятельный и компетентный человек в истории американской медицины. Один из его коллег как-то заметил, что «он мог преобразить жизнь человека простым щелчком пальцев». Когда Уэлч впервые присутствовал на вскрытии умершего от гриппа, он сказал: «Должно быть, это какая-то новая инфекция или чума».
Естественно, Уэлч не имел никакого отношения к этим переменам, однако он сыграл непосредственную (и выдающуюся) роль в таком же преображении медицины — и в особенности американской медицины.
Его имя служило парадной вывеской, а его собственный опыт воплощал и отражал опыт множества людей его поколения. Но он не был просто символом и «типичным представителем». Подобно гравюрам Маурица Эшера, его жизнь и вытекала из жизни других, и одновременно определяла жизни тех, кто будет после него, и тех, кто придет потом, и тех, кто родится у них… и так далее, до наших дней.
Уэлч не совершил никакой революции в науке — революцией была вся его жизнь. Он был личностью — и вместе с тем театром; он был одновременно импресарио, драматургом, строителем. Он, подобно театральному актеру, играл собственную жизнь как единственный спектакль, который произвел неизгладимое впечатление на зрителей, а через них воздействовал и на других людей — уже за пределами театра. Строго говоря, Уэлч стоял во главе движения, создавшего великолепный и дерзкий научно-медицинский проект — возможно, величайший научно-медицинский проект в мировой истории. Наследие Уэлча не поддается объективному измерению, но оно было реальным. Это наследие — в его способности обращаться к человеческим душам.
Уэлч родился в 1850 г. в Норфолке, в маленьком захолустном городке на севере штата Коннектикут, где леса перемежаются с холмами. Дед Уэлча, брат деда, отец и четыре его брата были врачами. Отец даже побывал членом конгресса штата и в 1857 г. выступил с обращением к выпускникам Йельской медицинской школы. В нем он коснулся важности развития медицины, упомянув методы, о которых в Гарварде до 1868 г. даже не заговаривали, а также удивительную новую «клеточную теорию и ее влияние на представления о физиологии и патологии». Кроме того, Уэлч-старший сослался на труды Рудольфа Вирхова, которые в то время публиковались только в немецкоязычных журналах[57]. Он также заявил: «Все полученное до сих пор положительное знание… вытекает из точного наблюдения за фактами»[58].
Казалось, Уэлчу на роду было написано стать врачом, но жизнь распорядилась иначе. Много лет спустя он признавался своему протеже, великому хирургу Харви Кушингу, что в юности медицина внушала ему отвращение[59].
Вероятно, отчасти это отвращение было обусловлено условиями, в которых рос Уэлч. Мать его умерла, когда мальчику было полгода. Сестра воспитывалась в другой семье с трехлетнего возраста, а отец был эмоционально холоден и редко баловал сына общением. Всю жизнь Уэлч испытывал к своей сестре сильнейшую привязанность — большую, чем к кому бы то ни было на свете. Их переписка ясно говорит о том, какой близости всегда не хватало Уэлчу.
Детство его было отмечено тем, что определит всю его дальнейшую жизнь: одиночеством, замаскированным бурной деятельностью. Сначала он пытался приспособиться. Он рос отнюдь не в изоляции. По соседству жила семья его дяди, и он постоянно играл с двоюродными братьями, своими ровесниками. Но Уэлчу не хватало более тесной родственной близости, и он просил кузенов называть его «братом»[60]. Они отказывались. Он и потом будет пытаться сблизиться с окружавшими его людьми, чтобы быть причастным к их обществу… В 15 лет он с юношеским пылом присоединился к евангелической общине и во всеуслышание объявил себя верующим христианином.
Он поступил в Йельский университет, не ощущая никакого противоречия между своей религиозной верой и наукой. В колледже Уэлча учили чисто техническим, инженерным дисциплинам; в те годы, сразу после Гражданской войны, преподаватели намеренно держались в стороне от брожения умов, позиционируя себя как консерваторов и конгрегационалистов в противовес гарвардскому унитаризму. Но если интеллектуальные интересы Уэлча определились только после окончания колледжа, то личность его уже была окончательно сформирована. Особенно выпукло выступали три его качества. Их сочетание оказалось на редкость мощным.
С детства Уэлч отличался острым умом — на момент окончания школы он был третьим учеником в своем классе. Однако впечатление, которое он производил на окружающих, было обусловлено не его блистательным интеллектом, а обаянием его личности. Он обладал необычайной способностью с жаром отдаваться делу, но при этом смотреть на него как бы со стороны. Однокашник Уэлча вспоминал, что «он был единственным, кто сохранял хладнокровие» во время самых жарких споров, — и эта черта сохранялась у него до самой смерти.
В нем было нечто заставлявшее других искать его хорошего отношения. В те времена в студенческих коллективах Америки было принято издеваться над младшекурсниками, причем порой настолько жестоко, что новичкам советовали иметь при себе пистолет, чтобы защититься от нападений. Однако Уэлч избежал этой участи. «Череп и кости» — вероятно, самое засекреченное студенческое тайное общество в США, члены которого были накрепко связаны круговой порукой, — приняло Уэлча в свои ряды, и он всю жизнь был тесно с ним связан. Наверное, это отвечало его вечному стремлению принадлежать какому-то тесному сообществу. Однако, как бы то ни было, прежнее отчаянное стремление к принадлежности сменилось у него чувством самодостаточности. Студент, живший с ним в одной комнате, оставил Уэлчу, уезжая, такую записку: «Должен сказать, что я в неоплатном долгу перед тобой за твою доброту и за пример, который ты всегда мне подавал… Сейчас я невероятно остро чувствую истинность того, что всегда говорил другим, но не тебе, — я совершенно недостоин такого соседа, как ты. Я всегда жалел, что тебе приходилось делить со мной кров, хотя я был много ниже тебя по способностям, достоинствам, да и по всем благородным и хорошим качествам…»[61].
Иной биограф смог бы углядеть в этом послании гомосексуальный оттенок. Может, и так. Был еще по крайней мере один человек, позже посвятивший себя Уэлчу с пылом, который можно было бы при желании назвать страстью. Впрочем, надо отметить, всю свою жизнь Уэлч каким-то непостижимым способом вызывал у многих людей сходные чувства, пусть и не такие яркие. И делал он это без малейших усилий. Он легко очаровывал. Ему не нужно было отвечать на чужую симпатию — и уж тем более не нужно было самому к кому-то привязываться. Короче, Уэлч обладал тем, что сейчас называют модным словом «харизма».
Авторитет Уэлча на курсе дал ему право выступить с речью на церемонии вручения дипломов. В своей студенческой работе, озаглавленной «Упадок веры», Уэлч обрушился с критикой на механистическую науку, которая рассматривала мир как машину, «не направляемую справедливым Богом». Теперь же, в 1870 г., через год после выхода в свет книги Дарвина «О происхождении видов», Уэлч в своей речи попытался примирить науку и религию.
Задача оказалась не из легких. В любые времена наука становится потенциально революционной силой: любой новый ответ на кажущийся обыденным и простым вопрос «Как?» может вскрыть цепь причинно-следственных связей, способную разбить в прах весь прежний порядок вещей, а иногда и угрожать религиозной вере. Уэлч и сам, как и многие во второй половине XIX в., ощущал эту боль: люди взрослели и видели, как наука вытесняет устоявшийся естественный, божественный порядок. Его заменил порядок человеческий, суливший неизвестность и, как писал Мильтон в «Потерянном рае», «потрясший ужасом… царство Хаоса и древней Ночи»{2}.
Отступив на шаг от того, что говорил ему отец 12 лет назад, Уэлч отверг веру унитарианцев и воззрения Ральфа Уолдо Эмерсона — философа, пастора и писателя, вернувшись к необходимости черпать истину в Священном Писании. Теперь он утверждал, что откровение не должно подчиняться рассудку, и признавал существование вещей, которые «человек не сможет открыть светом собственного разума»[62].
В итоге Уэлч посвятит жизнь открытию мира «светом собственного разума» и будет побуждать к этому других. Но тогда у него были иные взгляды…
В университете он изучал классическую филологию и надеялся, что будет преподавать греческий язык в Йеле. Однако университет не дал ему такой возможности, и Уэлч устроился на должность учителя в одной новой частной школе. Школа скоро закрылась, места в Йельском университете для него по-прежнему не было, и Уэлч, не зная, куда податься, уступил настояниям семьи: решил заняться медициной, вернулся в Норфолк и стал учеником собственного отца.
Это была давнишняя, проверенная временем практика. То, чем занимался отец, ни в коей мере не отражало новейшие медицинские концепции. Как и большинство американских врачей, он пренебрегал объективными исследованиями — измерением температуры и артериального давления, а при изготовлении микстур и прочих лекарств не прибегал к взвешиванию, часто полагаясь на чутье. Период ученичества стал для Уэлча самым безрадостным временем. В своих воспоминаниях он избегал упоминания о нем — будто его никогда и не было. Однако �