Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР
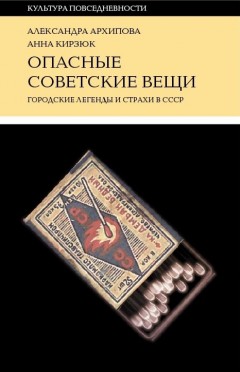
Предисловие
О чем эта книга?
«Ну и зачем вы, девочки, изучаете такую ерунду, кому это нужно?» – спросил нас на российской конференции один историк. У нас достаточно самоиронии, чтобы задать себе тот же самый вопрос, а заодно и вспомнить Николая Васильевича Гоголя, который в заключении к повести «Нос» написал: «Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы».
Сюжеты, о которых пойдет речь в этой книге, выглядят не намного более правдоподобными, серьезными и значительными, чем «необыкновенно странное происшествие», рассказанное Гоголем. Мало того, если одни наши собеседники, бывшие жители СССР, наперебой вспоминают истории о жвачках, коварно отравленных иностранцами, или об американских джинсах со вшами, то другие с недоумением пожимают плечами и говорят, что никогда не слышали подобной чуши. Некоторые даже считают, что все эти истории мы выдумали сами, как, например, наш респондент 1952 года рождения:
У меня как и у многих моих сверстников было счастливое советское детство, все ваши вопросы страшилки из настоящего, а по отношению к прошлому они антиисторичны, антинаучны и мифологичны[1],[2].
К сожалению, такие «антиисторичные, антинаучные и мифологичные» истории действительно существовали, но к написанию этой книги нас побудил не всплеск эстетической любви к страшным историям. Рассказ, который в 1980‐х годах слышала наша московская собеседница, – будто бы соседка ловит детей, сцеживает из них кровь и наполняет ею стержни для шариковых ручек, чтобы их продать[3], – кажется нелепой детской страшилкой. Однако ее истоки – это легенда о «кровавом навете» (обвинение евреев в ритуальном убийстве детей), и она совсем не такая безобидная. В советское время легенда теряет свою религиозную составляющую – в секуляризированной версии похищение детей происходит, потому что евреям просто «так надо» или они преследуют свои корыстные интересы. В 1950 году в Москве толпа собралась линчевать несуществующую банду евреев, которые ловят детей, сцеживают кровь для «таблеток от омолаживания», а мясо продают на рынке[4]. В 1958 году в литовском городе Плунге, после того как шестилетний ребенок рассказал ту же самую легенду о похищении девочки для получения крови, толпа в шестьсот человек чуть не растерзала соседа-еврея, на которого указал мальчик[5]. Сейчас, в 2017–2019 годах, мы постоянно видим в соцсетях предупреждения об опасном американском или израильском парацетамоле с проволокой внутри: «Сейчас производят и продают в аптеках парацетамол производство Израиля. Который содержит в себе железную ядовитую проволоку. Которая приводит к смерти»[6]. Но этот сюжет совсем не нов: в феврале 1953 года сразу в нескольких украинских городках люди штурмовали больницы, требуя наказать врачей, которые будто бы дают им таблетки с проволокой внутри, а также заражают детей болезнями через прививки и снабжают аптеки ватой, зараженной тифом (см. подробнее с. 355–363).
В 1937 году советских граждан преследовал плохо понятный нашему современнику страх: они повсюду – то на срезе колбасы, то на зажиме для пионерского галстука – видели свастику или профиль Троцкого. Сейчас это тоже кажется нам нелепостью, но тогда этот слух стал поводом для закрытия фабрик, увольнения и ареста многих людей.
Хорошо, такие истории действительно существовали, – скажет наш воображаемый оппонент. Однако, возвращаясь к Гоголю: в чем польза отчеству? Зачем изучать подобные «страшилки»? И зачем их изучать именно антропологам и фольклористам?
Фольклористы называют такие истории – фактически ложные, но правдоподобные для рассказчика – городскими легендами. Их действие разворачивается в настоящем, в недалеком прошлом или в недалеком будущем, в привычных для аудитории реалиях. Не будет большим упрощением сказать, что городская легенда – это тот же слух. Если кратко (детали описаны в первой главе), то различие между ними состоит в том, что слух представляет собой короткое сообщение, а городская легенда – более или менее развернутый рассказ. Для нас это различие между слухом и легендой в целом не важно. Наша цель – ответить на вопрос о причинах возникновения и популярности таких историй, поэтому мы спрашиваем себя в первую очередь о том, почему сама идея, например о существовании иностранцев-отравителей, оказалась важной для распространения.
Конечно, историки тоже изучают советские слухи, но для них такие тексты являются, как правило, прямым отражением общественных настроений. Например, антиколхозные слухи 1920‐х годов («в колхозе жены общие», «всем ставят печать Антихриста») рассматриваются как прямое свидетельство массового нежелания крестьян идти в колхозы. В подобном ключе с советскими слухами работают, в частности, авторы сборника «Слухи в истории России» под редакцией Игоря Нарского[7]. Однако если антиколхозные легенды и поддаются такому прямолинейному объяснению, то легенды о черной «Волге», ворующей детей, или о красной пленке, которая позволяет видеть людей голыми, невозможно прямо объяснить отражением массовых протестных настроений.
Мы же, антропологи и фольклористы, считаем, что легенда не просто отражает реальность, но позволяет человеку (рассказчику или слушателю) совершить некую «работу» с этой реальностью, артикулируя наличие проблемы или символически решая ее.
В 2004 году американский фольклорист Дайан Голдстейн, изучая легенды о ВИЧ-инфицированных иголках, которые будто бы поджидают ни о чем не подозревающих людей в креслах кинотеатров или в ночных клубах, замечает, что во всех таких рассказах заражение происходит без сексуального контакта, в общественном пространстве, а антагонистом является анонимный чужак. В то же время современная этим историям медицина убеждает горожан, что источником заражения ВИЧ может стать сексуальный партнер (в том числе и постоянный). Таким образом, истории об опасных иголках экстернализируют риск и утверждают нечто прямо противоположное тому, что утверждается специалистами: «опасность исходит от общественных мест и анонимных чужаков». Подобные легенды дают возможность обществу сопротивляться власти официальной медицины и изобразить реальность такой, какой бы ее хотела видеть аудитория легенды[8].
Таким образом, для нас связь события и текста легенды не всегда такая прямая, как это кажется историкам. Если житель СССР был недоволен происходящим, он необязательно распространял «порочащие слухи о руководителях партии и правительства» (как написали бы в приговоре сталинской эпохи). Так, в 1953 году один тракторист был недоволен происходящим в стране (голодом, нищетой, произволом начальства и социальным неравенством), но верил родной партии и лично товарищу Сталину, поэтому виновниками всех бед послевоенного СССР он назначил евреев. Он послал в Политбюро (Политбюро de facto являлось верховным государственным органом) анонимное письмо, в котором рассказал о тайной еврейской жене Сталина, которая «на самом деле» подчинила себе вождя и всем заправляет, и о евреях, которые хотят погубить русский народ[9]. Такие легенды помогли нашему трактористу (который недолго оставался анонимным) решить сразу две задачи: они дали понятное и непротиворечивое объяснение ситуации и одновременно указали, на какой объект можно направить накопившийся гнев.
Слухи и городские легенды, в том числе и страшные истории, возникают и распространяются потому, что люди в них нуждаются. Вся наша книга по сути посвящена трем вопросам: как в СССР возникали тексты об опасных вещах, объектах и явлениях, по какой причине они становились популярными и как они влияли на поведение людей. Поэтому читатель не найдет в ней историй про «красную руку», хватающую спящих детей, или про наделенный способностью к самостоятельному передвижению «гроб на колесиках». Подобные объекты, о которых многие слышали в детстве во время обмена страшилками в летних лагерях, отличаются от «опасных вещей» из нашей книги своей сверхъестественной природой: никто никогда не видел на городской улице «гроб на колесиках», но все жители позднесоветского города сталкивались с черной «Волгой». Мы будем говорить об опасности тех вещей и явлений, с которыми советский человек регулярно имел дело в своей повседневной жизни – будь то зажимы для пионерских галстуков или автоматы с газированной водой.
Конечно, мы не первые в мире изучаем городские легенды и объясняем причины их возникновения и бытования. Но другие исследователи задавали вопросы применительно к другим, не советским текстам, и делали это, как правило, не на русском языке. Именно поэтому мы решили не ограничиваться кратким теоретическим обзором, а написать отдельную главу (она открывает нашу книгу) – о том, как антропологи, социологи и фольклористы пытались и пытаются объяснить, почему существуют городские легенды.
Остальные пять глав – тематические[10], но выбор тем не случаен. Вторая и третья главы рассказывают о городских легендах, распространение которых было инициировано «сверху». В главе «Опасные знаки и советские вещи» речь идет о сюжетах, которые появились благодаря официальной пропаганде эпохи Большого террора, призывающей граждан разоблачать происки вездесущих «врагов», а в главе «Как легенда стала идеологическим оружием» говорится о том, как советские пропагандисты начали использовать слухи и легенды для влияния на «настроения населения».
Четвертая, пятая и шестая главы рассказывают о городских легендах, которые появлялись и распространялись между советскими гражданами на «горизонтальном уровне», не по воле властных институтов. Иногда эти легенды подкрепляли утверждения официальной пропаганды, иногда – творчески перерабатывали и дополняли их, а иногда прямо оспаривали. Читатель узнает, какие реалии городской жизни становились предметами пугающих рассказов (глава «Свои чужие опасные вещи»), какие слухи и легенды предостерегали от взаимодействий с чужаками в разные периоды советской истории (глава «Чужак в советской стране»), а также какие недетские страхи нашли отражение в легендах советских детей (глава «Взрослые страхи и детские легенды»).
Конечно, отдельные сюжеты городских легенд оказываются в самых неожиданных местах книги, поэтому мы сделали краткий (и надеемся, что довольно веселый) перечень сюжетов советских городских легенд с отсылками к основному тексту. И, кроме того, в конце книги вы найдете список научных терминов.
Мы старались писать книгу так, чтобы исследования антропологов и фольклористов были понятны всем, а не только узким специалистам. Добились ли мы этой цели – судить вам, дорогой читатель.
Благодарности
Эта книга писалась долго и не могла бы состояться без помощи многих людей. В первую очередь мы должны сказать спасибо всем нашим собеседникам, которые терпеливо заполняли опросники и делились с нами своими воспоминаниями о советской жизни письменно и устно. Также мы благодарны участникам семинаров «Фольклор и постфольклор» в Центре типологии и семиотики фольклора (РГГУ, Москва) и «Литература и фольклор» в Пушкинском Доме (Санкт-Петербург) за обсуждение нескольких частей этой книги.
Отдельную признательность мы выражаем Сергею Неклюдову, Галине Юзефович, Алексею Титкову, Александру Панченко, Иэну Броди, Дмитрию Козлову, Александру Фокину, Иосифу Зислину, Израилю Шустерману, Алексею Попову, Никите Петрову, Лете Югай, Ольге Беловой, Вадиму Лурье, Надежде Рычковой, Льву Оборину, Илье Беру, Анастасии Жупахиной, Елене Михайлик за указания на источники и ценные замечания, высказанные по поводу отдельных фрагментов книги. Огромная благодарность Валерию Дымшицу, который прочитал несколько глав и сделал ряд крайне ценных замечаний и добавлений, а также Международному Мемориалу (Москва) и его сотрудникам Наталье Дашевской и Анне Булгаковой за предоставление иллюстраций.
Многие части этой книги не были бы написаны, если бы не бесценная помощь сотрудников архивов в разных странах, в первую очередь – Габриэля Суперфина, создателя Исторического архива в Институте исследований Восточной Европы в Бремене (Германия); Вениамина Лукина, заведующего Восточноевропейским отделом Центрального архива истории еврейского народа (Иерусалим); архивиста Центрального архива истории еврейского народа Анастасии Глазановой и архивиста Архива Яд-Вашема в Иерусалиме Полины Идельсон, создателя проекта «Зикарон» («Память») Анны Невзлиной.
Мы признательны Фонду Михаила Прохорова, благодаря которому один из авторов этой книги начал работу над проектом по изучению советских слухов и городских легенд (Карамзинская стипендия – 2015).
И конечно, большая признательность Российскому научному фонду, который поддерживал это исследование в 2016–2018 годах (проект № 16-18-00068 «Мифология и ритуальное поведение в современном российском городе», Московская высшая школа социальных и экономических наук).
Глава 1
Что такое городская легенда и зачем ее изучать?
Прежде чем перейти к советским легендам об опасных вещах, мы должны сказать о том, что вообще такое городская легенда и почему ее важно изучать. Несмотря на кажущуюся несерьезность текстов, которые мы сегодня называем городскими легендами, фольклористы, антропологи, социологи и социальные психологи из Европы, Великобритании и Северной Америки изучают городскую легенду вполне серьезно и довольно давно. Зачем и как они это делают – об этом мы и расскажем в этой главе.
Новое рядом: как открыли городскую легенду
Иногда не надо ехать в дебри Африки или на Северный полюс, чтобы открыть что-то новое и удивительное. Веками поэты и интеллектуалы восхищались древнегреческими эпическими поэмами «Илиада» и «Одиссея» и относились к ним как к единственному известному образцу подобных текстов. Но в XIX веке неожиданно произошло открытие новых эпических памятников, причем не письменных, а устных и живых, и буквально под боком: свой эпос был обнаружен у тюркских и монгольских групп, у карелов и финнов, у южных и восточных славян (для фольклористов и этнографов это примерно то же, что для палеозоолога, который всю жизнь изучал вмерзших в лед мамонтов, а потом обнаружил, что они живы-живехоньки и топчут твой газон ночью).
Примерно такая же история произошла с городской легендой. Ведь она была совсем рядом – ее рассказывали за чашкой чая или кружкой пива, ее приносили молочники и почтальоны, а иногда ее публиковали в газете в хронике происшествий под видом реальных случаев. Но ее не замечали, а заметив – презирали. Почему? Причиной тому стали ее близость и обыденность: этнография и фольклористика XIX века предпочитали изучать нечто «далекое» – или то, что есть у других народов, или то, что есть в отдаленных уголках собственной страны. В романтической традиции под фольклором понимали тексты экзотические, красивые и непременно содержащие в себе «подлинный дух народа», который, как считалось, сохранился только там, где люди не знакомы с высокими литературными образцами. Естественно, тексты, появляющиеся в утренней газете в разделе «Слухи» или «Городская хроника», рассказанные светской дамой или ее модисткой, под это определение не подходили. Но неожиданно в 1852 году в британском журнале Notes and Queries появляется статья «Газетный фольклор». Такой заголовок тогда звучал странно (какой такой еще дух народа в газете?) – а речь шла о том, какие удивительные и повторяющиеся истории присылают в газету образованные читатели (например, о змее, которую можно обнаружить на своей груди и которая будет тебе помогать). Почти через сорок лет, в 1888 году, во французском журнале Mélusine, посвященном сказкам и мифам, открыли постоянную рубрику, где стали собирать и анализировать устные истории о современных политиках. Назвали ее «Современные легенды».
Спустя сто лет после появления термина канадский фольклорист Пол Смит дал развернутое определение современной легенды:
[Она] не имеет устойчивой текстовой структуры, формульных зачинов, концовок и сложно развитой формы. ‹…› Распространяясь устно, легенды передаются преимущественно в неформальном разговоре, хотя также они встраиваются в другие типы дискурса (анекдот, меморат, слух) и оказываются в самых разных контекстах – от новостного репортажа до застольной речи. ‹…› Рассказывая о событиях так, будто бы они произошли недавно, эти истории фокусируются на обычных людях и знакомых местах. Они изображают ситуации… в которых рассказчик и его аудитория оказывались или легко могут оказаться. ‹…› Как правило, современные легенды рассказываются так, будто они описывают реально произошедшие события[11][12].
Еще одно важное свойство современной легенды, о котором не сказано в определении Смита: ее действие происходит именно в городе. Отсюда и возникает второй, гораздо более распространенный термин для этого явления: «городская легенда»[13]. Но повторим еще раз – почти целый век потребовался на то, чтобы осознать и описать, что такое городская легенда. В чем же трудность определения?
Дело в изменении оптики восприятия. Понимание того, что городская легенда – совершенно новое явление, стало вырабатываться благодаря двум концептуальным поворотам.
Сначала в середине ХХ века вместо экзотических сказок, песен и мифов из далеких стран западные исследователи стали обращать внимание на то, какие тексты рассказываются в собственном обществе. Американские исследователи один за другим начали писать (первая подобная работа вышла в 1942 году[14]) о легенде об исчезающем автостопщике, которую рассказывал каждый второй житель США: ты подбираешь на дороге ночью молчаливого странного хичхайкера, который потом исчезает из машины, иногда сделав перед этим полезное пророчество. Затем американские профессора и студенты – Эрнест Боман, Ричард Бердсли, Ричард Дорсон, Розали Хэнки – начинают записывать истории, гуляющие по университетским кампусам[15]. Эти истории преимущественно «жуткие» – о призраках, проклятых местах или маньяках, хотя иногда попадаются и смешные рассказы, как, например, «Мертвый кот в мешке» – история о незадачливом воре, который по ошибке унес из супермаркета сумку с трупом кота. В это время такие истории называют «небылицы» (tall tales) или современные сказки (modern tales и modern folk tales), поэтому типичное название работ этого периода – «Небылицы от студентов университета Индианы».
Как вы, наверное, уже заметили, фольклористы 1940–1950‐х годов собирают по сути своей вполне традиционные истории про сверхъестественные силы (призраков, например). Их особенность только в том, что события, о которых они повествуют, происходят здесь и сейчас, в своем городе, а не в удаленном поселке. Однако в 1970‐х годах произошел второй «поворот». Исследователи новой волны задались вопросом, существуют ли принципиальные отличия городской легенды от традиционной? Или первая – лишь количественное развитие второй?
Чтобы ответить на него, надо увидеть разницу между деревенской и городской коммуникацией. В сельской культуре, где очень сильны личные связи, социальное пространство предельно одомашнено и в некотором смысле общественно: мы знаем соседей всю жизнь (часто они родственники), они помогают нам в беде, мы делимся с ними радостью и горем, вместе празднуем свадьбы, а все мертвые похоронены на одном погосте. В отличие от деревни, город наполнен незнакомцами: в него постоянно прибывают новые люди, причем многие из этих новых незнакомцев – этнически, социально или конфессионально «другие». Личное пространство чрезвычайно сужено, и поэтому границы его так легко нарушаются. Чужак в городе потенциально опасен, и городская культура учит нас общаться с ним. Если в деревне есть «мы», то в городе совершенно точно есть «я», а вот обретение «мы» – это долгий и сложный процесс. Горожанин и сельский житель будут бояться по-разному: истории об отравленной еде, невероятно популярные в советских городах, совершенно отсутствовали в деревнях.
В традиционных фольклорных историях (быличках), которые до сих пор рассказывают в деревнях, помощником или вредителем оказывается, как правило, не кто-то из обычных «нас», но «потусторонний» другой – черт, леший или «один из нас», но обладающий сверхъестественной силой (ведьма или колдун). Легенды в городе говорят об отношении к «нам» со стороны «социокультурного другого» – маньяка в студенческом кампусе, официанта из китайского ресторана, врача-еврея в больнице, тайного соседа-каннибала. Именно об этом в 1982 году написал Рональд Бейкер:
Мы больше не подозреваем Дьявола или оборотня, теперь мы присматриваемся к человеческому противнику на заднем сиденье машины или в торговом центре. ‹…› Угрозы современного мира приходят от людей, а не от сверхъестественных сил[16].
Идею Бейкера развивает Джудит Беннет, которая считает, что в основе любой легенды лежит своего рода «когнитивный диссонанс», который формируется благодаря «совмещению привычного нам мира с чем-то совершенно иным или объединению двух культурных категорий, которые нам представляются совершенно разными»[17]. В традиционной легенде культурный диссонанс достигается за счет столкновения повседневных реалий со сверхъестественными: например, Богородица ходит по земле или дьявол вселяется в человека. В современной легенде культурный диссонанс возникает благодаря сочетанию отдаленных друг от друга категорий реального мира. Например, каннибалы существуют и дети тоже существуют, однако в современной легенде каннибалы массово делают из детей пирожки (что в реальности маловероятно). Уже упомянутый Пол Смит предлагал отделять современную легенду от традиционной именно на этом основании: по его мнению, «современные» легенды описывают странные события, в основе которых лежат естественные (а не потусторонние) силы[18].
Приведем пример, хорошо знакомый читателю. «Был храм, стал хлам, а теперь срам» – так москвичи говорили о бассейне «Москва», который был сооружен на месте храма Христа Спасителя, взорванного в 1931 году (храм, в свою очередь, был построен на месте уничтоженного Алексеевского монастыря). После разрушения старого храма в 1930–1950‐х годах возникают легенды того самого традиционного типа, где нечто противоестественное вмешивается в жизнь людей. Эти легенды[19] говорили о том, что монахиня разрушенного монастыря новый храм (то есть «хлам») прокляла и поэтому-то большевики его и взорвали. В 1960 году на месте взорванного храма и не построенного гигантского Дворца Советов появляется не менее гигантский открытый бассейн «Москва» (тот самый «срам»). И в этот момент о бассейне «Москва» возникают легенды нового типа, в которых уже не было места сверхъестественному. В этих рассказах бассейн был опасен не потому, что место проклятое, а потому что в нем орудует банда маньяков. В некоторых историях сохранялась еще какая-то связь с религиозной темой. Убийцы в бассейне объявлялись сектантами: «там сектанты орудуют и они, значит, людей хватают за ноги и топят»[20]. В других историях сообщалось о банде топителей: «вообще место проклятое и что, вообще, там люди тонут, и, вообще, там и т. д… и какая-то банда орудует, или люди просто так сами тонут, или еще что-то – это было»[21].
Итак, история о столкновении со сверхъестественным превратилась в рассказ о маньяках – с почти полным исчезновением мистики (ее рудиментом можно считать фразу информанта «или люди просто так сами тонут»), но с сохранением идеи об опасном месте. Так «традиционная» легенда стала «современной» (то есть «городской»).
Современная городская легенда описывает угрозы, исходящие от людей, и ее главными функциями становятся (возможно, наряду с развлекательной) информирование и предупреждение окружающих о возможных опасностях. Установка на достоверность – основной элемент современной легенды, по мнению американского фольклориста Билла Эллиса, который определяет ее как структурированное повествование «о каком-то аспекте современной жизни, правдоподобное для рассказчика, но в действительности ложное»[22]. Если это так, то современная легенда на самом деле может быть «современной» очень условно. Легенда возникает вместе с появлением полиса. Так, в Древнем Риме существовала легенда об осьминогах-вредителях в канализации. А в канализации Нью-Йорка живут аллигаторы-людоеды[23]. «Современная» легенда для жителей викторианского Лондона – это история о цирюльнике Суинни Тодде, который со своей подружкой делал пирожки из клиентов.
Городская легенда нарушает еще одну установку исследователей классической фольклористики. До недавних пор российских собирателей сельского фольклора учили, что если потенциальный информант имеет хорошее образование, то его тексты малопригодны для исследования, потому что фольклорный текст – это замена знанию, получаемому в процессе институционального обучения. Однако городскую легенду распространяют все, и у нее нет жестких социальных границ: в нашей книге вы не раз прочитаете, что легенды рассказывали и жители коммуналок, и советская номенклатура, их обсуждали на экстренных заседаниях ЦК и обкомов и рассказывали ночью в спальне пионерского лагеря.
Смена оптики во время «поворота» 1970‐х годов позволила исследователям увидеть, что в городах массово распространены тексты другого рода, совсем не входящие в класс «ужасных историй» (horror stories) и начисто лишенные сверхъестественной составляющей, в результате чего изменилась терминология: вместо «городских небылиц» или «современных сказок» появились «городские поверья»[24] или «назидательные истории» (histoires exemplaires во французской науке).
Более того, наличие современных реалий и практически полное исключение сверхъестественной тематики привели к тому, что терминологически городскую легенду стало трудно отличить от слуха. Между прочим, слухи стали объектом изучения одновременно с городской легендой, во время Второй мировой войны, хотя такие исследования были в основном отданы на откуп психологам[25] или историкам. И действительно, если и слух, и легенда представляют собой неформульный текст, воспроизводящийся с установкой на достоверность, существующий в нескольких вариациях и основанный на устойчивых представлениях аудитории, то чем тогда они отличаются друг от друга? Основное отличие – это сложность самого текста. Слух – это утверждение, не имеющее развернутой повествовательной структуры. Городская легенда длиннее, имеет сюжет и четкую повествовательную структуру (завязка, кульминация, развязка)[26]. Например, слух о том, что в сточных трубах Нью-Йорка появились аллигаторы, может развернуться в легенду с полноценным сюжетом, и, наоборот, легенда может редуцироваться до слуха[27]. Однако для многих авторов эти различия – только «цеховые». Часто социальные психологи и социологи предпочитают использовать термин «слух», но при этом работают с теми же сюжетами, которые фольклористы или антропологи именуют «городскими легендами».
Итак, в 1970‐е годы и фольклористы с антропологами, и социологи с социальными психологами начинают исследовать распространенные городские истории (называя их то слухами, то легендами), которые предупреждают людей о каких-то опасностях в городе и тем самым могут влиять на поведение горожан. Одними из первых появились исследования о правдоподобных источниках угрозы, которые могут повлиять на цены и поведение потребителей. Эти «истории об отравленной еде» (contamination food stories), например о крысиных хвостах в карри, которые предупреждали посетителей этнических ресторанов и ресторанов фастфуд об опасности отравления[28]. Напитком, вызывающим наибольшее количество слухов, оказалась кока-кола (и нет, эти слухи не были заказаны компанией «Пепси-Кола»). Популярные городские легенды, рассказывающие об опасных и чудесных свойствах кока-колы, которая будто бы способна растворять монеты, провоцировать смертельные заболевания, вызывать наркотическую зависимость и служить средством домашней контрацепции[29], стали называть cokelore. Публикуются работы и о других потребительских легендах (их называют mercantile legends или consumer rumours) – например, о змее, которая прячется в покупках, заказанных в магазине импортных товаров[30].
В 1980–1990‐е годы этот набор дополняется легендами о «ВИЧ-террористах», которые будто бы оставляют в общественных местах инфицированные иголки, «легендами о краже органов» (organ theft legends) и другими сюжетами о разнообразных «реальных» угрозах. Большую популярность набирают исследования о социальных функциях городских легенд – о поддержании границ сообществ, создании идентичностей, провоцировании массовых паник, наконец. В конце 1990‐х и начале 2000‐х появляются исследования городских легенд о терактах и катастрофах[31]. В 2010‐е годы исследователи городских легенд активно обращают внимание на феномен фейковых новостей.
Способность легенды реагировать на актуальные социальные проблемы и в некоторых случаях – вызывать их (о моральных паниках см. специальный раздел далее, с. 51–57) приводит к тому, что в США и Канаде, а потом и в других странах, интерес – и академический, и неакадемический – к такого рода исследованиям городского фольклора становится необычайно велик и в дальнейшем только растет. В США Центром изучения городской легенды становится университет Индианы – во многом благодаря усилиям фольклориста венгерского происхождения Линды Дег. В Париже в 1984 году был создан Институт исследования слухов (La Fondation pour l’étude et l’information sur les rumeurs), сотрудники которого под руководством Жан-Ноэля Капферера изучали самые свежие французские слухи. А в 2014 году в России появилась исследовательская группа «Мониторинг актуального фольклора», в которую входят оба автора этих строк: одна из ее целей – исследование современных российских слухов и городских легенд.
В 1980‐е годы исследователи городской легенды начинают выпускать постоянные периодические издания и проводить регулярные конференции, а широкая публика узнает о городских легендах благодаря книгам Яна Бранвальда, который издает несколько популярно написанных сборников городских легенд[32]. В 1985 году выходит первый выпуск газеты Foaftale New, основанной по инициативе Пола Смита для обмена информацией между исследователями современных легенд. Название газеты образовано от соединения термина folktale (сказка) и аббревиатуры от friend-of-a-friend («друг одного друга» – типичный источник сведений, сообщаемых городской легендой). В 1988 году появляется Международное общество по изучению современных легенд (International Society for Contemporary Legend Research), которое с 1991 года выпускает свой журнал Contemporary Legend и проводит ежегодные конференции.
В это же время в СССР, а потом и в постперестроечной России не происходит ничего подобного. Причины этого заключаются в той самой тесной связи городской легенды с современной реальностью. Советская фольклористика 1930–1950‐х годов, следуя марксистской логике развития классов, считала фольклор устной литературой для крестьян, которые еще не достигли нужной стадии развития. С точки зрения советской доктрины образованное городское население слухам не подвержено и никакого городского фольклора, отражающего надежды и страхи образованного населения, быть не может (тем более городская легенда оказывается опасно близка к понятию «критика снизу»). Это привело к тому, что публикации и текстов самих городских легенд, и исследований были почти под тотальным запретом. Хотя давление идеологии на фольклористов сильно ослабевает уже в 1960–1980‐е, в постперестроечной России эта тенденция сохраняется[33]. Именно поэтому термин «городская легенда» в российских исследованиях почти не использовался, а термин «легенда» ассоциировался или с рассказами на религиозные темы, или с топонимическими, историческими и утопическими нарративами, но не со светскими рассказами о современности.
Во второй половине 1990‐х годов начал свою работу межинститутский семинар «Современный городской фольклор»[34], где историки, фольклористы, культурологи впервые столкнулись с необходимостью изучать то, что люди рассказывают сейчас, и отвечать на вопрос, почему они это рассказывают. Однако разорванность научных связей и традиционное для отечественной фольклористики внимание к структуре текста в ущерб исследованию социальной функции привели к тому, что работ о городских легендах в нашей стране до сих пор очень мало, и мы старательно не замечаем, какую роль городские легенды играют в нашей жизни. Мы очень надеемся, что наша книга эту ситуацию исправит.
Интерпретативный подход: легенда как симптом или лекарство
В 2004 году я, одна из авторов этой книги, А. А., встречалась в США с очень известным антропологом и фольклористом Аланом Дандесом (как выяснилось потом, незадолго до его скоропостижной смерти). Он попросил меня показать мое последнее исследование, и я дала ему посмотреть нашу коллективную статью о происхождении апокрифического библейского сюжета о Белом Вороне, предателе из Ноева ковчега. «Очень, очень старомодно», – сказал Дандес, весело улыбаясь. Дандес шутил над молодой девушкой, но лишь отчасти. В этой реплике про старомодность коротко передана суть изменения исследовательской концепции среди фольклористов и антропологов, и Дандес был один из тех пионеров, кто такие изменения инициировал.
В 1940–1960‐х годах американские фольклористы мало интересовались вопросом, почему возникает городская легенда (или, если уж на то пошло, любой другой фольклорный текст). Такой вопрос даже не приходил в голову – он был вне исследовательской оптики того времени. Исследователи «страшных историй из кампуса» (о которых мы рассказывали в предыдущем разделе) интересовались в основном традиционными для того времени фольклористическими проблемами: как устроена структура текста, кто такие истории рассказывает и откуда они пришли. Но в 1970‐е именно Алан Дандес призывает коллег сменить оптику, отказаться от того самого «старомодного подхода». Для него главная задача исследователя – изучать не только то, что фольклорный текст собой представляет и как распространяется, но и интерпретировать его значение, то есть пытаться понять, почему он распространяется в данной группе.
После бурной дискуссии, длившейся почти десятилетие, это направление утвердилось очень прочно. Мы в нашей книге назвали этот подход «интерпретативным». Перед сторонниками интерпретативного подхода встал новый вопрос: а как именно мы можем объяснить появление городской легенды? какими теоретическими (и практическими инструментами) мы для этого располагаем? Именно ответы на эти два вопроса привели к тому, что внутри большой группы ученых, использующих эту новую оптику, образовались разные направления – о них мы и поговорим в этом разделе.
В 1916 году Зигмунд Фрейд настаивал на том, что «сновидения имеют смысл»[35]. Через несколько десятилетий его последователь и неутомимый интерпретатор Жак Лакан продолжил эту мысль: «главное желание сновидения состоит в том, чтобы высказать сообщение»[36]. Под прямым влиянием Фрейда и Лакана или опосредованно, но почти каждый исследователь городских легенд, отвечающий на вопрос о смысле существования сюжета, действует в некотором смысле как психоаналитик, но вместо снов рассматривает фольклорный текст как скрытое сообщение, руководствуясь характерной для психоанализа «герменевтикой подозрения». Зачем люди рассказывают друг другу нелепые и глупые истории? Потому что, распространяя слухи или легенды, мы, сами того не зная, «на самом деле распространяем другое сообщение, которое не осознаем». Именно такие спрятанные сообщения (messages cachés), как утверждает Жан-Ноэль Капферер[37], обеспечивают эмоциональное удовлетворение, которое мы испытываем, распространяя слух.
И у психоаналитика, и у сторонника интерпретативного подхода присутствует уверенность в том, что смысл спрятанного месседжа принципиально недоступен носителю сюжета. Как пациенты не понимают значения своего симптома без помощи психоаналитика, так и носителям фольклорного текста, говорит Алан Дандес, «…трудно артикулировать свои бессознательные символы, как и грамматику языка, на котором они говорят»[38].
Психоаналитик ищет значение снов и симптомов пациента, выясняя подробности его биографии и реконструируя индивидуальный «язык» его бессознательного, а как искать это «спрятанное сообщение» исследователю городских легенд? Социолог Джеффри Виктор, повторяя мысль Капферера о «спрятанных месседжах», говорит, что их смысл нужно искать, «исследуя социальный контекст данной культуры»[39].
Следуя этому рецепту, сторонник интерпретативного подхода объясняет популярность того или иного сюжета посредством двух операций. Сначала (1) он ищет и находит социальные факторы, создающие в обществе психологический дискомфорт и вызывающие агрессию, состояния страха, тревоги или вины. Затем (2) он обнаруживает связь этих эмоциональных состояний с текстом легенды и показывает, как именно легенда позволяет их облегчить.
Продолжая психоаналитическую логику, исследователи, по сути, приходят к тому, что легенда выполняет терапевтическую функцию, но только не для индивида (как было бы в психоаналитических теориях), а для сообщества. И вот тут начинаются различия (и, заметим в скобках, проблемы с фальсифицируемостью аналитических результатов). Одни исследователи считают, что функция легенды состоит в артикуляции дискомфортных эмоциональных состояний. Другие находят, что легенда предлагает аудитории компенсацию в виде символического решения проблемы: она не просто выражает страх, но компенсирует его, изображая реальность более простой и безопасной, чем она есть; не только указывает на подавленное чувство вины, но помогает его преодолеть.
Прежде чем мы пойдем дальше, мы хотели бы напомнить читателю, что термины фольклорная артикуляция и фольклорная компенсация принадлежат авторам этих строк. Исследователи, о которых пойдет речь ниже, не знали, что они, как и герой Мольера, выражаются прозой.
Интерпретация городских легенд как фольклорной артикуляции социальных проблем или дискомфортных эмоциональных состояний является наиболее распространенным способом ответа на вопрос «почему». Легенда при таком подходе рассматривается как своего рода язык, помогающий группе артикулировать проблемы и эмоции, которые она не в состоянии сформулировать и проговорить другим способом.
Особенно часто модель фольклорной артикуляции используется при анализе легенд, связанных с человеческим телом, – например, для сюжетов о насилии и болезнях. Например, когда в 1980‐х годах в Атланте происходит серия убийств чернокожих подростков, среди афроамериканцев начинают ходить слухи о том, что подростки были убиты для получения некоей субстанции, необходимой белым врачам для исследований интерферона, но содержащейся только в черных телах. Патрисия Тернер считает, что, рассказывая истории про конкретную телесную угрозу, афроамериканцы выражали ощущение более абстрактной угрозы по отношению к ним как к дискриминированной социальной группе[40]. Другой пример подобной интерпретации мы находим в работе Джиллиан Беннетт о легендах про животных, например о «грудной змее», поселившейся в человеческом теле. Такие легенды, говорит Беннетт, становятся языком для описания болезни, способом визуализации болезни – воплощенной метафорой, которая позволяет рационализировать этиологию болезни и иногда эффективно лечить ее[41].
Исходя из того что «городская легенда – это выразитель невыразимого», социологи Джоэль Бест и Джеральд Хориучи пытаются разобраться в истории с анонимными садистами[42], которые якобы раздают детям на Хэллоуин яблоки с лезвиями внутри и отравленные конфеты. Страх перед этими злодеями в Америке 1970–1980‐х годов был настолько велик, что детский ритуал хождения по домам и выпрашивания сладостей где-то сокращался, где-то отменялся, а в Калифорнии и Северной Каролине мешки с лакомствами, предназначенными для раздачи детям на Хэллоуин, даже проверяли с помощью рентгеновских лучей. Авторы исследования указывают на то, что легенда становится популярной в США в конце 1960‐х – начале 1970‐х годов, когда Америка переживала непопулярную войну во Вьетнаме, в стране происходили студенческие волнения, демонстрации и бунты в гетто, американцы столкнулись с новыми субкультурами и проблемой наркомании, и в это же время происходило разрушение традиционных для «одноэтажной Америки» соседских сообществ. Смутная тревога за детей, которые могут погибнуть на войне, стать жертвами городской преступности или наркоманами, соединилась с чувством утраты доверия к хорошо знакомым людям и нашла выражение в простом и понятном рассказе об анонимных злодеях, отравляющих детские лакомства на Хэллоуин. Городская легенда, таким образом, представляет собой форму ответа на социальное напряжение, становится альтернативой формулировке социальных требований (тому, что на английском называется claims-making activity): указывая на вымышленную угрозу, легенда помогает обществу справляться с реальной психологической проблемой – с тревогой, которая до появления легенды была неясной и недифференцированной.
Действием того же механизма, который мы называем фольклорной артикуляцией, социолог Джеффри Виктор объясняет популярность слухов о деятельности сатанинских сект, которые вызвали масштабную панику в сельской Америке в конце 1980‐х годов. Он перечисляет факторы социальной и экономической депривации, которую испытывали жители сельской местности (закрытие предприятий, увеличение числа безработных и бедных, рост разводов, упадок доверия к традиционным институтам). Легенда о сатанинских сектах, говорит Виктор, стала выражением растерянности и страха, связанных с социально-экономической депривацией. На самом деле эта легенда говорит: «Моральному порядку нашего общества угрожают могущественные и загадочные силы зла, и мы теряем веру в способность наших институтов и властей справиться с ними»[43].
Однако городская легенда может не только заниматься фольклорной артикуляцией, то есть проговаривать невыговариваемое. Уже упомянутый Алан Дандес считал, что в некоторых случаях фольклорный текст становится символической реализацией невыполнимых и этически неприемлемых желаний аудитории. В таком ключе Дандес интерпретирует городскую легенду Runaway Grandmother. По сюжету этой легенды молодая семья едет в отпуск и берет с собой бабушку; в дороге бабушка внезапно умирает, что вынуждает семью отправиться в обратный путь; на обратном пути труп загадочным образом исчезает. Молодые американцы, считает Дандес, терпеть не могут все, что связано со старостью и смертью, они предпочли бы не заботиться о своих живых престарелых родственниках и избежать хлопот, связанных с похоронами мертвых. Однако в реальности это желание невыполнимо и морально неприемлемо. Поэтому появляется сюжет, который его реализует в социально санкционированной форме городской легенды, где внезапная смерть бабушки и последующее чудесное исчезновение ее трупа избавляют молодых людей от неприятных забот и заодно от чувства вины[44].
Одним из частных случаев фольклорной компенсации является механизм «проективной инверсии», который, как считает Дандес, помогает группе избавиться от чувства вины. Например, в 1969 году в США распространяется легенда о том, что черные подростки будто бы кастрировали в общественном туалете белого мальчика. Дандес связывает популярность этой истории с общественной дискуссией о преодолении расовой сегрегации через новую систему распределения детей по школам. Исторически, говорит Дандес, белые кастрировали черных, но в легенде благодаря механизму проективной инверсии жертва и агрессор меняются местами: «В результате становится возможным перенести вину за преступление, которое хотели бы совершить белые, на их жертву – чернокожих»[45]. Таким образом городская легенда помогает белым американцам преодолеть чувство вины как за прошлые преступления перед чернокожими, так и за враждебность, испытываемую по отношению к ним в настоящем.
В 1980–1990‐е годы в США и Канаде распространяются очень известные российскому читателю слухи об иголках с ВИЧ, которые будто бы поджидают ни о чем не подозревающих людей в креслах кинотеатров и в телефонных автоматах. Американский фольклорист Дайан Голдстейн[46], исследуя этот сюжет, заметила, что, несмотря на то что официальный медицинский дискурс о ВИЧ предупреждал людей об опасности незащищенного секса с любым партнером, в том числе и постоянным, во всех вариантах легенды заражение происходит в общественном пространстве, а злодеем является анонимный чужак. Городская легенда – это своеобразное «сопротивление» современной медицине, которая предлагает справляться с опасностью непопулярными способами. Легенда изображает реальность такой, какой бы ее хотела видеть аудитория (опасны анонимные чужаки, а не тот, кто рядом), и в этом смысле она оказывает такое же компенсаторное действие, как и история о сбежавшей бабушке в интерпретации Дандеса.
Ничего не приходит ниоткуда. Если явление существует, и не важно, социальное это явление или физическое, значит, существуют причины, благодаря которым оно возникает и которые поддерживают его существование. Несомненная заслуга интерпретативного подхода в том, что его сторонники заставили всех задуматься, почему те или иные городские легенды набирают популярность в определенной социальной ситуации. Однако результаты анализа, основанного на поиске «скрытого значения» легенды, часто оказываются весьма слабо верифицируемыми. Для Алана Дандеса, отца-основателя психоаналитического подхода в фольклористике, вопрос о доказательстве любой интерпретации «маловероятен, когда мы имеем дело с символическим материалом»[47]. Однако время от времени язвительные критики все равно спрашивали: «А как вы будете доказывать свою интерпретацию?»
Кроме вопроса о прямых доказательствах, существенная часть критических работ касалась главной методологической операции сторонников этого подхода – гипотетического мостика между эмоциями сообщества и эмоциями конкретного представителя сообщества. Критики указывали, что исследователи на самом деле реконструируют надындивидуальное скрытое послание, которое не обязательно выводится из суммы всех скрытых посланий, зашифрованных в каждом акте исполнения легенды. В 1991 году Джиллиан Беннетт заметила, что, хотя современные легенды могут выражать желания и страхи тех обществ, в которых существуют, само наличие этих желаний и страхов у каждого конкретного рассказчика следовало бы доказать, а не рассматривать как нечто самоочевидное. У легенд могут быть и другие функции – в конце концов, люди, говорит Беннетт, цитируя другого автора, рассказывают истории, «когда им, черт возьми, этого хочется»[48].
Похожую мысль высказывает Билл Эллис. В 1994 году он обращается к американской подростковой легенде «Крюк», в которой действует некий маньяк с крюком вместо руки. Он внимательно изучает записи легенды, собранные в архиве университета Беркли, и приходит к выводу, что бесполезно искать «типичную версию» легенды, которую можно было бы считать вместилищем ее «скрытого значения». Ее не существует: напротив, «легенда заключает в себе ряд дискурсов, которые каждый исполнитель использует для своих собственных социальных нужд»[49]. Вместо того чтобы приписывать легенде те или иные функции, следует спросить у самих носителей – зачем они ее рассказывают и слушают. Согласно исследованию Эллиса, хотя рассказчики этой легенды прямо сообщают, что слышат в ней «моральное предостережение» и чувствуют нечто «действительно страшное», рассказывают они ее обычно в ситуациях, когда этот страх ощущается как условный и ритуальный (посиделки у костра, посещение страшных мест). Значит, говорит Эллис, легенда выполняет в основном развлекательную функцию, а не выражает страх молодых девушек перед первым сексуальным контактом, как (естественно!) считал Алан Дандес.
Однако это замечание Билла Эллиса оставляет без ответа те вопросы, которыми задавались исследователи, работающие в рамках интерпретативного подхода. Существует немало «действительно страшных» историй, и все они в известном смысле в определенной ситуации могут развлечь, однако почему легенда о преследующем маньяке была так популярна именно среди американских (а не советских или гватемальских) подростков именно в 1960–1980‐е годы? Переключение внимания исследователя с социальных функций сюжета на анализ коммуникативной ситуации, в которой этот рассказ происходит, оставляет совершенно нерешенным вопрос: а почему, черт побери, этот сюжет вообще возникает и становится популярным здесь и сейчас?
Общее неудовлетворение таким подходом создало два пути решения. Одни исследователи стали прилагать очень много усилий для изучения социального контекста, косвенными методами доказывая наличие в данной культуре плохо выражаемых страхов и скрываемых желаний. Такие усилия давали интересные результаты при анализе культур, где существовали или существуют до сих пор институты подавления прямых критических высказываний со стороны индивидов и, соответственно, возможности прямо высказать свои истинные желания сильно ограничены. Как правило, это исследования о распространении фольклорных текстов во время нацистской оккупации и целая плеяда работ о фольклоре во время советского Большого террора (но, к сожалению, в них исследователи обращали внимание в первую очередь на анекдот, а не на городскую легенду). Так, историк Роберт Терстон тщательно анализирует социальный контекст политического юмора во время Большого террора и доказывает, что, несмотря на аресты за анекдоты, их продолжали активно рассказывать, так как это распространение компенсировало страх и в страшной ситуации ожидания ареста выстраивало доверительные отношения между людьми[50].
Ко второму решению прибегли бывшие сторонники интерпретативного подхода, в середине 1990‐х и начале 2000‐х годов превратившиеся в яростных противников, и в первую очередь Билл Эллис. Он в 2003 году написал, что применение такого подхода, где результат не фальсифицируется, а исследователи «не считали необходимым подтверждать наличие тех социальных страхов, которые легенда якобы выражает»[51], значительно повредило исследованиям современной легенды в целом. Какой выход тогда видят противники интерпретативного подхода? Мы должны не анализировать текст легенды, а понять его вирусную природу, осознать, что заражаемся легендами и фейковыми новостями вне зависимости от содержания, и искать социальные причины такого заражения. Об этом – следующий раздел.
Меметический подход: легенда как вирус и возбудитель эмоций
С того момента, как Чарльз Дарвин написал «Происхождение видов», умы многих исследователей не покидает идея: а что, если социальная эволюция определяется логикой, близкой логике биологической эволюции? Что, если в развитии человеческой культуры играет существенную роль подобие закона естественного отбора, например выбор половых партнеров у людей строится по тому же «принципу гандикапа», как и размер хвоста у павлинов или красота голоса у певчих птиц? Этими вопросами занимаются исследователи в рамках «теории двойной наследственности», или «теории генно-культурной коэволюции», ставшей очень популярной в 1980‐е годы. В 1981 году генетик Луиджи Кавалли-Сфорца публикует книгу «Культурная трансмиссия и эволюция: количественный подход», а через несколько лет появляется ставшая очень популярной работа антрополога Роберта Бойда и биолога Питера Ричардсона «Культура и эволюционный процесс»[52], в которой подробно разбираются механизмы социального «эволюционного отбора» культурных практик. Бойд и Ричардсон показывают, что благодаря процессу научения возникает кумулятивный эффект культурного отбора: накопление изменений в социальных практиках происходит быстрее, чем генный отбор.
В 1976 году биолог Ричард Докинз в своей книге «Эгоистичный ген» проводит знаменитое сравнение: как гены запрограммированы воспроизводить себя (поэтому они и «эгоистичные»), так и в человеческой культуре культурная информация, минимальный элемент которой Докинз называет мемом, тоже стремится к воспроизведению и размножению себя. Гены и мемы переходят от носителя к носителю, могут быть изменены под воздействием внешних факторов и подвержены законам генетического/культурного отбора.
Применительно к текстам городских легенд и слухов этот тезис выглядит следующим образом. Интерпретативный подход предполагает, что люди распространяют легенды, потому что им важно передать друг другу некоторое «скрытое сообщение», которое легенда в себе содержит (именно поэтому так важно понять, о чем легенда говорит). Если мы уподобляем легенды мемам, то их «значение» для нас не важно – они распространяются, движимые слепым и «эгоистичным», по выражению Докинза, стремлением к самовоспроизводству, которое ограничивается законами естественного отбора.
Но какую объяснительную модель – если содержание легенды более не важно – предлагает эта новая исследовательская оптика? Представим себе умозрительно некоторую группу людей (например, офис какой-нибудь компании). В нашем мысленном эксперименте исследователь рассказал каждому сотруднику городскую легенду под видом факта. 100 % испытуемых узнали эту историю, однако спустя две недели, когда исследователь возвращается в офис, он обнаруживает, что, несмотря на то что это была одна и та же легенда, одни охотно ее рассказывали дома и на работе, сделали репост в социальных сетях и даже отказались от покупки определенного товара, если об опасности этого продукта говорилось в легенде. В то же время другие совершенно ничего не сделали с той информацией, которую им «слил» исследователь. Почему? Почему одни оказались восприимчивы к заражению мемом, или, если хотите, «вирусом» городской легенды, а мозг других оказался устойчив к подобному влиянию? Обратите внимание: какой бы ответ мы ни получили на вопрос «почему легенда стала распространяться», мы должны смотреть не на содержание мема, а на когнитивные особенности самих носителей – почему одни заразились, а другие нет? Дело в возрасте? образовании? гендере? цвете рубашек, наконец? Неудивительно, что при такой постановке вопроса в 1990‐е и 2000‐е годы происходит мощный «антропологическо-когнитивный поворот» и внимание исследователей переключается с изучения самого текста на исследование когнитивных особенностей, то есть происходит сдвиг от изучения скрытого послания легенды к наблюдению за поведением людей, которые рассказывают или не рассказывают подобные истории. Исследователи начинают активно обращаться к работам в области социальной психологии, эволюционной биологии и генетики, позволяющим описать, какой триггер (вне вопроса о содержании) «запускает» процесс передачи городской легенды или, в биологических терминах, «заражения» ею.
С идеи о психических микробах, которые заражают своего носителя так, как и микробы биологические, начинает в 1908 году свою книгу «О природе внушения» известный психиатр и невропатолог Владимир Бехтерев:
В настоящую пору так много вообще говорят о физической заразе при посредстве «живого контагия» (contagium vivum) или так называемых микробов, что, на мой взгляд, нелишне вспомнить и о «психическом контагии» (contagium psychicum), приводящем к психической заразе, микробы которой хотя и не видимы под микроскопом, но тем не менее подобно настоящим физическим микробам действуют везде и всюду и передаются чрез слова, жесты и движения окружающих лиц, чрез книги, газеты и пр., словом, где бы мы ни находились, в окружающем нас обществе мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными[53].
В 2003 году в книге «Пришельцы, призраки и культы: легенды, которыми мы живем» американский фольклорист Билл Эллис, сам того не зная, практически цитирует идею Бехтерева о психических вирусах, уподобляя городские легенды «вирусам сознания» (mind viruses), а культуру того или иного сообщества – информационной системе, которую этот «вирус» захватывает. Как для Ричарда Докинза мем подобен гену, так и легенда подобна вирусу или сбою в системе, и поэтому ее содержание становится неважным: «вирус сознания» не обладает сам по себе социальным или культурным значением, которое может быть реконструировано, он распространяется просто как насморк – вне зависимости от веры людей в содержание легенды. В доказательство этого утверждения Билл Эллис приводит исследование (причем пересказывая его не вполне корректно), проведенное парижским Институтом по изучению слухов под руководством Жан-Ноэля Капферера[54]. В 1991 году по Франции начали интенсивно распространяться анонимные листовки о том, что детские переводные картинки и татуировки с Микки-Маусом будто бы содержат ЛСД. Чтобы сделать татуировку, ее нужно было лизнуть, и, согласно городской легенде, таким образом наркодилеры распространяли наркотики среди детей. Опрос, проведенный этим институтом, показал, что, хотя в целом чем больше люди верят содержимому листовки, тем больше они склонны передавать ее дальше, зависимость между распространением истории и верой рассказчика в ее содержание не прямая: 26 % от числа тех, кто не поверил листовке, тем не менее обсуждали ее с другими, а 8 % от числа не поверивших даже распространили саму листовку дальше. Причины такого поведения автор исследования Капферер видит в том, что «получатели» вируса ищут подтверждения своим сомнениям – в ту или иную сторону – и поэтому обсуждают с другими сомнительную информацию. Таким образом, фактором, способствующим распространению, становится не только вера в достоверность информации, но и сомнение со стороны «реципиента».
Вирус городской легенды, согласно концепции Билла Эллиса, сначала распространяется взрывообразно, а потом «зараженная» им социальная группа начинает вырабатывать «антитела» – фольклорные тексты, опровергающие или высмеивающие легенду, или «антилегенды». Сама же легенда (как и биологический вирус), столкнувшись с такими контратаками, выбирает то, что биологи называют «стабильной эволюционной стратегией», то есть продолжает свое существование в формах, защищающих ее от возможных нападок. Всегда найдутся те, кто готов оспорить легенду, указывающую на ту или иную «реальную» опасность, как глупую и лживую. Но вряд ли кто-то станет с аналогичными претензиями нападать на тот же самый сюжет, поданный в форме заведомо вымышленной развлекательной истории. Так, следуя «стабильной эволюционной стратегии», легенда об украденной почке, ходившая сначала в виде предупреждений о реальной угрозе, трансформировалась в сюжеты комиксов, сериалов и пародий и в таком виде продолжает благополучно существовать в информационной системе.
В 1951 году американский фантаст Роберт Хайнлайн пишет фантастический роман «Кукловоды», наделавший много шума в Штатах. В этом романе пришельцы с Титана захватывают людей и паразитируют на них (в буквальном смысле). Но взамен они убивают в тех людях, кто восприимчив к паразитам, агрессию и внушают им повышенное стремление к кооперации, за счет чего пришельцы очень быстро распространяются по Земле. Возмущенная (и восторженная) критика писала о том, что малозаметные слизняки, порабощающие людей, – это метафора коммунистических идей, вирусно захватывающих Америку. Городская легенда в логике Билла Эллиса – это тоже такой пришелец, который стремится поработить людей – своих «носителей». Главная ее задача – заставить их распространять себя (точно так же как и у «эгоистичного гена» Докинза главная задача – воспроизвести себя).
Если легенда распространяется не благодаря содержанию, в которое верят, тогда из‐за чего? В легенде, кроме содержания (то, что Алан Дандес назвал собственно text), есть еще и texture – фонетика, фразеология, стиль и другие элементы, относящиеся к строению легенды (классический формалист texture назвал бы формой)[55]. «Встроенные» в «текстуру» свойства легенды, которые заставляют своего носителя пересказывать именно этот вариант, Билл Эллис называет «механизмом для выживания» (survival machine). Как пирожок говорил кэрролловской Алисе «съешь меня», так и механизм выживания городской легенды говорит слушателю: «это отличная история, расскажи ее другому». Один из авторов этих строк писал диссертацию об анекдотах о Штирлице, появившихся после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973). Исследование корпуса текста (1000 единиц) показало, что люди охотнее и быстрее пересказывают анекдоты, чья длина (учитывая только неслужебные слова) варьируется в промежутке между семью и девятью словами: «Штирлиц подумал. Ему понравилось и он подумал еще». Работает эволюционный «принцип экономии усилий»: на длинный анекдот «носитель мема» (то есть рассказчик анекдота) тратит слишком много усилий (во-первых, в процессе запоминания, а во-вторых, в процессе пересказа), и поэтому такой анекдот проигрывает эволюционную гонку[56]. Содержание, как мы видим из этого примера, не играет никакой роли при принятии «носителем» решения, нужно ли передавать анекдот дальше или нет. «Механизм для выживания» в данном случае предписывает текст анекдота сокращать.
Следовательно, эволюционный отбор успешных городских легенд обеспечивается механизмом выживания, который делает текст более коротким, более удобным, более веселым или более страшным для носителя. Но за счет чего создается механизм выживания? Откуда он знает, что предпочтут носители?
И тут мы подходим к очень важному логическому повороту в «меметических исследованиях». Если мы не понимаем из содержания легенды, почему носители предпочитают ту или иную версию, не сможем ли мы понять это, проанализировав поведение носителей? Конечно, для проведения таких исследований в реальности требуется всего ничего: нужна либо огромная база данных, где разные культуры описываются по одним и тем же параметрам (так называемая кросс-культурная база), либо лаборатория и эксперимент.
Помните ли вы сказку «Морозко» – о злой мачехе и доброй падчерице, которая известна более чем в девятистах этнических версиях и является самой распространенной волшебной сказкой[57] (обойдя по этому параметру «Золушку»)? Несколько лет назад один из авторов этих строк вместе с фольклористом Артемом Козьминым задались вопросом – а зависят ли варианты сюжета от какого-нибудь из предпочтений рассказчиков? Выяснилось, что такие параметры есть, но они связаны не с моралью сказки, а с тем, как описывается вознаграждение героини за ее доброту. Для культур, где исповедуются авраамические религии (в первую очередь христианство), с большой вероятностью в качестве награды появится физическая трансформация облика (девушка становится красавицей, сияет, как солнце, у нее волосы, как чистое золото, изо рта падают розы). Наличие в данной культуре религиозного учения о символическом духовном перерождении как жизненной цели заставляет рассказчика акцентировать в сказке именно этот вариант награды – видимо, потому что ему это нравится. Если же этническая группа, у которой записан текст, придерживается более архаических (не авраамических) верований, то физическая трансформация там непопулярна, а рассказчики предпочитают конец истории, где герой получает материальную награду: драгоценности, волшебные предметы или хорошего мужа[58].
Конечно, такие исследования возможно сделать для сказки, потому что существует огромная кросс-культурная база Мёрдока[59], описывающая разные культуры по формальным параметрам, и есть указатели сказочных сюжетов, из которых мы знаем, какой вариант сказки кто и когда рассказывал в каждой этнической группе. Но для городской легенды такие исследования сделать пока невозможно – из‐за отсутствия соответствующих баз. Но можно пойти другим путем и провести контролируемый эксперимент. Именно это решили сделать психологи из университетов Стэнфорда и Дьюка Крис Белл, Чип Хит и Эмили Стенберг[60]. Они тоже задались вопросом: почему городские легенды и слухи (а также фейковые новости), которые они называют мемами, так часто становятся успешными среди своих носителей? Авторы исследования считают, что легенды не отражают эмоции людей по поводу «трех С» (crisis, conflict, catastrophe), как это утверждается в рамках интерпретативного подхода, а, наоборот, производят эмоции, причем и положительные и отрицательные. Соответственно, мемы имеют успех, потому что успешно проходят эмоциональный эволюционный отбор. Для доказательства своей «теории эмоционального отбора» Крис Белл и его коллеги провели серию экспериментов, в ходе которых вниманию трех групп испытуемых было предложено три варианта популярной городской легенды о банке с газировкой, в которой некто находит дохлую крысу. Эти три варианта различались по степени отвратительности: если в облегченной версии потребитель обнаруживал крысу по странному запаху из банки, то в наиболее отвратительной версии крыса попадала ему в рот вместе с напитком. Большинство испытуемых выразили готовность распространять именно наиболее отвратительную версию. Данные этого эксперимента были подтверждены анализом сайтов-коллекторов городских легенд: выяснилось, что чем больше «отвратительных мотивов» содержит текст, тем на большем количестве сайтов он оказывается. Спустя тринадцать лет шведские психологи решили проверить эту идею. Их эксперимент с городской легендой подтвердил теорию эмоционального отбора мемов[61].
Но почему способность пробуждать эмоции оказывается эволюционным преимуществом легенды? Потому что успешные легенды с помощью такого свойства способствуют образованию социальной связи между людьми, которые эти эмоции разделяют. По сути, Крис Белл и коллеги экспериментально подтвердили наличие в обществе «социального клея», о котором писал социолог Эмиль Дюркгейм в начале XX века (правда, Дюркгейм говорил, что таким свойством обладают коллективные ритуалы).
Но возможно, за репостами и пересказами слухов стоят и другие психологические механизмы, не менее важные и не менее древние. В 2017 году исследователи из Массачусетского технологического университета Соруш Возоши, Деб Рой и Синин Арал проанализировали более 126 тысяч цепочек ретвитов («каскадов»), содержащих правдивые новости и фейковые, трех миллионов пользователей за одиннадцать лет наблюдений. Их результаты были ошеломляющими: статья вышла в Science – самом престижном научном журнале. Статистический анализ показал: для того чтобы дойти до 1500 пользователей, настоящим новостям требуется примерно в шесть раз больше времени, чем фейковым. И в двадцать раз быстрее фейковые новости дойдут до десятой по «глубине» цепочки ретвитов. В целом у фейковой новости шанс быть перепощенной на 70 % процентов выше, чем у настоящей. При этом наибольшей скоростью распространения и проникающей способностью обладают фейковые новости на политические темы или связанные с темой катастроф.
Но самый важный (для нас) вывод этого исследования – в другом. Его авторы говорят, что желание перепостить новость связано со стремлением людей к новизне, и это стремление настолько сильно, что с легкостью преодолевает сомнения по поводу «истинности – ложности». Кроме критерия новизны (novelty), на распространение фейковых новостей влияет еще и второй фактор – сила негативных эмоций. Чем сильнее негативные эмоции, которые вызывает фейковая новость (авторы замеряли «силу эмоций» по количеству комментариев, типа «ужас», «отвратительно»), тем больше вероятность, что ее перепостят. Эти результаты прекрасно коррелируют с теорией «эмоционального отбора» Криса Белла (хотя авторы обеих статей не читали друг друга).
Возможно, стремление распространять легенды и фейковые новости – это следствие эволюционного отбора? В ходе эволюции Homo sapiens в обществе растет навык кооперации и внимание к предупреждениям соплеменников об опасности: «Внимание, за тем холмом голодный лев». Эволюционный выигрыш, если ты последовал предупреждению и не был съеден, большой. Однако если это был розыгрыш, ничего особо страшного (кроме разбитой физиономии) не случится. Поэтому люди делятся самыми странными слухами и легендами по принципу: «А вдруг это правда и тогда я, первый предупредивший об опасности, – молодец».
Теория эмоционального отбора и теория важности нового знания предполагают, что распространение слухов и городских легенд есть следствие эмоциональных и когнитивных навыков, приобретенных в ходе эволюционной гонки. Однако мы не должны игнорировать тот факт, что даже при таком взгляде на трансмиссию фольклорных текстов очевидно, что люди распространяют слухи и легенды с разной готовностью. От чего могут зависеть личные предпочтения, когда ты думаешь – репостить или нет такой текст: «Максимальный репост!!! В кустах нашли ребенка с вырезанной почкой…»? Относительно недавно социальные психологи Роланд Имхов и Пиа Каролайн Лэмберти[62] провели серию экспериментов, в ходе которых запускали фейковые новости и конспирологические слухи в группы подопытных, а затем отслеживали, кто эти сюжеты распространяет. Исследователи пришли к выводу, что триггером распространения является запрос потенциального рассказчика на «уникальность». Те из подопытных, кто хотел «быть особенным», то есть стремился привлекать всеобщее внимание, но не чувствовал себя достаточно успешным в этом (не писал популярных постов, не мог похвалиться хорошей работой), гораздо активнее распространяли броские тексты, не задумываясь над их истинностью.
На страницах этой книги читатель еще неоднократно встретится с экспериментами когнитивных психологов, которые в течение последних двадцати лет ставили своей задачей понять, как люди распространяют конспирологические тексты (и, соответственно, городские легенды, в которые эта конспирология «завернута», как конфетка в обертку). О них мы будем говорить подробно в главах 2 и 3, а здесь мы бы хотели обратить внимание на крайне важное явление, обнаруженное в экспериментах: можно искусственно (правда, на очень непродолжительное время), за счет снижения чувства контроля, вызвать у людей стремление объяснять случайный набор фактов «теорией заговора»[63]. Другими словами, когнитивистам удалось воспроизвести ситуацию, благоприятствующую потенциальному распространению слухов и легенд.
Сторонники меметического подхода уподобляют городские легенды биологическим сущностям и, исходя из этой аналогии, утверждают, что стремление воспроизводить себя является имманентным свойством легенд. «Мем» в меметической теории ведет себя как самостоятельная сущность: им двигает слепое стремление к размножению, а люди, сами того не ведая, являются инструментами этого размножения. Для сторонников меметического подхода не важно, почему та или иная история вообще однажды появляется. Тем более они не стремятся понять, почему это происходит в определенное время и в определенном месте.
Вспомним, как теория «эмоционального отбора» объясняет распространение легенды про кока-колу с крысой внутри. Как и многие другие психологические теории, она неявно предполагает существование некоторой общей «человеческой природы»: люди устроены так, что стремятся распространять истории, вызывающие наиболее сильные эмоции. Между тем представления об отвратительном, то есть набор явлений и ситуаций, вызывающих соответствующую эмоцию, могут сильно меняться от одной культуры к другой. Где-то не вызывает отвращения крысиный хвост, а где-то никого не волнуют банки с газировкой. Даже в рамках одной и той же современной американской культуры в одном контексте оказывается более успешной история о крысе в банке с колой, а в другом – не менее отвратительная история о поваре из этнического ресторана, который добавляет в соус свою зараженную сперму.
Известные исследования в русле меметического подхода базируются, как правило, не на анализе живого распространения, а на анализе, сделанном в условиях лабораторного эксперимента. Когда же мы выходим за пределы лаборатории, то по-прежнему ищем естественные триггеры, которые запускают легенды. В условиях лаборатории этим триггером становится действие экспериментатора, который, например, вызывает у подопытных чувство потери контроля, а вот в реальных условиях выяснение причин существования легенды вне анализа социального контекста невозможно.
Операциональный подход: как воздействует легенда
В 1994 году политическая элита африканской страны Руанды, почти сплошь состоящая из представителей народа хуту, призвала устроить геноцид в отношении тутси – второй основной народности в республике. Масштабы последующей катастрофы были огромны, по разным источникам погибло от полумиллиона до миллиона тутси. В убийствах, избиениях и изнасилованиях участвовали и армия, и вооруженная милиция, но больше всего нападений было совершено гражданскими лицами. Внезапно взяв в руки мачете, мирные крестьяне шли резать соседей или участвовать в «праздниках изнасилования». Спустя двадцать лет экономист Дэвид Янагизава-Дротт решил выяснить[64], что повлияло на их поведение так сильно. Руандийский геноцид начался с того, что главная радиостанция начала называть тутси «вредителями», «тараканами» и «убийцами» (поводом для таких обвинений послужил сбитый самолет президента). Призывы к «убийству этих насекомых» поддерживались рассказами о том, как тутси только и ждут удобного момента, чтобы напасть на соседей-хуту, как они отравляют детей хуту и продают их на органы. Однако Руанда – горная страна, и хотя радио – это основный способ распространения новостей, однако далеко не все деревни находятся в зоне приема радиоволн. Янагизава-Дротт сделал карту покрытия руандийских деревень радиоволнами и выделил три категории: деревни, которые очень хорошо принимали радиоволны, деревни, в которых радио не ловилось, но которые находились рядом с теми деревнями, в которых был прием, и деревни, которые находились далеко от любых точек приема радиоволн. Далее он сравнил все три группы с количеством убийств тутси. Ответ был не самым тривиальным. Народное ополчение тех деревень, в которых радиоприемники ловили передачи достаточно хорошо, убивало на 7 % больше, чем в глухомани, однако жители из второй группы деревень (где радиосигнал не принимался, но рядом был большой поселок с радиоточкой) убили гораздо больше людей – на 23 %. Причина этого – в том, что жители снабженных радио деревень, услышав призывы убивать тутси, при общении со своими друзьями и родственниками из соседних поселков передавали им эти новости. Однако они не просто пересказывали государственную пропаганду, а подтверждали ее ссылками на свои страхи и рассказами про то, какие тутси негодяи и воры. Слухи и легенды о страшных врагах, передаваемые в режиме неформальной коммуникации (friend-of-a-friend), усиливали пропаганду, оправдывали нарушение моральных норм и легитимизировали право на насилие.
Такие случаи не единичны. В марте 1994 года разъяренная толпа в гватемальском городе Сан-Кристобаль до полусмерти избивает ни в чем не повинную американскую туристку[65]. Летом 2018 года жители небольшого мексиканского города Акатлан сжигают двух мужчин, приехавших за покупками из соседнего города[66]. Причиной насилия в обоих случаях послужила классическая городская легенда о краже детей на органы (organ theft legend), которая в первом случае распространялась устно и через публикации в местной прессе, а во втором – через WhatsApp.
Городские легенды многим кажутся забавными историями, которые способны вызвать веселый смех на вечеринке или ритуально напугать кого-то во время Хэллоуина. Но, как следует из приведенных выше примеров, они не всегда так невинны. Городские легенды могут быть очень опасными, поскольку в условиях паники очередной пересказ «достоверной» истории может подтолкнуть человека или группу людей к агрессии. Есть большое количество исследователей, которых не очень волнуют вопросы о том, почему возникают истории об отравленных джинсах или какие эволюционные механизмы в поведении человека отвечают за распространение таких историй. Однако для этих исследователей важен вопрос, как слухи и городские легенды воздействуют на социальную реальность и меняют ее. Совокупность работ, изучающих операционные возможности городской легенды в воздействии на действительность, мы назвали «операциональным подходом». Под таким «зонтом» мы объединили два направления исследований. Первое из них – это исследование феномена моральной паники социологами, второе – это открытый фольклористами эффект остенсии. Ниже мы кратко разберем основные находки, сделанные исследователями обоих направлений, и покажем, чем они важны для изучения советских легенд.
Милая история о том, как старушка в забывчивости засунула своего кота в микроволновку, чтобы высушить его, вряд ли может привести к массовой агрессии. Тогда в какой ситуации городские легенды становятся опасны и почему они провоцируют насилие?
Ответ, который дают социологи, заключается в следующем. Тревога внутри человеческого сообщества – это вещь естественная. Однако иногда, вместо того чтобы искать реальную проблему, которая является причиной этой тревоги, члены сообщества сосредотачиваются на угрозе, якобы исходящей от этнической или социальной группы. Причем эта группа может быть реально существующей (евреи, хиппи) или вымышленной (например, ведьмы, заключающие договор с Люцифером).
Ощущение «врага рядом с нами» провоцирует панику, и на начальных этапах паники в обществе формируется консенсус по поводу источника опасности и серьезности угрозы: «Максимальный репост!!! Группы смерти убивают наших детей». Обнаружение источника опасности, с одной стороны, усиливает тревогу («они среди нас и завтра могут сделать это снова»), но с другой стороны, в перспективе помогает от нее избавиться, поскольку дает возможность действовать («мы знаем, кого нужно уничтожить или изгнать, чтобы снова почувствовать себя в безопасности»), что, в свою очередь, создает иллюзию контроля над ситуацией. Для предупреждения друг друга о новой угрозе члены сообщества активно обмениваются городскими легендами и слухами. Так общество создает новый моральный консенсус по поводу источника опасности, которая грозит обществу. Отсюда и название – моральная паника (moral panic).
Моральная паника не способствует выяснению реальных причин тех или иных социальных проблем. Вместо этого энергия общества направляется на борьбу с девиантом – воображаемым врагом. Например, в российском обществе 2016 года обсуждение трагедии – нескольких подростковых самоубийств – свелось не к поиску реальных причин этого явления, а к борьбе с анонимными интернет-злодеями, будто бы ответственными за все подростковые суициды, происходящие на территории страны, и с интернетом в целом (в частности, звучали призывы «пускать в интернет» по паспорту с четырнадцати лет). C этого началась паника по поводу так называемых «групп смерти» в социальных сетях. При этом попытки родителей и учителей предостеречь детей от этой опасности неизменно приводили к росту интереса школьников к «группам смерти». Моральная паника, таким образом, не только провоцирует агрессию, но и подменяет реальные причины проблем воображаемыми[67].
Понятие моральной паники в 1970‐х годах впервые было использовано социологом Стивеном Коэном, который изучал страхи английского общества по поводу молодежных группировок модов и рокеров (Mods и Rockers)[68]. Агентом моральной паники, с точки зрения Коэна, стали британские СМИ – именно они рассказывали обывателям о том, как опасны молодежные субкультуры. После того как теория Коэна получила широкое распространение, вопрос о том, кто является агентом, провоцирующим моральную панику, стал очень важен. Всегда ли это СМИ?
Социологи Эрик Гуд и Найман Бен-Йегуда выделили три типа агентов, которые могут спровоцировать моральную панику[69]. Первая, «низовая модель» (grassroots model) предполагает, что моральная паника идет «снизу вверх» и возникает спонтанно как ответ на некоторый социальный стресс. Сначала страх перед реальной или воображаемой угрозой находит выражение в легендах и слухах, и только затем в дело вступают медиа, роль которых, по мнению теоретиков «низовой модели», вторична: они «только усиливают пламя, но не зажигают огонь»[70]. Уже упоминаемые Бест и Харучи, анализируя панику о лезвиях в яблоках, которые анонимные злодеи раздают на Хэллоуин детям[71], тоже считают ее причиной «низовую» тревогу среди взрослых, разрушение соседского сообщества, рост детской наркомании и другие страхи американского общества 1960–1970‐х годов. Эта тревога выражалась в слухах и легендах, которые только потом попали в СМИ и естественным образом усилили ее.
Во второй, элитистской[72] модели (the elite-engineered model) паника является результатом целенаправленных и вполне сознательных действий политической элиты, которая нуждается в создании мнимой «угрозы», как правило, для отвлечения общества от реальных социальных проблем, решение которых может угрожать ее интересам. Успех паники обеспечивается тем, что элита располагает мощными ресурсами в виде ведущих СМИ и государственных институтов. Эта модель исходит из представлений о всемогуществе элит и тотальной манипулируемости аудитории[73]. Самый известный анализ, сделанный в рамках элитистской модели, – это анализ паники по поводу уличного хулиганства в Англии, его авторы – Стюарт Холл и его коллеги. По их мнению, паника по поводу уличных нападений была инициирована элитой и служила для того, чтобы отвлечь внимание публики от экономической рецессии и общего кризиса британского капитализма. Как сторонники левых политических взглядов, Холл и его коллеги полагают, что капиталистическое государство вообще всегда так делает – защищает свои экономические интересы, отвлекая внимание масс от решения насущных проблем.
В третьей модели (interest group model) паника исходит от «заинтересованных групп», в роли которых выступают различные профессиональные ассоциации, ангажированные журналисты, религиозные группы, общественные движения, образовательные институты и т. п. Распространяя пугающие истории о воображаемой угрозе, активисты заинтересованной группы пытаются привлечь внимание общества к проблеме, в реальность которой они искренне верят. При этом успешное продвижение моральной повестки автоматически влечет за собой повышение символического статуса и материального положения заинтересованной группы. Так, например, латиноамериканские и европейские коммунисты могли искренне верить в реальность слухов и легенд о том, что в США существует тайная преступная организация, похищающая латиноамериканских детей «на органы»[74]. Однако, принимая активное участие в разжигании паники, основанной на этих слухах, коммунисты зарабатывали себе политические очки: их обличения американского капитализма получали, благодаря таким историям, дополнительное обоснование. Поэтому при анализе подобных ситуаций, по мнению Гуда и Бен-Йегуды, ключевым является вопрос qui bono («кому выгодно»).
Гуд и Бен-Йегуда полагают, что «низовая модель» является необходимым условием для возникновения моральной паники, поскольку ни политики, ни медиа, ни общественные активисты не могут сформировать ощущение угрозы там, где его изначально не было. С другой стороны, эти массовые страхи и тревоги обычно остаются довольно неясными и смутными без действий политиков, журналистов и общественных активистов, которые их публично артикулируют. Таким образом, «grassroots обеспечивают топливо для моральной паники, активисты отвечают за ее фокус, интенсивность и направление»[75], а элиты могут использовать ее в своих интересах.
Теория о трех агентах моральной паники крайне важна для понимания того, как городские легенды влияли на события в России в последние два века. Рассмотрим два случая. В 1830 году в Российскую империю пришла холерная эпидемия, начались холерные бунты, приведшие к гибели большого количества людей. Их триггером стало массовое распространение слухов о том, что официальное объяснение болезни – всего лишь прикрытие: либо власти, врачи, военные хотят убить (например, отравить мышьяком) «лишних» в государстве людей, либо болезнь – дело рук «польских агентов», а иногда и евреев. Городские легенды, рассказывающие об этом, распространялись на уровне grassroots, как сказали бы Бен-Йегуда и Гуд: государство отчаянно боролось с этими слухами. Император Николай I лично приказал сыскать мелкого чиновника, который в своем письме коллеге пересказал страшные петербургские слухи[76]. За распространение подобных историй следовало серьезное наказание: в этом случае элита боролась с моральной паникой, идущей «снизу», и относительно успешно. Спустя 120 лет, в 1950–1952 годах, в СССР происходит заметный рост антисемитских настроений (более подробно см. об этом на с. 341), приведший, как мы знаем, к «делу врачей» 1953 года. Но еще за год и за два до этого в советской стране рассказываются истории, что евреи добывают кровь из детей для омолаживания[77], отравляют воду в школах и прививают болезни под видом вакцин от туберкулеза[78], потому что хотят убить «наших детей». Кое-где звучат призывы к расправе и даже начинаются погромы. Моральная паника, идущая от grassroots, никакого одобрения властей не встречала: как мы знаем из спецсообщений КГБ, до 1953 года такие слухи преследовались как антисоветские, а их распространители довольно сурово наказывались. Но все изменилось 13 января 1953 года, когда в главной советской газете «Правда» была напечатана печально известная статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», в которой группу кремлевских врачей, в основном еврейского происхождения, обвинили в том, что они, работая на американскую разведку, неправильным лечением убили члена Политбюро Жданова и умышленно вредили другим высокопоставленным пациентам. Этой статьей элита в лице товарища Сталина возглавила моральную панику. В результате слухи о том, что чьей-то соседке врач-еврей прописал аспирин, внутри которого оказалась проволока, или что где-то детям врач-еврей под видом прививки против туберкулеза сделал «прививку рака», получили поддержку власти, что легитимизировало любые агрессивные действия по отношению к евреям.
Мы видим, что в обоих случаях агентами, изначально распространяющими слухи и легенды, были люди вне институтов, grassroots. Однако во втором случае элита моральную панику возглавила. Статус слухов в этот момент радикально изменился – они превратились в важную информацию, «одобренную сверху» и, соответственно, способную оказывать еще более разрушительное воздействие.
Одновременно с социологами, изучающими моральные паники, вопросом о воздействии легенды на человека занялись фольклористы Линда Дег, Эндрю Важони и Билл Эллис, которые в 1980‐х годах на материале городских легенд разработали концепцию остенсии[79]. В самом общем смысле термин «остенсия» обозначает ситуацию, когда фольклорный текст влияет на реальное поведение людей. Исследователи выделили несколько форм такого влияния: от истолкования непонятных событий в категориях фольклорного сюжета до попытки воплотить его в жизнь.
Предельной, самой «сильной» формой воздействия фольклора на реальность является «собственно остенсия» (ostension itself): человек рассказывает легенду (или любую другую фольклорную историю) не словами, а действиями, то есть буквально воплощает ее в жизнь. Как правило, такое происходит, когда тот или иной сюжет достаточно долго и интенсивно циркулирует в обществе, причем распространяется не только по каналам устной неформальной коммуникации, но и получает медийную поддержку. Широко известные случаи «собственно остенсии» связаны с легендами и слухами о сатанистах. Когда такие рассказы достигают определенной степени популярности, находятся люди (как правило, это подростки), которые решают сами стать «сатанистами» и воплощают в жизнь те «кровавые ритуалы», о которых рассказывают легенды. Линда Дег и Эндрю Важони в качестве примера такой остенсии приводят действия американских подростков, которые, находясь под сильным впечатлением от историй о легендарном маньяке Чарльзе Мэнсоне, пытались подражать ему и нападали на людей, действуя в точности по его сценарию.
Однако случаи чистой остенсии очень редки. Гораздо чаще мы имеем дело с псевдоостенсией. Под этим термином американские фольклористы понимают ситуацию, когда фольклорный сюжет (точнее, всеобщая вера в его реальность) используется в каких-то корыстных целях, часто для того, чтобы совершить преступление и остаться при этом безнаказанным, свалив вину на воображаемых злодеев, о которых рассказывает легенда. Во время циркуляции в США слухов об анонимных садистах, подкладывающих лезвия и яд в лакомства, которыми на Хэллоуин угощают детей, двое малышей действительно погибли во время праздника. В 1970 году в Детройте пятилетний Кевин Тостон съел конфетку с героином, а в 1974 году в Техасе такая же судьба постигла Тимоти Брайена после конфеты с цианидом[80]. Однако проведенное расследование в обоих случаях показало, что убийцами были не анонимные злодеи с улицы. Опасность, увы, поджидала детей дома. В одном случае ребенок случайно нашел в доме дяди запасы героина и попробовал его (торговлей занимались то ли дядя, то ли отец мальчика), а семья, желая скрыть факт наркоторговли, спрятала пакетик с героином в яблоке и свалила все на хэллоуиновских злодеев. Второй случай еще более примечателен: мальчика отравил цианидом отец, желая получить страховку (жизнь мальчика была застрахована), а после совершения убийства сообщил, что его ребенок был отравлен теми самыми злодеями, которые отравляют и калечат доверчивых детей каждый Хэллоуин. Как мы видим, в обоих случаях преступления почти удались, потому что вера в анонимных детоубийц была очень сильна, на что преступники и рассчитывали. Другой, современный пример псевдоостенсии: на волне паники в России в 2016–2017 годах по поводу «групп смерти», где некие «кураторы» якобы доводят детей до самоубийства, появились мошенники, которые стали вымогать у младшеклассников деньги, представляясь теми самыми «кураторами».
Наиболее слабой формой остенсивного действия является так называемая квазиостенсия – изменение поведения людей под влиянием фольклорных текстов. Например, Марья Ивановна регулярно слышит об иголках с ВИЧ в поручнях метро. Она верит в то, что это делают некие анонимные злодеи. Однако она не перевоплощается в этого злодея, как произошло с подростками – последователями Мэнсона (это была бы полная остенсия). Тем не менее под влиянием этих слухов она меняет свое поведение: она внимательно осматривает поручни эскалатора, боится их тронуть и иногда вообще отказывается ездить на метро. Очень яркий пример квазиостенсии можно найти в перлюстрации писем советских граждан КГБ в 1953 году. Сразу же, как «дело врачей» стартовало и государство обвинило кремлевских врачей еврейского происхождения в попытках убийства членов Политбюро, советские граждане начали сами массово отказываться принимать медицинскую помощь от любых врачей, покупать лекарства и ходить в поликлинику и советовали другим принять такие меры предосторожности:
[письмо из Башкирской АССР в Киев: ] У меня видимо общий ревматизм. Даже страшно идти к врачам после этого процесса. ‹…› Маринке буду давать только яблоки и морковь – вообще то, куда эти типы не могут всунуть свой длинный нос. ‹…› Ради бога, не будь ротозеем, не зевай и проверяй[81].
С квазиостенсией мы будем постоянно сталкиваться и в поздних советских сюжетах. Так, например, многие дети поколения 1970‐х годов много слышали страшных историй про черную «Волгу», которая ворует детей (см. с. 375), и всячески пытались от нее защититься. Кто-то записывал номера всех встречных черных машин, а кто-то ходил в школу только дворами.
Квазиостенсия – не такое уж безобидное явление. В США в 2017 году прошел судебный процесс по делу «Слендермена»: две девочки двенадцати лет, наслушавшись историй о страшном существе без лица, решили, что оно убьет их близких, если они не принесут ему в жертву другую девочку, и попытались зарезать свою подругу[82].
Если мы соединим воедино основные наработки этих двух направлений, то мы получим следующую картину: текст, который провоцирует панику, должен обладать некоторым набором свойств (узнаваемость, шаблонность, краткость). Именно потому городская легенда является топливом моральной паники – она по определению устроена именно так. Однако не любая городская легенда способна на это. Она также должна обладать «остенсивным зарядом», то есть «носитель» фольклорного текста должен считать ее правдой и вследствие этого менять свое поведение под ее воздействием: не трогать поручни в метро, потому что там зараженные иглы, не обращаться к врачам, потому что среди них – евреи-отравители. В современных обществах остенсивный потенциал легенды и ее способность вызывать панику зависит не только от ее содержания, но и от внимания к ней СМИ или элиты. Это хорошо видно на примере «дела врачей» (подробнее об этом речь пойдет в главе 3): слухи о евреях-отравителях и врачах-отравителях время от времени вызывали панические настроения в масштабе одного города, но массовое «остенсивное поведение» и массовая паника в масштабе страны начались только после того, как образ «убийц в белых халатах» был растиражирован советской прессой и поддержан государством.
Если остенсивный потенциал легенды достаточно силен и она начинает распространяться многими людьми одновременно, это приводит к моральной панике и к изменениям социальной реальности. Однако ответить на вопрос о том, что первично – легенда или паническое поведение людей, – так же непросто, как и на вопрос о курице и яйце. Легенда и паника довольно успешно порождают друг друга.
Как мы анализируем советскую городскую легенду
Представители разных подходов отчаянно спорят друг с другом, мы же стоим на позиции, что продуктивным будет использование всех трех оптик для анализа советских легенд. Во-первых, городские легенды и слухи распространяются как «ментальные вирусы», они легко заражают своих «носителей», часто вне зависимости от пола и возраста (и это объясняется нашими когнитивными особенностями – см. раздел «Меметический подход»). Во-вторых, популярность получают легенды и слухи, которые содержат важное для сообщества скрытое сообщение, а работа антрополога и фольклориста заключается в дешифровке этого сообщения (см. раздел «Интерпретативный подход»). И наконец, скрытое сообщение об опасности может усилить моральную панику или спровоцировать ее и, как следствие, привести к вспышке агрессии (см. раздел «Операциональный подход»).
Как мы собирали городские слухи и легенды
Исследования, о которых шла речь выше, проведены на современном и историческом материале Западной Европы, Северной и Латинской Америки и даже Африки. Однако советский материал (за исключением англоязычной книги Эды Калмре про каннибальскую колбасную фабрику в эстонском городе Тарту[83] и очень немногочисленных записей польского фольклориста Дионизиуша Чубалы[84]) никогда систематически не изучался. Если советские городские легенды и встречаются в научной литературе, то обычно это примеры «народных настроений», которые приводятся в трудах историков.
Исследователи, изучающие советскую культуру, обычно концентрируются или на официальных документах, или же анализируют элитарный и авторский «продукт» – литературные тексты и художественные фильмы. Однако, используя только такие источники, мы узнаем, как был устроен официальный советский канон, но не поймем, на основе каких представлений люди интерпретировали социально-политические события.
Отсутствие исследований, посвященных советским страхам, во многом связано с тотальным запретом в СССР (начиная с конца 1920‐х годов[85]) изучать неофициальные тексты, и в первую очередь – городской фольклор. Из учебника «Русский фольклор» под редакцией Юрия Соколова в 1938 году были изъяты разделы «мещанской» и «блатной песни», а раздела «легенда в городе» никогда и не было. Кроме того, каждому, кто читает эти строки, мы советуем помнить, что распространение слухов советскими властями преследовалось, особенно жестоко в сталинское время – впрочем, и в позднесоветский период распространителей альтернативной информации называли «болтунами» и всячески клеймили. Никакой желтой прессы, публикующей городские легенды, в СССР не было. Если какие-то слухи или иные фольклорные тексты и проникали на страницы газет, то только затем, чтобы журналисты могли подвергнуть публичной «порке» и осмеянию их носителей (как правило, это касалось прежде всего религиозных слухов). Никакие телевизионные ведущие их не обсуждали. Не было никаких популярных сборников текстов; а первым художественным текстом, где эти истории вовсю использовались, была детская повесть Эдуарда Успенского «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы», публикация которой в 1990 году в детском журнале «Пионер» вызвала страшный скандал (который мы хорошо помним). И наконец, никакие научные работы, посвященные городским легендам, не были возможны после второй половины 1920‐х (и то их было очень немного)[86] и вплоть до середины 1980‐х годов.
Как и многие другие вещи, этот запрет негласно был снят в конце 1980‐х годов, однако время было упущено. Никаких научных коллекций ни тогда, ни сейчас (до нашей книги) сделано не было. Более того, если эмигрантские и западные собиратели и пытались что-нибудь зафиксировать из современного им советского фольклора, то в основном они тратили свои усилия на сбор и анализ анекдотов (реже – песен), в результате чего на свет появилось несколько прекрасных коллекций[87]. Легенды и слухи ими почти тотально игнорировались – частично, по причине меньшей эстетической привлекательности. Но есть и другая причина: анекдот воспринимался как некоторое вербальное оружие, способ противостоять советскому режиму. Но к тому времени, как западные исследователи выработали некий консенсус, что такое городская легенда, для чего она нужна и как ее анализировать (см. первый раздел этой главы), Советский Союз уже перестал существовать.
Кроме того, мы все должны понимать, что у городской советской легенды, которая, несмотря на все вышесказанное, жила и здравствовала, была специфическая функция, которая присуща фольклору в условиях тоталитарного и авторитарного режимов. Информационное устройство советского общества, где существовали жесткая цензура и идеологический контроль, способствовало тому, что многие советские люди не доверяли советским средствам массовой информации. Несовпадение того, что советские люди слышали по радио, с тем, что происходило в реальности, хорошо отражает анекдот, записанный в предпоследний год войны[88]:
– Радио слушаете?
– Конечно; откуда же бы я знал, что мне живется отлично!
Такое недоверие приводило к тому, что неформальные интерпретации действительности, созданные слухами и легендами, воспринимались многими советскими людьми как более достоверные, чем те, которые предлагались официальными СМИ. В 1947 году американские советологи расспрашивали эмигрантов из СССР, откуда и как они получали информацию в СССР. Согласно ответам «невозвращенцев», 50 % опрошенных указали именно на слухи как на регулярный источник информации; на слухи как на самый важный источник информации указали 32 % среди профессиональных групп, 22 % среди служащих, 41 % среди рабочих, 73 % среди крестьян. И наконец, 74 % опрошенных обсуждали слухи в разговорах с друзьями[89].
Поэтому, хотя советская эпоха кончилась довольно недавно, описать такую важную, но не вполне «легальную» часть жизни советского человека оказалось не так легко. Чтобы узнать, где и как распространялись городские легенды, мы обратились к разным источникам и собрали репрезентативный корпус текстов, который никто до нас никогда не собирал.
Стоит помнить, что правом собирать городские легенды и слухи в СССР обладала одна организация, известная под именами ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ (правда, партийные органы тоже их собирали, но не так регулярно). Все эти аббревиатуры в разные годы обозначали, по сути, политическую полицию, которая активно занималась внесудебной слежкой за гражданами силами штатных и нештатных сотрудников. Спецагенты записывали, что люди говорят на улице, на собраниях и пишут в письмах (перлюстрация почты), для того чтобы власть знала о реакции людей на различные социально-политические события (от смерти товарища Сталина до судов над расхитителями социалистической собственности). Кроме специальных событий, такие сводки (их называли «спецсообщения») собирались и просто регулярным образом, по «принципу пирамиды»: агенты ГПУ – НКВД на местах собирали сведения, потом посылали сведения «наверх», сводки объединялись и укрупнялись; в конце пути «сводка о настроениях» в СССР ложилась на стол Политбюро. Как правило, агенты были внимательны к фиксации слухов. Эта информация сейчас частично доступна. Благодаря помощи коллег-архивистов[90] сводки КГБ из разных республик СССР – России, Латвии, Литвы, Украины – были использованы в этой книге.
Кроме того, в сталинский период множество людей было осуждено по статье 58-10[91] «Антисоветская агитация и пропаганда» (после 1953 года желание власти наказывать уголовным преследованием за распространение фольклорных текстов постепенно сходит на нет[92]). В формулировке приговоров, как правило, указывалось, что подсудимый «распространял слухи о роспуске колхозов», рассказал анекдот «об одном из руководителей партии и правительства» или «написал анонимное письмо с клеветой на советскую действительность». Этот жуткий материал следственных дел содержит немало примеров городских легенд.
Карательные и партийные органы никогда не забывали обращать внимание на материалы писем советских граждан. Весь советский период НКВД – КГБ занимался перлюстрацией частной переписки, терпеливо и аккуратно вынимая оттуда необходимые сведения. Так, например, в январе 1953 года украинский КГБ рапортует, что за неделю, прошедшую после опубликования в газете «Правда» статьи о «врачах-вредителях», сотрудники просмотрели более 100 тысяч (!!!) писем, 653 письма, по их мнению, содержали особо вредоносную информацию и слухи. Партийные органы для «внутреннего пользования» составляли аналитические обзоры писем, которые возмущенные граждане присылали в редакции газет и органы власти, а также перечни наиболее часто задаваемых вопросов, которые лекторы из Отдела пропаганды ЦК КПСС и общества «Знание» получали в различных аудиториях[93]. Подробнее о взаимоотношениях власти и фольклора написано в главе 3.
Читатель, мало знакомый с советской действительностью, прочитав эти строки, возможно, решит, что советские люди никогда не записывали слухи и городские легенды, раз за их распространение предполагалось наказание. Но это не так. Стремление делиться утаиваемой, но, возможно, правдивой информацией было довольно сильным. Фольклорные тексты во множестве фиксировались в дневниках: количество слухов и городских легенд, которые нам удалось найти в дневниках, опубликованных на сайте проекта «Прожито», – впечатляющий пример этому[94]. Для нашей книги мы использовали выборку из 227 записей слухов и легенд, которые мы нашли в дневниках, опубликованных на этом ресурсе, только за советский период, и еще 58 записей – с 1831 по 1916 год. Отдельный любопытный и нестандартный источник, с которым нам посчастливилось работать, – это тетрадь, в которую Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки, в 1979–1989 годах специально записывал слухи, ходившие по Москве[95].
В постсоветскую эпоху много бывших советских горожан записали свои воспоминания. Кто-то писал большие мемуары, а кто-то – коротенький абзац воспоминаний. Более того, в последние десять лет на волне ностальгии стали популярны форумы и онлайн-сообщества, объединяющие тех, кто желает поговорить о советском детстве и о жизни в СССР (например, сообщество «1975_1982» в «Живом журнале»), – они стали для нас богатым источником сюжетов.
Но у всех этих источников есть одно общее свойство. Автор дневника или воспоминания запишет то, что интересно ему, составитель спецсообщения – то, что в данный момент интересует КГБ. Кроме того, многие советские люди, даже если и записывали слух или городскую легенду, часто стеснялись того, что предметом их внимания становится «такая несусветная чушь» и «байка, распространяемая пропагандистами из ЦК». Поэтому необходимой частью антропологической работы является интервью с «живыми носителями», которых можно расспросить подробно о том, что они слышали и о чем думали в советское время. Поиск информантов мы проводили методом «снежного кома», когда информант рекомендует интервьюеру другого информанта (своего брата, друга, соседа, коллегу по работе). Не скроем, что из‐за нас пострадали наши коллеги, друзья и друзья друзей. Всего начиная с 2016 года мы взяли 72 интервью у жителей Москвы и ближнего Подмосковья, Санкт-Петербурга, Вологды, Екатеринбурга, Одессы, Харькова и Риги, 1941–1974 годов рождения. Больше половины информантов составили москвичи (39 человек). В процессе каждого интервью мы пытались выяснить, знаком ли информант с некоторым набором сюжетов, однако в целом интервью носили характер свободной беседы и могли длиться от сорока минут до трех часов (антропологи называют такие интервью полуструктурированными). С некоторыми информантами мы встречались не по одному разу. Интервью позволили нам не только зафиксировать новые сюжеты об «опасных вещах», но и понять контекст их бытования, а также узнать много нового о советской повседневности.
Одновременно с интервью мы использовали еще один способ сбора информации. Летом 2016 года мы провели два дистанционных письменных опроса (первоначально анкеты распространялись среди пользователей сети Facebook, но также их заполняли и люди, не имеющие социальных сетей). Заполняя такой опрос, каждый информант видит собранный нами перечень сюжетов или отвечает на одинаковые открытые вопросы. Главное преимущество структурированного опроса заключается в том, что он дает возможность сравнить ответы разных респондентов по одним параметрам. Первым был опрос «опасные советские вещи», состоящий из шестнадцати открытых вопросов. Его заполнили 292 респондента 1947–1994 годов рождения, в основном – жители крупных городов. Результаты показали, что многие слухи об опасных вещах активно циркулировали до, во время и после проведения Олимпиады-80. Поэтому мы провели второй опрос – «Олимпиада-80 в слухах и разговорах москвичей», состоящий из восьми открытых вопросов. На него в августе 2016 года ответили 143 москвича 1943–1975 годов рождения. Кроме того, в процессе написания книги мы неоднократно задавали вопросы своим подписчикам и друзьям в социальных сетях и очень часто в ответ получали множество интереснейших воспоминаний.
Мы решили, что в этой книге мы будем цитировать ответы на вопросы анонимно (кроме тех случаев, когда информант хотел, чтобы мы указывали полностью имя и фамилию), и поэтому указываем инициалы, пол, год рождения и место проживания нашего собеседника в советское время, например: А. С., ж., 1976, Москва. Орфография и пунктуация источников сохранены, за исключением очевидных опечаток.
После того как наши данные, собранные из разных источников, прошли через структурированный опрос, мы увидели, какие варианты информанты вспоминают чаще, а какие – реже. Именно этот факт позволяет нам говорить в книге о популярности или, наоборот, редкости того или иного сюжета в позднесоветское время. Читая дневники или письма, мы узнавали, что какой-то сюжет (например, об отравленных жвачках) вообще существовал, а проведя опрос, мы уже понимали, во-первых, насколько широко он был распространен среди нашей группы респондентов (известен он, скажем, 10 или 60 % опрошенных), во-вторых, в каких ситуациях люди с ним чаще всего сталкивались и, в-третьих, по каким каналам этот сюжет распространялся (узнали ли наши респонденты его от одноклассников или от учителей и директора школы). Так, например, респонденты нашего опроса «Олимпиада‐80 в слухах и разговорах москвичей» указывали, что они узнавали об отравленных американских джинсах и жвачках с лезвиями как из бытовых разговоров, так и из инструктажей и собраний в школе, в институте или на работе (примерно в равной пропорции). Из этого можно понять, что традиционные объяснения подобных слухов («это все бабкины разговоры» или «все это распространялось КГБ-шниками специально, чтобы запугать народ») не состоятельны. Картина распространения слухов гораздо сложнее.
Будем честны: практически все наши респонденты и информанты (около трех сотен), за очень небольшим исключением, а также авторы опубликованных мемуаров и дневников – жители крупных городов, среди которых москвичи и ленинградцы составляют большинство. Многие из наших собеседников имеют высшее образование. Хотя наша книга называется «Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР», мы рассказываем прежде всего о нас самих, бывших потребителях легенд и слухов большого советского города.
Был ли плач по Сталину? Как мы воспринимаем истории о советском прошлом
Наш знакомый однажды сделал на своей страничке в Facebook пост, где рассказал об одном эпизоде из детства. В истории фигурировали очередь в хлебный магазин и талоны на хлеб, и обе эти детали (особенно последняя) возмутили некоторых читателей поста. В комментариях началась бурная дискуссия, в процессе которой одни с жаром доказывали, что никаких талонов на хлеб в городе N никогда не было, а другие утверждали, что талоны были. Самое интересное, что носители обеих точек зрения ссылались на свой личный опыт жизни в городе N и собственные воспоминания, обвиняя оппонентов во лжи. В 2016 году издание InLiberty и Сахаровский центр проводили акцию «Антисталин», и там неожиданно возникла дискуссия, был ли народный плач после смерти вождя в 1953 году. С пеной у рта посетители отстаивали две противоположные версии: согласно одной, все искренне рыдали, а согласно другой, это был искусственный траур, потому что никто и не думал плакать по тирану.
Такие споры – совсем не редкость и онлайн, и офлайн. Заметим, что описанная выше дискуссия о талонах касается бытового факта – с ним могли сталкиваться самые разные жители того или иного города. Группа «носителей» воспоминаний о подобных фактах формируется скорее по географическому (жители города N), чем по социальному признаку. Спор о существовании талонов между жителями одного и того же города, видимо, связан с избирательностью человеческой памяти (один помнит одно, а другой – совсем другое). Когда мы вспоминаем не о бытовых фактах, а о тех разговорах, свидетелями которых мы были (или в которых сами принимали участие), в действие вступает еще один фактор – социальный. Реальность, в которой существовали разные социальные группы, была разной. В лояльной советской семье, не пострадавшей от репрессий, в день смерти Сталина действительно могли все плакать. А вот реакция людей, настроенных по отношению к сталинскому режиму критически, могла быть прямо противоположной. Слухи и легенды, которыми обменивались в среде столичной фрондирующей интеллигенции, мало волновали рабочих из провинциального города, и наоборот.
Благодаря неравномерному распределению слухов и легенд и избирательности памяти многие сюжеты, о которых пойдет речь в этой книге, вызывают живое узнавание у одних и недоумение у других. Какую бы тему из представленных в этой книге мы ни разбирали – реакцию на смерть Брежнева, страх ядерной войны, слухи о зараженных джинсах, крадущих детей черных машинах или крысиных хвостиках в колбасе, – мы все время сталкиваемся с тем, что одни информанты говорят, что мы все придумали («и колбаса была самой лучшей, и страшилок никаких не было»), а другие, напротив, рассказывают, как они боялись черных машин или не могли спать, узнав про будущую ядерную войну.
Избирательность памяти приводит к очень интересному эффекту. Людям свойственно не только верить своим воспоминаниям, но и генерализировать свой собственный опыт постфактум: многие, оглядываясь в прошлое, полагают, что все их современники чувствовали и думали то же самое по поводу тех или иных событий, пели те же самые песни, читали те же самые книги и вели те же самые разговоры. Так, один наш информант, родившийся в Ленинграде в семье творческой элиты и вращавшийся в среде, которая характеризовалась высоко критическим отношением к действующему режиму при довольно высоком уровне потребления, долгое время был уверен, что вообще все советские люди в 1970‐е годы жили так – глубоко презирая советскую власть и слушая «Битлз». О том, что в других городах и в других социальных средах жили иначе, он с глубоким изумлением узнал уже в эмиграции, подружившись с выходцем из крупного, но провинциального города Горького (сейчас Нижний Новгород). Наши информанты из города Свердловска (Екатеринбурга) с удивлением узнавали от нас истории про иностранцев, угощающих советских детей отравленными жвачками, – что вполне естественно, если учесть, что Свердловск был городом, закрытым для иностранцев, и подобные истории там актуальными быть не могли. А люди, жившие в Ленинграде и Москве, где было много иностранных туристов, как правило, такие истории хотя бы краем уха, но слышали. У каждого был свой собственный Советский Союз.
Несомненно, в этой книге мы тоже прибегаем к генерализации, и это неизбежно для любой науки, ибо любая наука оперирует моделями, чтобы понять мир. Однако мы стараемся не совершать популярную ошибку: не распространять опыт одного информанта на все советское поколение и, приведя одну цитату, говорить «так думали все советские люди». Поэтому эта книга писалась так долго – три года. Не так просто провести опросы и записать интервью. Нам приходилось сравнивать ответы и искать повторяющиеся паттерны (количественные подходы здесь очень помогают), чтобы увидеть основные тенденции в развитии социальных фобий.
Мы хотим закончить первую главу обращением к читателю. Встретив на страницах этой книги невероятную для вас городскую легенду, просто поверьте: другие люди (причем их могло быть очень много) могли воспринимать жизнь в СССР по-другому.
Глава 2
Опасные знаки и советские вещи
Погружение в мир советских страхов мы начнем с истории об опасных знаках, которые повсюду искали советские цензоры и обычные граждане в эпоху Большого террора. Политической причиной этих поисков стало изменение образа «врага» в официальной риторике: если раньше в этой роли выступали представители бывших «эксплуататорских классов», которых можно было легко опознать, то теперь читателям советских газет, методичек и инструкций сообщалось, что враг живет среди них – умело замаскированный и совершенно не отличимый от обычных людей. Эта новая концепция требовала от советских людей большей «бдительности», которая заключалась главным образом в умении распознавать знаки, указывающие на присутствие замаскированного врага. Предполагалось, что этот враг, лишенный возможности действовать открыто, занимается тем, что мы называем «семиотическим вредительством», то есть заражает советские вещи знаками своего присутствия. Ожидание «семиотического вредительства» привело к рождению специфической советской практики – поиску скрытых знаков на самых обычных советских вещах и слухам о том, как их найти. Они приняли настолько массовый и панический характер, что после 1937 года власть, что называется, схватилась за голову и попыталась их остановить. Но сделать это было не так-то просто.
В 1960–1980‐е годы идея «семиотической опасности» продолжала жить в городских легендах о домах-свастиках, построенных пленными немцами, и о китайских коврах, на которых будто бы высвечивается портрет Мао Цзэдуна. Мы увидим, что хотя позднесоветские сюжеты носят уже не устрашающий, а по большей части развлекательный характер, само представление о том, что вещь может заключать в себе «семиотическую опасность», оказывается очень устойчивым и благополучно переживает конец СССР.
И наконец, в самом конце главы мы обсудим, какие психологические механизмы отвечают за желание (подчас совершенно неудержимое) искать несуществующие знаки.
Невидимый враг, скрытый знак и семиотическое вредительство[96]
История, которую мы собираемся рассказать здесь, должна была начаться в 1935 году. Она не могла начаться раньше, как и продолжиться в неизменном виде после 1953 года, когда умер «отец народов». Но чтобы понять все то, что будет рассказано ниже, необходимо вспомнить, что происходило в 1935–1938 годах в СССР. Это период активной борьбы Сталина со своими врагами. Политическая оппозиция уничтожена как явление. Лев Троцкий, главный идеолог социалистического государства, выслан в 1929 году, а к 1935 году становится врагом номер один. Государство рабочих и крестьян уже не первый год держится на системе массовых репрессий против классового врага («попов», «кулаков», «дворян»). Уже десять лет как в стране работает система лагерей принудительного труда, которую Александр Солженицын позже назовет «Архипелаг ГУЛАГ». Арестовывают за принадлежность к бывшим спецам, за «буржуазное происхождение», за распространение контрреволюционной пропаганды (то есть анекдота), за «вредительство» на производстве и за многое другое. И самые массовые репрессии развернулись в период Большого террора, в 1937–1938 годах.
Образ врага играл важную роль в советской идеологии с самого начала ее существования – он оправдывал внешнюю и внутреннюю политику советского государства (в частности, многочисленные экономические трудности, которые переживало население почти беспрерывно на протяжении 1920–1930‐х годов), а также держал общество в режиме постоянной мобилизации. Советский человек привыкал жить в воображаемой «осажденной крепости»: он постоянно читал и слышал, что кругом – враги, внешние и внутренние. С начала 1930‐х годов в стране проходили публичные процессы, на которых бывшие члены Политбюро (например, Николай Бухарин, Григорий Зиновьев, Лев Каменев) и известные журналисты (Карл Радек) каялись в совершении немыслимых преступлений: шпионаже, покушениях на советское правительство, подготовке переворота, массовом убийстве советских граждан. Вчерашний лидер сегодня становится предателем и врагом. Задачей любого советского гражданина становится поиск и обнаружение врага: об этом пишут газеты, говорят по радио и предупреждают в учебных заведениях. Поиску врагов были даже посвящены специальные методички (подробнее об этом ниже). Борьба с врагами не прекращается даже после их изобличения. Советских наркомов (современных министров), объявленных врагами, советские граждане, начиная со школьников, должны были символически казнить – зачеркивая и уничтожая их портреты (ил. 1).
Ил. 1. Перечеркнутая фотография арестованного наркома Ежова с надписью «Гад!»
Этот раздел рассказывает об истории одной такой борьбы: о том, как советские власти сами способствовали появлению слухов о вражеских знаках, скрытых в советских вещах, а потом пытались распространение таких слухов остановить.
В 1937 году, в разгар Большого террора, советская страна с невероятным размахом праздновала столетие смерти Пушкина. Задачей этих торжеств было включение поэта в советский символический порядок: из чуждого «буржуазного» явления Пушкин становится элементом нового сакрального пространства советской власти, наравне с партийными вождями и героями авиации. Но в этом заключалась опасность: оказавшись частью советского «пантеона», он немедленно стал лакомым объектом для диверсий со стороны «гнусных троцкистских бандитов», пытавшихся (по отчетам соответствующих органов) сорвать юбилей.
Ил. 2а, 2b. Иллюстрации на обложках двух тетрадей, выпущенных в 1937 году к 100-летней годовщине смерти А. С. Пушкина. На обложках увидели контрреволюционные послания
В честь столетней годовщины смерти Пушкина в феврале 1937 года Народный комиссариат местной промышленности выпустил тиражом в 200 (если, конечно, это не опечатка!) миллионов экземпляров специальную серию «пушкинских тетрадей» с портретами поэта и иллюстрациями к его произведениям на обложках (ил. 2).
Красивые тетради, изготовлявшиеся на многих фабриках страны, в течение почти всего года радовали школьников. Однако неожиданно 19 декабря школы и торговые точки получили предписания в срочном порядке «изъять тетради, имеющие на обложке следующие изображения: 1. Песнь о Вещем Олеге, 2. У Лукоморья дуб зеленый, 3. Портрет Пушкина, 4. „У моря“ с картины Айвазовского и Репина»[97]. Учеников собирали в актовых залах и объясняли про происки врага и необходимость уничтожать обложку[98]. Многие бывшие школьники[99] 1937 года вспоминают страшную «тетрадочную панику», которая быстро перекинулась и на другие тетради, вообще не имевшие отношения к юбилею поэта. Как красочно написал автор одного из спецсообщений НКВД, саратовские комсомольцы, а также учителя «шарахнулись в к<онтр>р<еволюционные> крайности» и стали уничтожать обложки тетрадок с Некрасовым и Ворошиловым[100]. «Больше года мы пользовались тетрадями без обложек, завертывая их в газеты»[101]. Волна паники коснулась тетрадей, выпущенных в честь беспосадочного перелета Москва – Северный полюс – Ванкувер, что привело не только к уничтожению обложек, но, согласно воспоминаниям очевидца, и к массовым арестам сотрудников одесской фабрики, выпустившей тираж тетрадок[102]. На целых двадцать лет «пушкинская» тетрадь превратилась в опасную вещь, хранение которой могло иметь самые тяжелые последствия при аресте:
Наконец [энкавэдэшник] сел писать протокол, занес в него все то, что подлежало изъятию: ‹…› обложки тетрадей с рисунками, считавшимися невесть почему крамольными. Их собрали у учеников и должны были уничтожить. Да вот не успел он это сделать на свою беду[103].
Причиной «тетрадочной паники» послужило спецсообщение, отправленное в ноябре 1937 года «хозяином Куйбышева», первым секретарем Куйбышевского обкома Павлом Постышевым Сталину и Ежову по поводу двух пушкинских тетрадей, выпущенных пензенскими и саратовскими фабриками. Бдительный Постышев нашел на обложке (см. рисунок выше) множество опасных знаков и посланий:
На первом образце, где воспроизведена репродукция с картины художника Васнецова, на сабле Олега кверху вниз расположены первые четыре буквы слова «долой», пятая буква «И» расположена на конце плаща направо от сабли. На ногах Олега помещены буквы ВКП – на правой ноге «В» и «П», на левой «К». В общем, получается контрреволюционный лозунг – «Долой ВКП».
На второй обложке, где воспроизведена репродукция картины Крамского – в левом углу рисунка лежат трупы в красноармейских шлемах. Затем если повернуть этот рисунок вверх текстом, а вниз заголовком, то в правом углу можно обнаружить подпись, похожую на факсимиле Каменева.
Кроме этих тетрадок посылаю еще два образца обложек, где на одной из обложек у Пушкина на безымянном пальце помещена свастика, а на другом образце, где воспроизведена репродукция с картины Айвазовского, также имеется свастика на голове Пушкина, в том месте, где расположено ухо[104].
Было начато расследование. Через месяц, в декабре 1937 года, заместитель наркома (то есть заместитель министра) внутренних дел товарищ Бельский послал подробный отчет о деле лично Сталину. Отчет добавлял новые жуткие подробности о раскрытой диверсии:
Художники СМОРОДКИН и МАЛЕВИЧ, выполняя штриховые рисунки с репродукций картин художников ВАСНЕЦОВА, КРАМСКОГО, РЕПИНА и АЙВАЗОВСКОГО, умышленно внесли в эти рисунки изменения, что привело к контр-революционному искажению рисунков, а именно:
а) в рисунке с картины ВАСНЕЦОВА «Песнь о вещем Олеге» СМОРОДКИН нанес изменения рисунка колец на ножке меча и рисунка ремешков обуви Олега. В результате получился контр-революционный лозунг – «Долой ВКП»;
б) при изготовлении штрихового рисунка с картины РЕПИНА и АЙВАЗОВСКОГО «Пушкин у моря» на лице ПУШКИНА СМОРОДКИНЫМ нарисована свастика;
в) штриховой рисунок с картины художника КРАМСКОГО «У лукоморья дуб зеленый» делал художник МАЛЕВИЧ, который у войнов, лежащих на земле, нарисовал красноармейские шлемы и произвольно изобразил вместо четырех войнов – 6;
г) свастика на безымянном пальце ПУШКИНА, в рисунке с картины художника ТРОПИНИНА «Портрет ПУШКИНА» нанесена уже при печатании в типо-литографии «Рабочая Пенза» на готовое клише ‹…›.
Наши мероприятия:
1. Из всех типографий, печатавших тетрадные обложки с контр-революционными искажениями, изымается клише.
2. Арестовываем основного виновника контр-революционных искажений СМОРОДКИНА Михаила Павловича, 1908 г. рождения, беспартийного[105].
По результатам расследования художников Петра Малевича и Михаила Смородкина действительно обвинили в совершении диверсии и отправили в «отдаленные места». Согласно воспоминаниям их друга[106], жена Малевича, вооружившись клише для печати, ходила с ним по кабинетам и доказывала, что никакой свастики нет. Через год Малевич вернулся из Воркуты, вернулся с Колымы и Смородкин, потеряв пальцы ног.
Этот пример – один из множества историй, вызвавших в 1937–1938 годах массовые слухи о скрытых тайных знаках, оставляемых врагами на видных местах. Но почему они появились?
В 1958 году немецкий психиатр Клаус Конрад написал книгу «Начинающаяся шизофрения», которая стала широко известной. Наблюдая за своими пациентами – солдатами вермахта, Конрад описал две стадии, способствующие переходу в психотическое состояние. Во время первой стадии (Конрад называет ее тремой) человек немотивированно начинает ощущать повышенную тревожность, его преследует паника, окружающий мир внезапно становится страшным и непонятным. Это еще не психоз, но важная ступень к нему.
После какого-то периода пребывания в треме в сознании человека происходит существенное изменение: в его восприятии мира меняются местами фигуры (то, что мы привычно считаем знаками) и фон (то, что мы воспринимаем как данное). Заболевающий человек внезапно выделяет в окружающем его привычном повседневном мире явлений и вещей, то есть в фоне, привычные элементы, но наделяет их новым значением[107]. Например, для нас шелест деревьев в лесу является фоном, а для человека, находящегося на этой стадии развития болезни, звук трения листьев друг о друга – не что иное, как новая фигура – послание о том, что за ним следят. Один из пациентов Конрада, молодой ефрейтор, начал ощущать повышенную тревожность, находясь на военной службе. После нескольких недель нахождения в таком состоянии ефрейтор понял – точнее, его посетило озарение, – что ночной храп (привычный для нас фон) его сослуживцев по казарме есть не что иное, как знак, послание, специальное действие, направленное на то, чтобы его разозлить.
Эту стадию Конрад назвал апофенией, от греч. «делаю явным». Это уже стадия настоящего психоза. Парадоксальным – на первый взгляд – следствием такого озарения является снижение тревоги, которое следует за обнаружением подлинного значения вещей: больной, входящий в нее, обретает объяснение своей прежней тревоги (на самом деле за мной следили!) и на некоторое время успокаивается. Другой вопрос, что это второе – «подлинное» – значение того или иного знака не совпадает с общепринятым. Ведь обычно мы не думаем, что люди храпят намеренно, чтобы вывести нас из равновесия, а потому не рассматриваем храп как признак тайного заговора.
При развитии психоза, согласно клиническим наблюдениям Конрада[108], эффект апофении начинает расширяться и захватывать все «поле знаков» вокруг человека. Явления, которые обычно воспринимаются как фоновые (шум дождя за окном, шуршание метлы дворника), перестают быть «фоном» и становятся знаками с новым, известным лишь психотическому больному значением, причем они начинают сообщать ему некоторую чрезвычайно важную для него информацию.
И наконец, последнее, что нам нужно знать об этом явлении: в состояние апофении на короткое время можно ввести и здорового человека, и даже компьютерный алгоритм. Популярный и обоснованный страх современного человека – быть увиденным и найденным автоматическими программами распознавания лиц, такими как FindFace. В их основе лежит принцип выделения лица – «фигуры» – из не интересующего механизм «фона». Для противодействия этому алгоритму было придумано крайне изящное решение – поменять местами «фон» и «фигуру». Была создана одежда со специальным орнаментом, который нам кажется абстрактным рисунком, – на самом деле это изображение множества схематичных лиц, идеально соответствующих стратегиям распознавания людей. Алгоритм начинает видеть лица везде, путает «фон» и «фигуру» и быстро сходит с ума.
Но какое отношение апофения имеет к советской ситуации 1930‐х годов? Если читатель дочитает эту большую главу до конца, то он насладится большим количеством историй, как, например, член Политбюро, бдительный чекист или внимательный пионер внезапно начинал видеть знаки там, где их нет и, более того, заражал таким «видением» других советских людей: так появились свастики на лице Пушкина, подпись «троцкистско-зиновьевская шайка» на металлическом зажиме для пионерского галстука и профиль Троцкого в статуе рабочего и колхозницы. Перед нами «вчитывание» чужого знака в не принадлежащее ему семантическое поле, то есть поле значений. Вследствие такого действия все прочие элементы изображения или текста-носителя либо меняют свое значение, либо становятся как бы средой обитания нового знака (то есть фоном). Художник Смородкин не рисовал свастику на лице или руке Пушкина, а Малевич не искажал штриховку таким образом, чтобы замаскировать в ней контрреволюционный лозунг. Другими словами, художники не вступали с потенциальным адресатом в отношения семиотической игры и не создавали конструкцию, внутри которой тот мог найти скрытое послание. Тем не менее адресат, «увидев» несуществующий знак, приписывает адресанту (в данном случае художнику) сознательное намерение разместить вредоносное сообщение.
Этот прием мы называем термином «гиперсемиотизация» (этот термин в близком значении впервые использовал семиотик Владимир Топоров[109]). Явление гиперсемиотизации – по сути, разновидность апофении, но не индивидуальная, а коллективная, социальная. При этом, принимая эту аналогию, надо отметить и существенные отличия.
Вполне возможно, что Постышев, обнаруживший контрреволюционные лозунги в пушкинских тетрадях, а кроме того – еще и свастику в разрезе колбасы, сам находился в состоянии повышенной тревожности (кругом враги, желающие разрушить молодое советское государство!). По этому признаку Постышев ничем не отличается от немецкого ефрейтора с его страхом перед храпом сослуживцев. Поведение человека, у которого развивается психоз, аналогично поведению Постышева, который провоцирует гиперсемиотизацию. Но эта аналогия – неполная. У ефрейтора, погружающегося в болезнь, есть только одна цель – обнаружить скрытый замысел врагов и, поняв смысл происходящего вокруг него, через дешифровку различных явлений уменьшить свою тревогу. У Постышева цель гораздо сложнее, и она не продиктована логикой болезни. С одной стороны, обнаружение скрытого знака (пусть несуществующего) есть для него вскрытие тайного вражеского замысла, как и у ефрейтора. Но с другой, выявив тайный знак и указав на новое, никем до того не замеченное значение предмета, Постышев приобретает роль самого первого и ярого разоблачителя всепроникающих и невидимых врагов. Поиск скрытого знака для него также становится способом доказать свою зоркость и неусыпную преданность делу партии. Вместе с этим, становясь первым разоблачителем, он снимает с себя угрозу быть самому обвиненным в попустительстве и идеологической слепоте. Такая мотивация может побуждать все более и более расширять список опасных знаков и тем самым увеличивать список вредителей.
И наконец, самое важное различие между Постышевым и конрадовским пациентом состоит в том, как их идеи о «подлинных» значениях вещей распространялись. Клинический психоз, за редким исключением, не передается другим людям, а социально-индуцированная гиперсемиотизация, наоборот, передается, и очень быстро. Именно это и произошло в 1937–1938 годах: единичные «находки» Постышева и других бдительных граждан привели к тому, что тайные знаки начали искать массово, в разных городах необъятной советской страны.
Почему? Потому что в ситуации индивидуального психоза есть только «возбудитель», он же психотический больной в состоянии апофении, и «заразить» он никого не может. В случае гиперсемиотизации, вызванной коллективной моральной паникой (о значении этого термина см. с. 51–53), ситуация сложнее. Во-первых, есть сам «возбудитель», то есть человек, который увидел скрытые знаки и убеждает окружающих в их опасности. А во-вторых, есть и другие люди, которые знаков этих не видели, хотя находились (или только могли находиться) в прямом контакте с опасным предметом, например держали в руках коробок спичек, где кто-то потом углядел «бородку Троцкого». Такие люди принимают готовое сообщение о существовании опасного знака, но воспринимают это сообщение по-разному.
«Активный возбудитель» должен идти по пути нахождения все новых и новых опасных знаков, как и пациент в состоянии апофенического психоза. Получатель готовой интерпретации имеет две возможности распорядиться полученным знанием. Он может воспринять его пассивно и выбрать тактику избегания опасных вещей («я не прикасаюсь к ним»), а может начать убеждать окружающих в наличии опасности и искать знаки в других вещах (и так стать активным «возбудителем»). Может быть и одновременное сочетание двух этих тактик: распространения знания и избегания опасных предметов, например советским школьникам в 1937 году рассказали о «контрреволюционных пушкинских тетрадках» и потребовали их уничтожить.
В случае «незаражения» страхом перед опасными знаками человек выводит себя из тревожного круга, но в условиях Большого террора он рискует попасть под подозрение «активных возбудителей» в том, что он-то и есть опасный враг.
И наконец, важное различие апофении психотической и «гиперсемиотизации социальной» – это динамика состояния. Апофения позволяет человеку в состоянии психоза снизить ощущение тревожности, а гиперсемиотизация не дает возможности ослабить чувство страха: она, наоборот, способствует его дальнейшему усилению – чем больше вражеских знаков обнаруживается, тем более многочисленными и коварными выглядят «враги», которые их оставляют.
Теперь мы знаем, что при определенных психических расстройствах человек начинает видеть несуществующие знаки. Но такое может произойти и с человеком психически здоровым. Этому способствуют два фактора. Первый из них – наличие стройной и непротиворечивой идеологии (политической или религиозной), а второй – ощущение опасности и потери контроля над ситуацией.
Человек, имеющий в голове стройную идеологическую систему представлений, склонен видеть сообщения там, где их нет. Важно, чтобы эта система предполагала более или менее тотальную осмысленность мира и связность его элементов. В начале 2000‐х годов психологом Тапани Рьекки и его коллегами был проведен эксперимент: трем группам испытуемых, состоящим из скептиков (то есть тех, кто идентифицировал себя как скептиков), людей религиозных и тех, кто склонен верить в паранормальные явления, были предъявлены фотографии ландшафта с произвольно расположенными объектами природного происхождения. Участники из второй и третьей групп с большей вероятностью находили изображения человеческих лиц в природных объектах[110]. Это не удивительно: носитель такой картины мира, где все происходящее является результатом целенаправленных действий высших сил, будет чаще видеть чью-то волю в случайном сочетании элементов ландшафта.
Но кроме веры в тотальную осмысленность мира, возникновение гиперсемиотизации связано с потерей контроля над происходящим. В 2008 году в журнале Science вышла статья под названием «Утрата контроля усиливает восприятие иллюзорных паттернов», написанная психологами Дженнифер Уитсон и Адамом Галински[111]. В своих экспериментах исследователи моделировали разные ситуации, в которых люди обычно чувствуют тревогу (например, ситуацию финансовых потерь). В результате было доказано, что участники экспериментов, почувствовав недостаток контроля над ситуацией, начинают видеть знаки там, где их нет, а также искать несуществующие корреляции между событиями. Психолог Моника Гжезиак-Фельдман проводила эксперименты со студентами и выяснила, что стремление видеть несуществующие связи между явлениями или событиями (то, что автор называет конспирологическим мышлением) возникает у них в тот момент, когда они нервничают перед экзаменом, и особенно сильным это стремление оказывается у студентов из бедных семей, для которых провал на экзамене имеет гораздо более серьезные последствия, чем для обеспеченных студентов[112]. Из другого исследования, проведенного Шарон Парсонс и ее коллегами среди афроамериканцев[113], стало ясно, что те из испытуемых, кто чаще сталкивался с утратой контроля в реальной жизни, и те, кто располагает меньшими возможностями влиять на принятие политических решений, более склонны к гиперсемиотизации и конспирологии. Другими словами, эта склонность подпитывается ощущением бессилия.
Потеря контроля ответственна еще за один крайне важный для нас эффект.
В 2010 году психологи Дэниэл Салливан, Марк Ландау и Захария Ротшильд опубликовали статью с говорящим названием «Экзистенциальная функция вражды: доказательство, что люди наделяют могуществом своих личных или политических врагов, чтобы компенсировать угрозу потери контроля». Авторы исследования провели три эксперимента: участники, у которых (в отличие от контрольной группы) искусственно вызывали ощущение потери контроля, гораздо легче соглашались с конспирологической идеей о том, что миром управляют невидимые и всемогущие враги. Испытуемые чувствовали настоятельную потребность вернуть контроль, пусть даже за счет создания образа враждебной внешней инстанции[114].
Но вернемся к нашим слухам и городским легендам эпохи Большого террора. Как все эти эксперименты из области индивидуальной психологии связаны с коллективными поисками несуществующих знаков? Дело в том, что во второй половине 1930‐х годов большое количество советских людей оказывалось в тех самых условиях, которые, как показали вышеописанные эксперименты, заставляют человека видеть несуществующие знаки. Во-первых, 1930‐е годы – это время становления тоталитарного государства, и новая политическая идеология транслируется на самые разные аудитории: от занятий в детском саду до публикаций в заводских многотиражках. А во-вторых, общий уровень тревоги (о котором мы писали в начале главы), и личностной, и социальной, в обществе середины 1930‐х годов был очень высоким. Угроза ареста, голод, социальная нестабильность, массовая миграция, военное положение – отличные триггеры паник. Чувство потери контроля над происходящим не только вызывает гиперсемиотизацию, но и побуждает людей видеть в неудачах социалистического строительства (например, в авариях на производстве или в неурожае) злую волю врага.
Так что охота за опасными знаками, о которой пойдет речь в этой главе, была вызвана всей политической ситуацией 1930‐х годов, а не только и не столько психологическими проблемами отдельных людей. В эпоху Большого террора складывается замкнутый круг гиперсемиотизации: представители власти, пребывающие в постоянном напряжении, инспирируют и поощряют поиск вражеского знака. Их призыв находит отклик «в массах», и такие знаки начинают обнаруживаться в огромном количестве по всей стране. В свою очередь, успешная находка знака, оставленного врагом, убеждает и представителя власти, и отдельного участника в необходимости продолжения поиска.
Выше мы обсудили, почему советские люди в 1930‐х годах оказались так восприимчивы к идее врага, которую им старательно внушала пропаганда. Но откуда в их воображении появился враг, который не просто строит козни, но совершает диверсии именно семиотического свойства? Чтобы понять это, нам придется погрузиться в историю советской идеологии.
В конце 1920‐х годов в советской риторике появляется понятие «вредитель». За десять лет оно пережило очень интересную и важную для нас эволюцию. Изначально оно было ограничено «техническим значением» термина – «вредитель на производстве». Врагом считался «старый спец», продукт буржуазного общества, стремящийся вернуться в привычный ему мир посредством разрушения всех проектов советской власти. Иными словами, исходный вредитель имел совершенно определенное «лицо» и действовал в своих классовых интересах, преследуя рациональные, хотя и неприятные для большевиков цели.
В середине 1930‐х годов ситуация резко изменилась. 1 декабря 1934 года был убит руководитель Ленинградской парторганизации Сергей Киров. За этим событием последовала волна репрессий. 18 января 1935 года ЦК выпустил закрытое письмо «Уроки событий, связанных с злодейским убийством тов. Кирова», где «зиновьевцы» (то есть вымышленные внутрипартийные оппозиционеры), на которых была возложена моральная и юридическая ответственность за убийство, были названы принципиально новым типом партийной оппозиции – оппозицией скрытой, особо вредоносной именно в силу двурушничества и маскировки. В мае 1937 года прокурор СССР (то есть генеральный прокурор) Андрей Вышинский говорит со ссылкой на товарища Сталина, что прежние вредители были «открыто чуждыми нам людьми». А новые, «троцкистcкие вредители, как люди с партбилетом, имеющие доступ во все места наших учреждений и организаций», стали еще более опасными[115]. Согласно официальной версии, теперь главной целью «зиновьевцев» (потом «троцкисто-зиновьевцев», потом «троцкисто-бухаринцев») было уже не добиться большинства для своей платформы внутри Коммунистической партии, а уничтожить государство рабочих и крестьян как таковое.
Перед нами качественный сдвиг не только в официальной риторике, но и в официальном образе мыслей. В отличие от прежних врагов – белых, эсеров и оппозиционеров или даже классово чуждых «инженеров-вредителей» – новый агент угрозы – совсем не чужак, вкравшийся извне. Это внутренний враг, он партиен, классово близок и неотличим от обычных советских людей. По словам Сталина, это «беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, действующих по найму у разведывательных органов иностранных государств»[116].
Такая неотличимость пугает рабочего-передовика на заводском собрании: «Нам не страшно бороться с врагом, которого мы видим, но враг, который работает вместе с нами у машины, враг, который одет в ту же спецодежду, как и мы, – этот враг нам страшен»[117].
Высказывания Сталина и Вышинского о явных и скрытых врагах 1937 года практически идентичны по своей логике рассуждениям инквизитора Никола Жакье 1458 года. В своей работе «Flagellum haereticorum fascinariorum» («Бич еретических ведьм») он объяснял читателям, что те женщины-язычницы, о которых канонические источники писали раньше, и нынешние (то есть современные Жакье) еретические ведьмы – это ведьмы разные, ибо первые открыто рассказывали об иллюзорном опыте, а новейшие ведьмы опасны тем, что находятся повсюду, внешне неотличимы от добрых христиан и при этом имеют наглость отрицать факт собственного существования и собственную силу, чтобы еще удобнее творить злодеяния[118]. Опознать еретических ведьм и колдунов, как и новых советских вредителей, можно только по оставляемым ими знакам.
Но кому невидимый враг подает сигналы, кто является адресатом – неизвестно; более того, любой, кто может расшифровать сигнал, окажется в опасности, и поэтому советские цензоры начинают бороться с любыми фрагментами, которые могут быть восприняты читателем двусмысленно[119]. Как следствие, цензоры стремятся читать советские тексты глазами потребителя – в меру своего представления о нем – и заранее истреблять все двусмысленные интерпретации. Сразу же после призыва закрытого письма 1935 года искать «скрытых врагов» появляются специальные циркуляры Главлита. Название этого ведомства, возникшего в 1922 году, расшифровывалось довольно нейтрально – «Главное управление по делам литературы и издательств», но, по сути, это и был главный цензурный орган. «Приказ № 39…» Главлита, адресованный начальникам всех республиканских, областных и районных «-литов», объяснял, что именно надо искать:
Классовая борьба в области литературы и искусства за последнее время принимает все новые и новые формы. В частности, на ИЗО-фронте Главлитом обнаружены умело замаскированные вылазки классового врага. Путем различного сочетания красок, света и теней, штрихов, контуров, замаскированных по методу «загадочных рисунков», протаскивается явно контрреволюционное содержание.
Как замаскированная контрреволюционная вылазка квалифицирована символическая картина художника Н. Михайлова «У гроба Кирова», где посредством сочетания света и теней и красок были даны очертания скелета[120].
То же обнаружено сейчас на выпущенных Снабтехиздатом этикетках для консервных банок (вместо куска мяса в бобах – голова человека).
Исходя из вышеизложенного – ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем цензорам, имеющим отношение к плакатам, картинам, этикеткам, фотомонтажам и проч. – установить самый тщательный просмотр этой продукции, не ограничиваться вниманием к внешнему политическому содержанию и общехудожественному уровню, но смотреть особо тщательно все оформление в целом, с разных сторон (контуры, орнаменты, тени и т. д.), чаще прибегая к пользованию лупой. Во всех случаях малейших сомнений – обязываю цензоров консультироваться в аппарате Главлита или сообщать мне и моему заместителю с приложением оригиналов[121].
Общая неопределенность инструкции в сочетании с требованием представлять все сомнительные материалы на суд Главлита и с высокой ценой ошибки естественным образом вызвали поток дел о потенциально вредоносных находках. Решения по этим делам, в свою очередь, часто давали пищу воображению цензоров и граждан, толкая их к новым открытиям.
Так, в начале 1935 года был запущен процесс гиперсемиотизации, пик которого пришелся на 1937 год. Впрочем, к 1937 году способы выявления «скрытого врага» все еще нуждались в доработке. В составе вышедшей огромным тиражом в мае того же года методички, посвященной этому вопросу, присутствовала статья «О некоторых методах вражеской работы в печати», где весьма подробно разбирались два новых способа семиотического вредительства[122]. Первый из них – сочетание изображений, порождающее чужой знак:
Вредительство… весьма разнообразно. В одних случаях оно проявляется в контрреволюционном сочетании фото и карикатур, аншлагов и фото или карикатур и аншлагов, «шапок», отдельных крупных заголовков[123].
Второй представляет собой искажение внутри изображения, которое порождает портрет врага:
В других случаях до неузнаваемости искажаются в работе (в ретуши и в цинке) снимки… Нам известны факты, когда вражья рука в обыкновенный снимок ловко и тонко врисовывала портреты врагов народа, которые становятся отчетливо видными, если газету и снимок рассматривать со всех сторон[124].
Цензоры довольно строго следовали этой инструкции, работая с лупой и поворачивая изображения, причем при изучении не только печатной продукции, но и предметов быта и роскоши, одежды, оборудования, скульптур – то есть практически всех вещей советской повседневности. Эта цензурная практика существовала все сталинское время и прекратилась только в 1950‐е: «В „Комсомолке“ отменили специального дежурного с лупой, в обязанность которого входило разглядывать фотографии вождя, следить, чтобы среди типографских значков не возникали нежелательные сочетания – в этих случаях клише отсылали в цинкографию на переделку», – пишет в своих воспоминаниях зять Хрущева Аджубей[125].
Итак, в 1937 году гиперсемиотизация была принята на вооружение как средство распознания нового агента угрозы – «скрытого врага». Причем, с точки зрения властей, применять это оружие следовало не только цензорам, но и как минимум всем честным партийцам. Например, инструкция Винокурова, прежде чем попасть в методичку, была опубликована в журнале «Большевик», теоретическом и политическом органе ЦК ВКП(б) – тираж журнала исчислялся сотнями тысяч экземпляров. Фактически был брошен клич: все на борьбу с семиотическим вредительством!
Несомненно, само по себе явление «гиперсемиотизации», включающее внимательное отношение к малозначимым вещам и страх перед чужим знаком, – вовсе не уникальная примета советского общества. Например, в 1939 году в Дрездене на Бисмаркплац пришлось срочно поменять расположение дорожек между газонами, потому что кто-то увидел в них рисунок британского флага[126].
Гиперсемиотизация была, есть и будет всегда. Однако, чтобы она вызвала панику масштаба той, которая охватила в 1935–1938 годах СССР, нужны весьма специфические исторические обстоятельства, в частности необходима слаженная работа СМИ (напомним, что в Советском Союзе они были полностью монополизированы государством), которая могла бы донести одновременно до множества людей идею грозящей им опасности.
Как ни удивительно, почти полный аналог описанных выше поисков семиотического вредительства можно найти в работе Сергея Иванова про «адописные иконы». В XIX веке во многих губерниях происходят массовые волнения крестьян, которых не могут успокоить никакие разъяснения, увещевания и кары со стороны представителей церкви и светских властей. Крестьяне разбивают на части иконы, срывают оклады, счищают верхний слой изображения, потому что верят, что иконы «адописные», то есть скрывают в себе дьявольские образы: «Стоустая молва добавляла, что изображения святых на тех иконах нарисованы адской сажей, то есть сажею, взятою из самых челюстей пекла, что стекло тех икон изнутри подкрашено не просто обыкновенною краской, но кровью диавола»[127].
При сравнении советской гиперсемиотизации и паники вокруг «адописных» икон легко заметить один значимый совпадающий элемент и одно существенное отличие. Сходство, несомненно, структурное – вычитывание несуществующего знака и поиск вредителя, который стоит за его появлением. Но нас сейчас интересует парадокс, вытекающий из различия.
Во многих сегментах христианской традиции принята идея тождества между религиозным объектом и символом, его обозначающим. Верующий, молясь иконе Девы Марии, обращается не к идолу, а к существу. Поэтому паника, связанная с появлением скрытых знаков дьявола, понятна – эти знаки захватывают и переадресуют молитву, направляя ее иной, вредоносной сущности. Советская система изначально такого религиозного отождествления не предполагала. Однако логика всего рассказанного выше подсказывает, что коробок спичек, на этикетке которого в изображении пламени кто-то углядел профиль Троцкого, помещал в сферу опасного самого владельца спичек, даже если тот и не «считывал» скрытый символ на этикетке.
В ситуации с профилем Троцкого нет намеренного адресата, получателем сигнала становится любой, кто потенциально может разглядеть вредительское послание. Поэтому и владение коробкой спичек с подозрительным изображением языков пламени, и чтение по ночам «Бюллетеня троцкистов» являются контрреволюционной пропагандой. Но коробок спичек опаснее, потому что «контрреволюционный сигнал» в нем скрыт, что позволяет очень легко вовлечь других людей в коммуникацию и сделать их невольными носителями скрытых знаков, превратив каждого из них в «адописную» икону замедленного действия, семиотическую «мину-лягушку». В какой-то момент знак непременно будет кем-то прочитан, и последствия могут быть какими угодно.
Что важно: эти «опасные знаки» ни исходно, ни впоследствии заведомо не принадлежали никакой реально существующей группе – ни в СССР, ни за его пределами не существовало сообщества, для которого было бы нормальным делом рисовать этикетки на спичечных коробках в виде профиля Троцкого и прятать свастику на портретах Пушкина (о злокозненной манере рисовать плавающие головы на консервных этикетках уже не говорим). В этом смысле советская власть 1930‐х годов воистину опередила свое время, ибо фактически оперировала в рамках теории Джеймса Скотта о «скрытых транскриптах» подавляемого класса, сформулированной только шестьдесят лет спустя. Согласно этой концепции (автор которой по своим взглядам во многом близок к марксистам), подавляемый класс, который не может прямо ответить на агрессию, реагирует серией скрытых транскриптов (hidden transcripts), канализирующих свое недовольство в социально приемлемых формах. Анекдоты, слухи, прозвища, скрытые знаки – в этой концепции все является скрытыми транскриптами[128]. Советская власть строго «по Скотту» не только рассматривала любые элементы действительности как потенциальные символы сопротивления, но и пыталась отыскать за набором знаков вражескую группу, которая их порождает с вредоносной, но не всегда легко определяемой целью.
Парадоксальным образом, кроме чекистов, существовала еще одна группа, для которой тоже была жизненно необходима фигура могущественного скрытого врага, борющегося с советской властью. Речь идет о той части русской эмиграции, которая отчаянно ждала переворота и была готова видеть признаки скрытых транскриптов в любом намеке из СССР – ровно таким же образом, как и советская власть. Так, в парижской газете «За новую Россию» анонимный автор, описывая историю с пушкинскими тетрадками, объясняет ее как пример скрытого сопротивления, точно следуя логике Постышева:
И там, где бумажная масса под вальцами превращалась в бумажный лист, – кто-то из того народа, который «безмолвствовал», обрел дар слова: в рыхлую массу вкладывались заранее вырезанные из газет различные слова, составленные в новом порядке; потом масса попадала под вальцы; вырезанные четырехугольнички слов вминались в толщу бумаги и довольно четко просвечивали сквозь тончайший слой бумажных волокон. Так появились на тетрадях «крамольные» лозунги «Долой партию Сталина!», «Да здравствует свобода!» и пр.[129]
На этом можно было бы закончить, если бы примерно в те же годы не существовало системы, где скрытые знаки оказались совсем не выдумкой. Речь идет об оккупированной нацистами Норвегии, где в процессе формирования антинацистского норвежского Сопротивления возникла ситуация символической игры, построенной на тщательно замаскированном использовании знаков королевской династии. Так, например, огромным тиражом были выпущены (и одобрены немецкой цензурой) рождественские открытки, изображающие гномов, которые открывают сундук с подарками. Однако орнамент на крышке сундука складывался в монограмму HVII, отсылавшую к бежавшему королю Норвегии Хокону VII, а цвета одежды гномов указывали на норвежский флаг.
Этот пример похож на описанные в нашей статье – за одним, но весьма существенным исключением: те знаки подрывного характера действительно существовали и были встроены в изображение специально. Немецкая полиция объявила автора рисунка в розыск, хотя весь тираж уже был раскуплен, а сами открытки еще два года служили подобием пароля для участников Сопротивления. И это не единственный инцидент такого рода: участники Сопротивления неоднократно размещали скрытые знаки протеста в публичном пространстве, а нацистская цензура не только пыталась их найти и дешифровать, но даже прибегала к размещению псевдознаков с целью запутать аудиторию[130].
Норвежское Сопротивление было реальным явлением и пользовалось скрытыми знаками для консолидации своего сообщества. А вот «троцкистско-зиновьевская шайка» (с. 114) была сугубо пропагандистским конструктом. Даже если бы такая группа и существовала, вряд ли она назвала бы себя «шайкой» и, соответственно, не была ответственна за возникновение реальных «скрытых транскриптов».
Итак, как видим, гиперсемиотизация сама по себе может возникнуть где угодно, но есть несколько условий (своего рода «питательный бульон»), которые необходимы для того, чтобы она приняла массовый характер и стала частью настоящей, полноценной моральной паники.
Во-первых, у человека должны возникнуть чувство повышенной тревожности и ощущение потери контроля над происходящим: а вдруг за мной следят? А вдруг меня арестуют? А вдруг завтра я окажусь без средств к существованию? Такие чувства способствуют появлению конспирологических представлений о всемогущем враге (с. 89), способном вмешиваться в повседневную жизнь. И с таким врагом приходится как-то бороться.
Во-вторых, стремление распознать и обезвредить врага по оставленным им тайным знакам должно подкрепляться идеей, что оперативное распознавание вражеского знака – это способ избежать серьезной (часто смертельной) опасности.
В-третьих, идея невидимого и могущественного врага, который контролирует нашу жизнь, должна иметь очень широкое распространение и должна быть поддержана элитой, медиа и «низовыми» активистами (с. 51–53). В советском случае, как мы увидим в следующем разделе, этим занимались сначала представители карательных органов и пропагандисты разных уровней, а затем и рядовые граждане.
И только при соблюдении всех трех условий гиперсемиотизация становится массовой и выводит моральную панику на новый уровень, не только увеличивая ее масштаб и интенсивность, но и предлагая множеству людей способ найти и обезвредить врага. Инструкции по поиску врага начинают исходить уже не только «сверху», от чиновников и пропагандистов, но и появляются в «народных» текстах – в слухах и городских легендах об обнаружении вражеских знаков.
В поисках профиля Троцкого: эпидемия гиперсемиотизации 1930‐х
В декабре 1934 года художник Н. И. Михайлов создал набросок «Москва в Колонном зале Дома Союзов прощается с Кировым». Рядом с гробом Кирова, как и положено по регламенту, стояли Иосиф Сталин и Клим Ворошилов, за ними Лазарь Каганович и другие. Однако, когда картину сфотографировали для журнала «Искусство», на черно-белой фотографии между фигурами Сталина и Ворошилова в складках знамени проступил скелет. Стоит ли говорить, что работа была немедленно уничтожена.
Подробности этого дела известны нам из стенограммы экстренного заседания правления Московского союза советских художников, состоявшегося 23 января 1935 года, через пять дней после выхода закрытого письма (с. 91):
Тов. Сталин, видимо, со всей скорбью прощается со своим другом. Стоит тов. Ворошилов – по намекам. Стоит тов. Каганович. Между ними четко обрисован скелет, череп. Здесь видите плечи, дальше рука. И эта костлявая рука захватывает тов. Сталина, затем этот блик – рука, которая захватывает за шею тов. Ворошилова… Тут может быть очень хитрая механика. Может быть, живопись в общем построена в расчете на то, что когда сфотографируется, то красный цвет перейдет в серый, и тогда совершенно ясно видна пляска смерти, увлекающая двух наших любимейших вождей[131].
Сам злосчастный художник Михайлов позже пытался оправдаться, объясняя в письме к своему патрону Климу Ворошилову:
Я не стремился к законченности эскиза, а все внимание устремил только на одно, найти ощущение в пятнах красок драматизма настоящего события. То жестокое недоразумение, которое получилось из‐за незаконченности моего эскиза и случайных пятен-бликов, вызвало у товарищей впечатление о наличии в группе намеченных фигур стоящего у гроба Кирова какого-то призрака скелета, якобы хватающего тов. Сталина[132].
Альтернативу террористической интерпретации предложил (при этом назвав автора тупицей) только Корней Чуковский – правда, не публично, а в своем дневнике. Он объяснил проступающий череп случайностью или намеком художника на опасность, которой подвергают себя другие большевики, в подражание знаменитому художнику-символисту Беклину[133].
Все остальные присутствовавшие на заседании художников и критиков даже не сделали попытки объяснить присутствие скелета соображениями художественного приема. Более того, председатель Московского союза советских художников А. А. Вольтер, ведущий экстренное заседание, с первых строк строил все обвинения в адрес Михайлова с использованием новой риторики о скрытых врагах: «Враг пробрался в нашу среду и использовал это очень умело, умно и тонко»[134].
Для всех участников заседания, кроме, собственно, Михайлова, скелет объективно существовал с того самого момента, как был впервые кем-то замечен. В рамках новой системы поиска врагов уловленное глазом становилось без оговорок действительным – причем как раз в силу того, что изначально оно было неочевидным или скрытым. Именно об этом говорит один из художников, товарищ Ряжский:
По-моему, у большинства глядевших на эту вещь будет одно и то же впечатление, что между фигурой т. Сталина и т. Ворошилова и т. Кагановича явно замаскированный скелет. Все детали этого скелета налицо, а вывод отсюда, за что эта картина ‹…› может только агитировать за дальнейшие террористические акты над нашими вождями. Только такое содержание картины и только такую трактовку можно увидеть в ней[135].
Скрытое значение становилось доминирующим, если не единственным. Прочие части надписи теряли значимость и низводились до статуса оболочки, важной только тем, какое вражеское послание она скрывает. Они переставали существовать как сообщение, превратившись в «некий пассивный носитель вложенного в него смысла». Другими словами, обнаружение скрытого значения полностью уничтожало исходный текст. И чем дальше, тем чаще – вместе с автором. Михайлов был «вычищен» из Союза художников, сидел в Воркутлаге, потом в Ухте. Умер он в 1940 году, так и не вернувшись в Москву.
Страх перед антисоветским выпадом, который может быть передан настолько тонкими изобразительными средствами, что обнаружится разве что при фотосъемке, так поразил воображение советской цензуры, что три недели спустя вызвал к жизни тот самый цитированный выше «Приказ № 39». Это придало вес и значение любой фигуре, узору, орнаменту или сочетанию оных с текстом, которые вообще могут быть обнаружены на любом изобразительном объекте любого типа, класса и размера. Фактически под подозрением оказываются все возможные – и частично невозможные – сочетания. Отныне при цензурном анализе в процесс смыслообразования включаются все элементы целого – и все, что с ними можно сопрячь. Изображение, будь то «плакат, картина, этикетка, фотомонтаж», с неизбежностью превращается в генератор текстов. Задача цензора – отыскать среди множества потенциальных сообщений одно антисоветское.
Так дело художника Михайлова и «Приказ № 39» отправили всю страну на охоту за скелетами.
В советской печати до 1935 года свастика в открытую указывала на врага. Например, в 1931 году «Правда» изобразила немецкого социал-демократа с поясом, украшенным свастиками[136], как бы выявляя его подлинную природу. В 1935‐м ситуация начинает меняться. Применение приема гиперсемиотизации, о котором пишет «Приказ № 39» («Путем различного сочетания красок, света и теней, штрихов, контуров, замаскированных по методу „загадочных рисунков“, протаскивается явно контрреволюционное содержание»), приводит к тому, что проявившие бдительность граждане начинают видеть замаскированный знак свастики на разных объектах.
25 декабря 1935 года цензоры рассылают сообщение, адресованное республиканским и областным управлениям, об обнаружении свастики на фотографии коммуниста Димитрова рядом со Сталиным: «На снимке пряди волос на лбу тов. Димитрова так переплетены, что получается впечатление подрисованной свастики ‹…›. Главлит категорически запрещает дальнейшее печатание указанного снимка»[137].
Якобы «подрисованная» свастика на лбу товарища Димитрова – пока еще не чья-то попытка назвать Димитрова тайным или явным фашистом и вообще не обвинение. Для Главлита «подрисованная свастика» на лбу коммуниста – это захват «нашей» символической территории, осквернение «нашего» образа посредством чуждого знака. Поскольку этот знак был в какой-то момент кем-то увиден и опознан, его уже нельзя проигнорировать и отмести как маловажный, а можно только изъять: «Издания, отпечатанные с этим снимком и не разошедшиеся, следует задержать и сообщить в Главлит с приложением образца»[138].
В том же 1935 году московская пуговичная фабрика имени Балакирева стала налаживать выпуск модных тогда в Европе пуговиц дизайна «футбольный мяч». Любой человек, знакомый с дизайном «футбольный мяч», знает, что создать узнаваемый образ мяча так, чтобы в линиях швов не получилось тем или иным образом выделить свастику или какие-то ее элементы, практически невозможно. 15 марта заместитель наркома (то есть заместитель министра) внутренних дел Г. Е. Прокофьев отправил спецсообщение Сталину о том, что на этой фабрике производятся пуговицы «с изображением фашистской свастики»[139]. Товарищ Сталин лично изволил начертать на донесении: «Ну и нечисть. И. Ст.»[140] Подобное выражение было выбрано не случайно: именно таким – демонизирующим противника – обозначением во второй половине 1930‐х клеймили скрытого и явного врага. Преступление было отягощено тем фактом, что дизайн был внедрен при помощи немецкого подданного Ф. Элендера (бывшего бойца Красной армии Рура). Производство пуговиц было не просто прекращено – началось массовое изъятие из швейной промышленности и розничной торговли 120 тысяч пластмассовых пуговиц[141] (попробуйте представить себе масштабы мероприятия и то эхо, которое оно породило в массовом сознании).
Если некий гражданин СССР купил рубашку с подобными пуговицами, однако не «вчитывает» в них символическое содержание, все равно он виновен в том, что обладает вещью, содержащей чужой знак, который в любой момент может быть кем-то прочитан. Фактически на этой стадии мы имеем дело с «символической инфекцией»: скрытый знак, как неизлечимая болезнь, заражает своего «носителя», при этом «инкубационный период» может длиться сколь угодно долго, пока знак не будет считан. Как следствие, вещь, в которой может быть прочитан чужой знак, становится «не нашим» объектом долгосрочного действия и подлежит не только изъятию, но и уничтожению. Владелец же такой опасной вещи в лучшем случае становится «контрреволюционером поневоле», потому что он тоже «заражен», а в худшем – проявляет недопустимую для советского человека слепоту или сам является врагом.
С 1935 года начинается активная борьба с «зараженными» и поэтому потенциально опасными вещами. Меру серьезности, с какой советская власть в лице своих представителей относилась к этой угрозе, можно оценить, например, по тому, на каком уровне рассматривались подобные инциденты сугубо семиотического свойства, никак не связанные ни с вандализмом, ни с пропагандой, ни с возможным протестным поведением.
15 декабря 1937 года на заводе № 29 состоялось экстренное заседание Бюро Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), посвященное изготовлению маслобоек с лопастями, которые имеют вид фашистской свастики. Суть дела такова: управляющий областной конторы Метисбыта товарищ Глазко предъявил образец маслобойки, «лопасти которой имеют вид фашистской свастики». Проверка установила, что «начальник цеха Краузе», немец по национальности, «добавил вторую лопасть, установив ее перпендикулярно первой. В результате расположение лопастей приобрело вид фашистской свастики»[142]. Вопрос о лопастях для маслобоек потребовал персонального отчета «на министерском уровне» – со стороны наркома оборонной промышленности Михаила Кагановича. Дело было передано в НКВД, причем комиссия особенно упирала на «символическую слепоту» местного руководства: «Несмотря на ряд сигналов, ни руководство завода № 29 ‹…› ни руководство треста ‹…› не приняли мер к изъятию маслобоек, лопасти которых имели вид фашистской свастики»[143].
Упомянутые лопасти по конструкции располагаются внутри маслобойки, соответственно, в штатной ситуации их никто не видит, поэтому в виде орудия прямой или косвенной пропаганды они могут зловредно повлиять на очень ограниченное количество людей. Несмотря на это, маслобойки были изъяты, а люди, имеющие к ним отношение, арестованы. Если вещь инфицирована чужим знаком, степень публичности не важна.
Начиная с 1937 года свастики стали находить абсолютно везде. Например, в декабре того же года усилиями Главлита такой знак был обнаружен на пуговице френча Сталина, причем признаком свастики было сочтено то, что пуговица была пришита «крестообразно»[144]. Бдительный Постышев отыскал свастику не только на портретах Сталина и Пушкина[145], но и в саратовской колбасе. Искали ее и инстанции пониже. В 1942‐м одна лагерница чуть не получила второй срок за изображение свастики, увиденное надзирателем на самодельной детской распашонке[146].
Слухи вокруг таких случаев постепенно превращались в полноценные городские легенды. В 1937 году жители Смоленска шептались о местном кондитере, который выпек торт в виде запрещенного знака[147]. После войны тема свастики не теряет своей актуальности, например возникают легенды о домах, конструкция которых напоминает этот знак (об этом см. в конце главы).
В 1868 году лингвист, философ, математик Чарльз Пирс написал очень небольшую статью[148], которая в XX веке стала основанием новой науки семиотики. Речь идет о том, что в человеческой культуре существуют разные типы знаков, различающиеся по способу указания на обозначаемый объект. Пирс выделяет в отдельную группу знаки-индексы, которые сохраняют только часть связи (как правило, причинно-следственную) между знаком (означающим) и объектом (означаемым). Однако такой связи достаточно для того, чтобы зритель ее уловил. Дым, поднимающийся над трубой деревенского дома, есть знак-индекс огня в печи.
В 1920 году свастика стала официальным знаком-индексом Национал-социалистической партии Германии: любое появление свастики являлось однозначной визуальной отсылкой к фашизму и фашистам. В то же время невидимый внутренний враг, «двурушник», «троцкист-зиновьевец», о котором говорилось в программных статьях Сталина и Вышинского, никакого своего знака-индекса не имел, потому что в реальности никогда не существовало группы вредителей «троцкистов-зиновьевцев», которые ставили бы своей целью совершение диверсий против СССР.
Хотя в предупреждениях Главлита и в нагнетающих панику статьях Вышинского все время шла речь о том, что невидимый внутренний враг будет заражать опасными знаками советские вещи и объекты, советские читатели были в некотором недоумении: что искать? Какие знаки будут внедрять эти самые «троцкисты-зиновьевцы»?
Если знака-индекса у группы врагов нет, то его надо создать. И где-то в пространстве смыслов между высокопоставленными советскими чиновниками и простыми гражданами возникает представление о том, что воображаемый враг «троцкист» будет внедрять в советские вещи некие знаки-индексы, указывающие на самую известную концепцию Льва Троцкого – теорию грядущей мировой революции и на связанное с ней словосочетание «пожар мировой революции» из риторики 1920‐х годов.
Спичечная фабрика «Демьян Бедный» в Ленинградской области несколько лет выпускала спичечные коробки с изображением пламени. Дизайн этикетки был радикально изменен в 1937 году[149] – возможно, произошло это из‐за распространенных слухов[150] о том, что если перевернуть коробок вверх ногами, то вместо пламени вокруг нарисованной спичечной головки можно увидеть «профиль Троцкого» (ил. 3):
Ил. 3. На этикетке спичечного коробка в перевернутом виде можно углядеть профиль Троцкого с бородкой
В моем детстве в радиопередачах не было более страшных слов, чем «Троцкий» и «троцкизм». Я помню, как мой отец, придя с работы, положил передо мной коробок спичек – такой же, как у нас на кухне, – и сказал: «Ильюша, попробуй найти в нарисованном на коробке пламени профиль человека с бородкой». Я повертел и так и сяк, но ничего не увидел. Вошедшая мама заинтересовалась: «Сережа, так в чем смысл твоего ребуса?» Отец поднял глаза и серьезно проговорил: «А в том, что за эту наклейку директора спичечной фабрики на днях арестовали как троцкиста»[151].
Поиск скрытого знака-индекса, который воспринимается как «подпись» врага, становится повседневной практикой. Например, в случае, описываемом ниже, соседка рассказчика ищет, находит и показывает скрытый знак – бородку Троцкого, – потому что она уже знакома со слухом о его существовании:
– Вы ничего не видите здесь подозрительного? – спросила Мария Никаноровна, показывая маме коробок спичек с очень распространенной тогда этикеткой, на которой было изображено остроугольное пламя горящей спички.
Мама озадаченно вертела коробок.
– Нет, ничего, спички как спички.
– А Вы присмотритесь внимательнее, – настаивала Мария Никаноровна. И наконец, нисходя к маминой неосведомленности, торжествующе произнесла:
– Бородка Троцкого![152]
Появление повседневных практик на основе таких слухов привело к развитию фольклорной остенсии – ситуации, когда люди не просто редактируют свое поведение в соответствии с популярным фольклорным сюжетом, но и воплощают его в жизнь (с. 59). Этот процесс затронул не только обычных жителей Москвы и Ленинграда, но и дошел до Политбюро, о чем наша следующая история.
С мая по ноябрь 1937 года в Париже проходила Всемирная выставка, для которой готовили композицию советского скульптора Веры Мухиной, ставшую известной под названием «Рабочий и колхозница». Огромную скульптуру монтировали в большой спешке на заводе. Когда монтаж был закончен, скульптуру приехала «принимать» правительственная комиссия самого высокого уровня (в нее, например, входили Молотов и Ворошилов). Комиссия осталась очень довольна результатом, но, что характерно, два единственных замечания, высказанных высокими гостями, были вызваны «повышенной семиотической тревожностью». Как мы помним, одной из основных интриг выставки было скрытое соперничество между павильонами нацистской Германии и Советского Союза. Кто-то из правительственной комиссии опасался, что композиция «Рабочий и колхозница» в павильоне создаст неправильное впечатление, и спросил, «нельзя ли повернуть, чтобы она не неслась на немецкий павильон». Вторая просьба принадлежала Климу Ворошилову: он предложил колхознице «убрать мешки под глазами» – скорее всего, для того, чтобы зрители советского павильона видели счастливых и не уставших граждан социалистического государства[153].
Но на этом история не закончилась. Вечером вся рабочая группа, от скульпторов до рабочих-монтажников, собралась для того, чтобы отпраздновать сдачу проекта. Ночное веселье было прервано звонком автора проекта Иофана, который рассказал (со слов перепуганного коменданта завода), что только что на завод приехал Сталин с другими членами Политбюро, скульптуру освещают мощными прожекторами. Сталин постоял двадцать минут, посмотрел на скульптуру и уехал[154]. Можно только представить, что пережила рабочая группа. Но для Веры Мухиной и Бориса Иофана все кончилось благополучно.
В чем была причина такого странного поведения Сталина? Зачем правительственная комиссия приезжала на завод повторно? Ответы на эти вопросы интересовали не только нас. В 1940 году бывший литературный критик Лидия Тоом расспрашивает свою подругу Веру Мухину об обстоятельствах создания скульптуры и записывает ответы. Именно из этих записей мы и знаем всю эту историю. Когда Тоом спросила про причины ночного визита Сталина, Вера Мухина крайне неохотно объяснила его приезд слухами о профиле Троцкого и в подтверждение рассказала две истории, случившиеся перед началом работы над проектом и после возвращения из Парижа в конце 1937 года (в 1960‐х годах Лидия Тоом опубликует свои записи в отредактированном виде – конечно, эта история туда не войдет):
Когда я в Торг<овой> палате подписывала договор [о создании скульптуры], подходит главный художник выставки и говорит: Ему кто-то сказал, что одна [парт<ийная>?] организация нашла у моего рабочего профиль Троцкого.
– Что за чушь!
– В. И., такие слухи есть. Я счел нужным вам сказать.
Что делать? Сказать В. М. [Молотову] – но все дело может сорваться из‐за глупой сплетни.
После приезда из Парижа я была на приеме в Кремле (прием турец<кого> посла). Ко мне Ив. Ив. Межлаук подвел Булганина и сказал:
– Вот это автор той группы, в складках кот<орой> усмотрели некое бородатое лицо.
Это глупости. Все это пошло. Так можно все смутить и все сорвать[155].
Из этой истории мы узнаем, что в партийных кругах и даже на уровне Политбюро слухи о троцкистском знаке-индексе были распространены, но при этом подвергались частичной табуизации: прямое упоминание имени Троцкого заменялось эвфемизмом «некое бородатое лицо».
Поиск троцкистских скрытых знаков очень быстро вырывается из-под партийного контроля. Самоуправные инициативы «снизу», находящие то свастику на платьях, то образ Троцкого на значках, приводят к массовым отказам носить вещи и использовать объекты, являющиеся важными атрибутами советской идеологии. И тут властные институты оказались в сложной ситуации: с одной стороны, поиск тайных знаков – прямое следствие концепции «невидимого врага», а с другой – он приводит к стихийному уничтожению советских символов. Эта дилемма очень хорошо отражена в деле о зажимах для пионерских галстуков (ил. 4).
Ил. 4. Зажим для пионерского галстука с предполагаемой аббревиатурой ТЗШ: «троцкистско-» (перевернутый костер), «зиновьевская» (костер на боку), «шайка» (костер в обычном положении)
В 1930‐е годы пионерский галстук не нужно было мучительно завязывать специальным узлом. Для этого у школьников были специальные металлические зажимы, на которых был изображен горящий костер с тремя языками пламени. В ноябре 1937 года школы Москвы и Ленинграда поразила эпидемия слухов об опасности этих зажимов. В гравировке с изображением пламени школьники и взрослые видели вездесущую «бородку Троцкого»[156], его профиль[157], а также подпись злодейской оппозиции:
Если перевернуть значок вверх ногами, три языка пламени образуют букву Т, что значит – троцкистская. Если повернуть его боком, эти же языки пламени оказываются буквой З – зиновьевская. А если смотреть на рисунок прямо, то получится буква Ш – шайка. Значит, враги изобразили на нем свой символ: троцкистско-зиновьевская шайка[158].
Эта «народная интерпретация» переносит на обозначения врага те негативные номинации, которыми его награждает советское правительство. Если в советской риторике оппозиция постоянно называется «троцкистско-зиновьевской шайкой», в городских легендах воображаемый враг будет называть себя так же и метить советскую атрибутику невозможной аббревиатурой «ТЗШ».
Такие слухи среди школьников не на шутку взволновали Политбюро. Причинам, по которым пионеры не желали носить зажимы, посвящено спецсообщение замнаркома внутренних дел (то есть заместителя министра) товарища Фриновского, направленное лично товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову и Кагановичу 31 декабря 1937 года:
В ноябре месяце 1937 года в Москве, в значительном количестве школ среди пионеров распространились слухи, что на пионерских галстуках, якобы, выткана фашистская свастика, а на зажимах к пионерским галстукам имеются инициалы «Т» и «З», что означает «Троцкий» и «Зиновьев». Это послужило причиной к тому, что пионеры в массовом порядке начали снимать пионерские галстуки и зажимы. Такие же факты снятия пионерских галстуков и зажимов к ним отмечены в Ленинграде, в пионерлагере «Артек», а также во многих городских и сельских школах Крыма. Произведенной проверкой установлено, что ни на пионерских галстуках, ни на зажимах к ним нет ни знаков фашистской свастики, ни указанных инициалов[159].
Фриновский не остановился на описании паники, последовавшей за слухами. Он подробно, на трех страницах, описал ход расследования, призванного установить источник заразы. Согласно его спецсообщению, «первоисточником распространения провокационных слухов среди школьников в гор. Москва является ученик 5 класса 350‐й школы Косовой Борис, 13 лет», который привез их из ленинградской школы, где «вожатая Кочкина Мария 10 ноября предложила всем пионерам школы снять зажимы к галстукам, так как на них, якобы, имеется фашистская свастика». В свою очередь, «Кочкина получила эти указании от работников пионеротдела РК ВЛКСМ», которые выполняли распоряжения «секретарей Ленинградского Обкома ВЛКСМ т. т. Авдеевой и Любина». Они сослались на заведующую отделом пионеров ЦК ВЛКСМ Волкову и инструктора ЦК ВЛКСМ Андреева.
В отношении паники в «Артеке» точно так же показания сошлись на двух комсомольских инструкторах, Иванове и Горлинском, чьи «рекомендации» «через пионервожатых распространились и по другим городам Крыма».
Как следует из документа, прямые инструкции сверху снять зажимы для пионерских галстуков поступали только в двух случаях и оба раза были инициативой комсомольских работников среднего звена. Далее информация распространялась сама. Причем в столице волна слухов началась с одного конкретного ученика пятого класса, Бориса Косового. Фактически достаточно того, чтобы один человек увидел на священном пионерском символе вражеский знак, – и эпидемия начинает переходить из школы в школу, из учреждения в учреждение, из города в город.
Чтобы остановить ее, советская власть была вынуждена прекратить поиски скрытого знака. Для того чтобы исправить ситуацию с массовыми отказами носить советские атрибуты, пришлось даже устроить новую мобилизационную кампанию:
Однако через неделю опять всех собирают в большой зал. На трибуне учительница физкультуры, партийный секретарь школы, в руке у нее тетрадь и значок: «Ребята, специальная комиссия исследовала эти вещи. В них не нашли ничего плохого. Это все придумал враг, который хочет, чтобы вы не носили пионерских галстуков!» Срочно стали выяснять, кто же это придумал первый, но так и не нашли. Враг работал умело![160]
Полного успеха кампания не возымела – зажимы для галстуков резко потеряли популярность.
И в этом заключается главная опасность гиперсемиотизации: запустить действие этого механизма легче, чем остановить его.
К концу 1937 года гиперсемиотизация распространилась настолько, что весь рукотворный мир превратился в текст, подлежащий прочтению. Любое изображение или текст могли оказаться результатом «вылазки врага».
До некоторых пор гиперсемиотизация поощрялась властями. «Семиотическая слепота», которая находила время от времени и на самых истовых коммунистов, наказывалась. Естественно, репрессии за отказ от поиска вражеского знака вызывали вал новых «находок». Однако довольно скоро стало ясно, что излишняя ретивость в поиске опасных знаков, а также массовый характер этих поисков приводят к простоям на производстве и экономическим потерям:
В июле 1938 года на совещании ЦК ВКП(б) работники хлопчатобумажной промышленности жаловались руководителям партии, что приходится браковать выпускаемую годами до того ткань по причинам «идеологической невыдержанности». Перестраховщики через лупу обнаруживали на ней то свастику, то японскую каску, то… портрет Николая I. Ткани, терпя убытки, перекрашивали[161].
Но к концу 1937 года стало ясно, что экономическая убыточность – не единственный «побочный эффект» гиперсемиотизации. Если скрытый знак изображен на пуговицах, колбасе или тетрадках, то их можно уничтожить (даже если это технически сложно и экономически затратно). Но что делать в ситуации, когда вражеский знак проступает на сакральном объекте? Что важнее – скрытый контрреволюционный контекст или изображение вождя?
В декабре 1937 года начальник карельского цензурного отделения (Карлита) сообщил московскому Главлиту о брошюре с портретом Сталина, где «на рукаве отчетливо видно изображение Муссолини. На груди отчетливо видны буквы, составляющие слово „Гитлер“». Возмущенный Главлит ответил:
Категорически запрещаются всякие попытки к задержанию брошюры т. Сталина «О проекте конституции Союза ССР». Не поддавайтесь на очевидную провокацию. Попытка найти на портрете Сталина особые знаки, по нашему мнению, была попыткой врагов лишить страну этой брошюры во время избирательной кампании[162].
Казалось бы, конфликт исчерпан, но нет. В 1942 году политзаключенного С. Норильского обвинили в хранении изъятой брошюры Сталина – ровно из‐за профиля Муссолини на рукаве вождя. Норильский указал следователю на высокий статус брошюры, и между ними произошел примечательный диалог:
Следователь достал из ящика белую брошюру – доклад Сталина на восьмом съезде Советов.
– А это зачем хранил?
– Ну, это уж не запрещенная, – усмехнулся я.
– Конечно, не запрещенная, – подтвердил Таранов. – Но издание изъято ‹…›. А не можешь догадаться, за что тебя арестовали. Ну, зачем советскому человеку хранить вражескую мазню?
– Я берег доклад Сталина, – твердо ответил я[163].
Как мы видим, в практике карательных органов вражеский контекст пересиливал даже сакрализованность объекта. Если для Главлита брошюра Сталина являлась неприкосновенной, то для рядового следователя Таранова (который вовсе не обязательно был знаком с секретным циркуляром другого ведомства) она была «вражеской мазней», которую опасно хранить.
Наша глава началась с описания паники, последовавшей за приказом уничтожить «пушкинские» тетрадки, где, как мы помним, в штриховке якобы проступала надпись «Долой ВКПб». Однако несколько дней спустя, 18 декабря 1937 года, нарком Фриновский разослал по органам НКВД шифротелеграмму, запрещающую изъятие пушкинских обложек: «Ученические тетради, имеющие на обложке клише картины Васнецова „Песнь о Вещем Олеге“ и другие, изъятию из торговой сети не подлежат. Повторяем, не подлежат. Примите меры пресечению антисоветских слов»[164], – видимо, из‐за страха перед вспышкой слухов. Однако пресечь «антисоветские слова» в полной мере, видимо, не удалось, а изъятие обложек не было остановлено. Их продолжали уничтожать.
Соответственно, если сначала идеологические установки о скрытом враге и его послании имели целью искоренение всякой потенциальной двусмысленности, то на следующем шаге гиперсемиотизация превратилась в мощный механизм, систематически порождающий не только неприемлемые для власти антисоветские нарративы, но и открытые остенсивные действия (отказаться носить пионерский галстук на основе таких слухов, нарисовать свастику после слухов о свастике), обладавшие огромной социальной инерцией. Такие тексты и практики стали весьма опасными, и с ними советской власти пришлось бороться специально.
Однажды к нам зашел сосед дядя Тиша Бирюков и, показав на висевший на стене отрывной календарь, сказал:
– Найди-ка, Шурка, листок (он назвал число и месяц). Там Буденный и Калинин нарисованы…
Я отыскал: на рисунке были изображены Буденный и Калинин, сидящие в тележке.
– Вырви этот листок!
Я удивился: зачем? Дядя Тиша шепотом объяснил: в складках согнутого в локте рукава шинели Буденного было нечто напоминающее голову зайца с длинными ушами. На груди Калинина просматривалась телячья голова.
– Вот до чего враги народа додумались! – с осуждением произнес дядя Тиша. – Один, мол, трус, другой – подлиза…
Невольно на каждый рисунок в газете или журнале хотелось посмотреть с подозрением[165].
Перед нами бытовая, «низовая» традиция чтения скрытых изображений, которая в конце 1930‐х годов широко распространилась по городам и весям и встречала сопротивление властей. Обратим внимание, что здесь речь уже не идет о профиле Троцкого, шайке, свастике и столичных слухах, эти интерпретации гораздо ближе традиционной картине мира. Заяц, проступающий в Буденном, – устойчивое фольклорное олицетворение трусости.
Школьниками дело не ограничилось.
В 1938 году работники «низового партийного звена» Барсуков и Лившиц вырвали из календаря за 1938 год пять листков с портретами Ленина, Сталина, Калинина и других по той же причине – в изображениях вождей они прочитали «вражескую вылазку»:
Листок календаря за 22 апреля – портрет товарища Ленина. Его галстук, у них, изображает собачью голову.
Листок за 5 мая – портреты тов. Сталина, тов. Молотова. Тов. Сталин курит трубку – а по их словам, тов. Сталин курит в две трубки. Это значит, что тов. Сталин прокурил весь табак в годы революции, и не было табаку в СССР.
Листок за 9 июля – портрет председателя колхоза имени Ворошилова тов. Бадмаева, который рапортует тов. Сталину о победах в Бурят-Монгольской АССР, по их словам, он изображает, что тов. Сталин, принимая рапорт, передает левой рукой нож.
8 ноября – портрет тов. Ленина и тов. Сталина, разговор по прямому проводу. В это время, по их словам, тов. Сталин закрывает рот рабочему, чтоб молчал.
Листок 21 ноября – тов. Калинин и тов. Буденный едут на машине. По их словам, тов. Калинин держит на руках телячью голову, что значит, что тов. Калинин съел все мясо, и его не было в СССР[166].
По существу, перед нами – наивная попытка реконструкции гипотетической оппозиционной пропаганды (частично совпадающей с примером выше). По ремаркам и объяснениям можно проследить, как Барсуков и Лифшиц идут от изображений, вылавливая то, что им представляется отклонениями в штриховке, определяя, какой смысл вложили бы в эти отклонения «враги народа» в вернакулярном зеркале официальной пропаганды. Скрытые знаки складываются в реалистичную картину голода, тотального дефицита и взаимного предательства.
Способы интерпретации, согласно показаниям Барсукова, ему объяснила и показала «некая женщина в Минске, приехавшая из Москвы». И в этом случае для того, чтобы запустить механизм эпидемии, достаточно было одного-двух человек – ибо Барсуков и Лифшиц, конечно же, не ограничились частным толкованием календаря, но «явились с вырванными портретами на занятия районного Института заочного обучения партийно-комсомольского актива и провели дискуссию, посвященную большевистской бдительности». Трактовки двух бдительных граждан явно показались заочникам правдоподобными, поскольку в отчете о происшествии мрачно отмечено: «Эта контрреволюционная брехня распространилась по некоторым организациям посредством слушателей заочного образования»[167]. И НКВД, и Главлит отнеслись к инициативе «снизу» крайне отрицательно, и деятельность Барсукова и Лифшица была пресечена почти в зародыше самым жестким образом. Несмотря на попытки остановить такие «народные интерпретации», к 1939 году местные отделения НКВД оказались затоплены показаниями добровольцев, доносящих о вражеской пропаганде в официальных советских изображениях:
Плакаты содержат в себе грубые контрреволюционные извращения: на лице товарища СТАЛИНА (на флаге) конец уса художником изображен в виде какого-то зверка [так в тексте!]. С правой стороны шеи нарисован вполне ясно топор, упирающийся в шею. С левой стороны шеи нарисован второй топор, направленный на силуэт В. И. Ленина.
Заведующий спецчастью С. Рошель из харьковского издательства жаловался в НКВД на качество избирательного плаката: «Прошу Вашего внимания на разрисовку усов товарища Сталина. Впечатление, что нарисован козел с рогами, лапами и хвостом»[168].
Бдительная аудитория с легкостью превращает штриховку в зверков, способна разглядеть свиные рыла в пропеллерах[169], а в профиле Сталина на знамени – сатанинского козла «с рогами, лапами и хвостом». «Народная интерпретация» демонизирует вражескую пропаганду. Скрытый знак отныне указывает не на профиль идеологического врага, но на дьявола – отчасти потому, что для людей, транслирующих эти интерпретации, «фольклорный язык» гораздо ближе, чем идеологический, а отчасти потому, что идеологический враг – скрытый, неощутимый, повсеместный, могущественный, распознаваемый только по тому вреду, который он наносит ткани советской действительности, занимает функциональную нишу дьявола – а значит, становится им.
История совершила полный круг. В результате сочетания двух факторов – создания новой концепции невидимого врага и страха советского цензора перед потенциальной двусмысленностью – возникает борьба с опасными знаками, исходящими от врагов. Гиперсемиотизация с 1935 года превратилась в официальную практику, поощрявшую поиск и изъятие вражеских сообщений. Прямым следствием оказалось массовое отчуждение «отмеченных» советских вещей и превращение советского быта в пространство войны, где за каждой штриховкой мог скрываться хищный вражеский знак. Так советская власть, боровшаяся за однозначность интерпретаций, запустила мощный механизм, способствующий прямо противоположному. Встречная лавина порождала уже антисоветские (с точки зрения советской власти) истории и практики, включая снятие пионерских галстуков, уничтожение зажимов, календарей с неправильными листками, тетрадей с неправильными обложками и даже работ основоположников марксизма, в том числе и здравствующих на тот момент. Враг в таких текстах демонизировался и приобретал дьявольские черты, буквализируя метафору о «нечисти», окружающей советского человека. Нельзя описать этот процесс лучше, чем это сделал уже упоминавшийся лейтенант НКВД Ралин в рапорте по поводу паники вокруг «пушкинских тетрадей»:
Отдельные учащиеся буквально шарахнулись в контрреволюционные крайности, а именно: стали уничтожать тетради с обложками Некрасова, Ворошилова и др., всячески изыскивая и домогаясь на изъятых обложках расшифровать к<онтр>р<еволюционные> лозунги[170].
Гиперсемиотизация оставалась поводом для локальных обвинений и основой городских легенд в период с 1935 по 1952 год. Согласно спецсообщению органов госбезопасности «Об обнаружении фашистских знаков…»[171], на ободках круглых зеркал, изготовленных райпромкомбинатом Кагановического района Одессы, проступают свастика и портреты гитлеровских офицеров. Правда, в 1952 году сотрудники органов дали иное объяснение этому явлению. Согласно отчету, знаки действительно были, но произошло это потому, что ободки делались из старой кинопленки, а вредители – работники комбината, один русский, два еврея, – эмульсию не смыли и таким образом совершили вредительский акт. На примере этого дела видно, что в 1952 году идея «семиотического вредительства» уже не слишком актуальна: работники комбината обвиняются в том, что они «вредительски» пренебрегли своими обязанностями, в результате чего появились вражеские знаки, но никто не говорит о «врагах», которые специально разместили на зеркалах свастики и портреты фашистов.
Боязнь двусмысленности возникает в ситуации жесткого тоталитарного контроля. Сталин являлся главным арбитром в идеологических спорах и главным интерпретатором всех текстов, вследствие чего (как мы рассказывали в начале этой главы) цензоры так отчаянно сражались с любыми потенциально двусмысленными знаками. Когда в 1953 году Сталин умирает и перестает быть общим знаменателем всего[172], полярная вождю фигура всесильного вредителя, чье дело – оставлять скрытые сообщения в вещах, окружающих советского человека, – тоже блекнет. Довольно быстро исчезают и сами цензурные практики, и «народные» поиски скрытых знаков среди читателей, «снабжавших редакцию [газеты] (и не только) разрисованными фото, где они „обнаруживали“ то сионистскую звезду, то фашистскую свастику»[173].
Дома со свастиками: опасные гиперзнаки после Большого террора
Итак, в 1930‐е годы практика поиска тайных знаков носила характер настоящей эпидемии: чекисты, цензоры, редакторы и рядовые граждане, следуя призывам к «бдительности», массово искали и находили опасные знаки, оставленные «скрытыми вредителями», – свастику, изображение Троцкого или контрреволюционные высказывания – в самых невинных, на первый взгляд, предметах. Нельзя сказать, что идея скрытого присутствия опасных знаков в советских вещах совершенно исчезла в послевоенные годы. Она продолжала существовать, но уже не провоцировала массовых паник и не имела столь трагических последствий. И функция ее стала совсем иной.
Эта смена функции, о которой и пойдет речь в настоящем разделе, произошла не сразу. В моменты политических кризисов, когда в воображении властей угроза, исходящая от могущественного внешнего врага, становилась реальной, идея «семиотического вредительства» оживала и снова, как и во времена сталинского террора, могла привести к судебным преследованиям невинных людей.
Одна такая трагическая история случилась в 1956 году. Двое украинских колхозников, Николай Доцяк и Иван Зорий, сначала хотели высеять на поле серп, но у них не получилось, поэтому они решили сделать из кривого серпа «на колхозном поле тризуб». Это действие было расценено как проявление украинского национализма: Доцяк и Зорий были осуждены на четыре и шесть лет тюрьмы с последующим пятилетним запретом на проживание на территории Украины. В Министерстве юстиции в правильности такого приговора усомнились – ведь осужденные, по их словам, «высеяли тризуб, не усматривая в этом преступного умысла». Однако прокурор эти сомнения отклонил, замечая, что Доцяк и Зорий совершили преступление во время «возвращения из мест заключения лиц, осужденных за националистическую деятельность, которые в период венгерских событий активизировали враждебную деятельность в Западных областях Украины». Прокурор говорил о Венгерском восстании, которое произошло осенью 1956 года (как раз после того, как Доцяк и Зорий высеяли на колхозном поле злополучный знак), имело антисоветскую направленность и не на шутку встревожило советских руководителей. Между надзорными органами и прокуратурой развернулась дискуссия, суть которой сводится к следующему: если за действиями полуграмотных колхозников стоит могущественный враг – «националистическое подполье», то они заслуживают того наказания, на которое были осуждены. В случае обнаружения связи с этим «подпольем», которое активизировало свою зловредную деятельность именно после Венгерского восстания, будет доказан факт «семиотического вредительства», исполнителями которого и стали колхозники. Поскольку таких связей у осужденных не обнаружилось, они были выпущены из лагеря досрочно, отбыв там почти по три года[174].
Этот случай, как мы увидим дальше, не очень характерен для послесталинского СССР. По мере того как враг теряет свои демонические черты, все менее опасными становятся попытки «семиотического вредительства» с его стороны.
Но такие примеры были редкими. Истории об «опасных знаках» в послевоенном советском мире были, как правило, совсем другими.
- Пускай судьба забросит нас далеко, пускай,
- Ты только к сердцу никого не подпускай.
- Следить буду строго:
- Мне сверху видно все – ты так и знай!
Такое обещание дают летчики своим девушкам в невероятно популярном советском кинофильме 1945 года «Небесный тихоход». Родной, но контролирующий взгляд «сверху», о котором «житель снизу» должен быть прекрасно осведомлен, – это по сути «паноптикон» Фуко – ты всегда находишься в поле зрения власти и знаешь об этом. И это представление о взгляде сверху, воспетом в «Небесном тихоходе», имеет свою историю.
В конце 1920‐х – первой половине 1930‐х годов, незадолго до появления концепции скрытого врага и «семиотического вредительства», в советской архитектуре возникают весьма специфические конструктивистские проекты: здания строят таким образом, чтобы «взгляд сверху», с «высоты птичьего полета», сбоку или с любого другого неожиданного ракурса увидел знак, причем не любой, а означающий победу нового строя: серп и молот, пятиконечную звезду или символ индустриализации. Согласно мнению Владимира Паперного, в этом и заключался конструктивистский эксперимент. Автор проекта, помещая зрителя не в строго отведенное для него место, а в любую произвольную точку (сбоку, сверху) разрушает привычную парадигму «чтения» архитектурного объекта. Зритель теперь не обязательно должен находиться рядом со зданием, взирая на него снизу вверх, а может быть помещен куда угодно[175]. Конструктивистские эксперименты были рассчитаны на новые «техники чтения», причем такие же техники чтения предполагалось использовать для дешифровки скрытого знака врага: повернуть листок бумаги или спичечный коробок вверх ногами или, как в случае с якобы скрытым профилем Троцкого в шарфе колхозницы в статуе «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, надо было занять специальную позицию, чтобы увидеть скрытое послание.
Важно отметить, что такой знак (точнее будет называть его «гиперзнаком») мог «прочитать» только взгляд наблюдателя издалека или извне: житель советского города, каждый день проходящий мимо того или иного здания, никак не мог увидеть, что оно имеет форму серпа и молота, это можно было сделать, только посмотрев на здание с высоты птичьего полета. Именно поэтому подобными «гиперзнаками» становились, как правило, не жилые дома, а государственные учреждения, символизирующие новую эпоху: фабрики-кухни, школы, театры. В виде советского символа серпа и молота построили несколько зданий: в Ленинграде школу имени 10-летия Октября[176] (1927) и Академию железнодорожного транспорта[177] имени товарища Сталина (1933), в Самаре – фабрику-кухню[178] (1932). В начале и середине 1930‐х годов, уже на излете архитектурного конструктивизма, архитекторы используют звезду. Один из примеров таких построек – здание театра Советской армии в Москве, построенное в виде пятиконечной звезды (проект утвержден в 1934 году); годом позже, в 1935 году, в форме звезды был сделан вестибюль станции метро «Арбатская».
Кроме серпа с молотом и звезды большой популярностью пользуются проекты зданий, которые сверху или со стороны выглядят как объекты, символизирующие собой торжество советской техники и индустриализации. Конструктивист Иван Николаев проектирует в 1929 году Дом-коммуну на улице Орджоникидзе таким образом, чтобы воображаемый «читатель сверху» видел самолет. Такую же форму придает дому конструктор Главного павильона Строительной выставки на Фрунзенской набережной (1933) и Центрального научно-исследовательского института туберкулеза на Лосином острове в Москве. В 1929 году[179] начинается строительство Театра драмы в Ростове-на-Дону в виде трактора. Видимо, той же целью (сделать здание похожим на гигантский трактор) задались авторы проекта Дома Советов в Нижегородском кремле (1929) и кинотеатра имени Пушкина в Челябинске (1935).
В послевоенный период такие конструктивистские эксперименты почти совсем прекращаются. Из поздних проектов можно назвать институт биоорганической химии[180] в Беляево, который был выстроен в форме только что открытой цепочки ДНК.
В 1930‐е годы в архитектуре начинает утверждаться сталинский имперский стиль. Когда советский человек 1920‐х годов подходил к театру в виде трактора или фабрике в виде серпа и молота, то он просто не мог увидеть и «прочитать» в здании идеологически нагруженный символ – его можно было увидеть, только поднявшись в воздух. Имперская архитектура действует более прямо и рассчитана на то, чтобы донести идеологический месседж до рядового зрителя. Здания, выполненные в стиле «сталинский ампир», доходчиво сообщали современникам о мощи советского государства, поражая их своей величественностью и высотой (тот же месседж здания должны были сообщать и потомкам). Многие исследователи отмечают, что стремление заставить архитектуру говорить об идеологии и делать зрителя частью этого процесса было свойственно в равной степени советской и нацистской архитектуре. Именно с дискуссии на эту тему Владимир Паперный начинает свою книгу «Культура Два»[181]. Нацисты, как показывает в своем исследовании Шэрон Макдональд, воспринимали и описывали архитектуру как «слова в камне»[182]. Генриху Гиммлеру, который как глава СС отвечал также и за ввод в эксплуатацию разных зданий, приписывается фраза «когда люди молчат, камни говорят». Архитектурный ландшафт, окружающий человека, должен был представлять собой модель государства и нести месседж о его величии. Именно для этой цели был построен огромный комплекс зданий в Нюрнберге: в нем проходили партийные съезды. При этом ни сталинской «культуре два», ни нацистской архитектуре не было свойственно стремление к созданию сложной игры с неочевидными гиперзнаками – им гораздо ближе по замыслу была гигантская статуя вождя или огромный дом с барельефами, заметный и вблизи, и издали. Возможно, именно поэтому эпоха гиперзнаков закончилась как масштабный архитектурный эксперимент.
Однако знание о таких экспериментах – вместе с желанием присвоить себе новое пространство – продолжало жить и после эпохи 1920–1930‐х годов. Так появлялись городские легенды о «домах-знаках», причем количество историй о таких зданиях явно больше реального числа таких домов. Однако эти истории – совсем не просто документально точные воспоминания о странных экспериментах прошлого. Городские легенды меняют прагматику «зданий-знаков». Если реальные проекты предполагали, что изображение серпа и молота должно складываться из частей одного здания, предназначенного для общественных нужд, то фольклор чаще говорит о сокрытии гиперзнака именно в жилых домах. Мало того: городская легенда, как правило, увеличивает силу гиперзнака: в его «производстве» задействовано не одно-два, а много зданий – целые кварталы жилых домов. Так, например, жители Екатеринбурга любят рассказывать о том, что местный памятник конструктивизма – архитектурный ансамбль «городок чекистов» – имеет форму серпа и молота (или, реже, – букв СССР), хотя в действительности это не так. Расположение зданий в жилом комплексе НКВД, построенном архитекторами В. Д. Соколовым, И. П. Антоновым и А. М. Тумбасовым, определяется, согласно историческим источникам[183], «их функциональным предназначением», а не гипотетическим «взглядом сверху». Комплекс домов возле Институтского проезда в Черноголовке, микрорайон «Восток» в Минске, общежитие в Кабульском политехническом университете (построенное советскими специалистами), жилые кварталы в Дзержинске[184] и Харькове – все они, согласно местным городским легендам, тоже построены в виде букв СССР.
Иногда встречается легенда о недостроенном (по недосмотру или по злому умыслу) гиперзнаке. Согласно городским легендам, так случилось с одним домом в Перми:
«Дом чекиста» начали строить в форме буквы «С», соседний дом стали строить в форме буквы «Т», чтобы дома выстроились в слово «Сталин», но после его смерти второй дом не достроили, осталась верхняя перекладина[185].
Самые частые рассказы такого типа – о якобы недостроенных домах в форме аббревиатуры СССР. Согласно рассказам одних наших информантов, такой дом планировали построить в Ростове-на-Дону: «архитектор задумал надпись СССР, но успел построить только первую C». Другие информанты рассказывают совершенно такую же историю про комплекс домов, которые называются «эсками» в городе Новополоцк Витебской области в Беларуси: здания должны были сверху составляться в надпись «СССР», но букву «Р» не достроили[186]. Несмотря на распространение подобных идей среди горожан, специалисты по архитектуре уверены, что это именно городская легенда, а не факт. Бывший главный архитектор Новополоцка Макс Шлеймович объясняет, что при создании микрорайона проектировщики думали совсем не о создании гигантского знака, а о том, чтобы дома выполняли свои утилитарные функции: «Думали не о виде сверху, а о том, чтобы сделать свободное дворовое пространство, чтобы не мешали машины, а дети могли погонять мяч». Сходство жилого комплекса с тремя буквами «С» также было связано с особенностями ландшафта, на котором возводился микрорайон. Но оно никак не было результатом желания проектировщиков сложить из домов аббревиатуру СССР[187].
Существуют и более экзотические варианты легенды. Так, жители Харькова говорят, что в корпусах здания Госпрома, чье строительство начато в 1926 году, отображены (если смотреть сверху) первые ноты Интернационала[188]. В Смоленске экскурсоводы рассказывают, что некий жилой комплекс был построен (около середины 1930‐х) в форме фразы «пятилетка в 4 года» или «5 в 4 года». Согласно исследованию нашего коллеги Демьяна Валуева[189], историка из Смоленского государственного университета, это не соответствует действительности, хотя бы потому, что немецкая аэрофотосъемка времен войны совершенно этого не показывает. При этом в газете «Рабочий путь» за 1934 год эти дома упоминаются уже под таким названием. Скорее всего, официальное название, данное комплексу зданий, было позже переинтерпретировано: его стали воспринимать как гиперзнак, скрытый в этих домах.
Как мы уже подчеркнули выше, очень многие информанты уверены в том, что тот или иной дом-знак существовал на самом деле. Вполне возможно, что на устойчивость таких легенд повлияли не только воспоминания о прошлых архитектурных экспериментах, но и современная этим городским легендам тенденция создавать гигантские надписи «ЛЕНИН» к 100-летию вождя с помощью ландшафта. Известно не менее двадцати таких случаев – все они появляются к 100-летнему юбилею Ленина или к 60-летию Октября, то есть в промежутке между 1967 и 1970 годами. Так, в частности, лесничий Василий Подолинский из деревни Лясковичи в Беларуси в 1962 году высадил березы и сосны таким образом, чтобы к 1970 году, столетнему юбилею вождя, из них получилось слово «Ленин»[190].
И советская практика создания гигантских посланий, сделанных с помощью ландшафтных объектов (вспомним приведенную в начале главы историю 1956 года о невезучих колхозниках, которые высеяли тризуб, за что жестоко поплатились), и легенды о домах-знаках вписывали и рукотворные, и природные объекты в пространство идеологии. Однако у таких практик и легенд была и другая цель. В вышеупомянутой истории с жителями деревни Лясковичи, которые «придумали» (то есть поучаствовали в инициированной властями пропагандистской кампании), есть важный нюанс. Земля, которая им была отдана, не годилась для сельскохозяйственной обработки. Высадив березы и сосны в соответствующем порядке, они надеялись, что более высокое начальство обратит на них внимание и оценит их усердие. Эти надежды не оправдались, однако созданный ими знак «Ленин» стал способом подчеркнуть собственную уникальность: местные жители с удовольствием рассказывают об этой надписи и при возможности стараются ее показать. Так легенды о домах-знаках, которые якобы были построены в виде советских идеологических знаков, становятся для сообщества способом говорить об уникальности и важности советской типовой застройки, подчеркнуть свою идентичность. Последнее было особенно важно в том случае, когда никакой другой причины говорить об уникальности того или иного дома или района не было. Недаром один наш собеседник отметил по поводу жилого комплекса, якобы построенного в виде букв СССР в Новополоцке: «И [было] выражение „живу в первой эске“ – и не надо адреса»[191].
Но слухи и легенды «видели» в архитектурных объектах не только правильные советские знаки.
Городские легенды о домах-знаках показывают, что сама идея семиотически нагруженного городского пространства кажется жителям советских и постсоветских городов естественной и правдоподобной. Другое дело, что смысл и происхождение знака, «заложенного» в архитектурный объект местными городскими легендами, может быть разным. Как мы видели, архитекторы начинают создавать такие дома в виде знаков раньше, чем начинается борьба против скрытых посланий, оставляемых вредителями. Тем не менее, хотя проекты таких зданий возникают до 1934 года, их возведение и бурное обсуждение приходится как раз на пик семиотической паранойи 1930‐х годов. Возможно, именно поэтому появляются рассказы, утверждающие, что спрятанный в архитектурной конструкции знак может не только «говорить» о торжестве советской индустриализации, но также указывать врагу на местонахождение важных объектов.
Легенды первого типа рассказывают, например, про уже упоминавшийся театр Советской армии в Москве, который советский архитектор специально построил в форме звезды, чтобы один его луч указывал на Кремль, а другие – на стратегически важные объекты. Так автор проекта будто бы пытался дать наводку немцам и был за это расстрелян[192]