Константин Великий. Равноапостольный
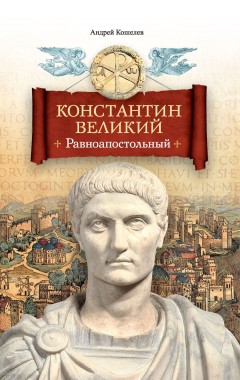
© Кошелев А.В., текст, 2023
© Сибирская Благозвонница, макет, оформление, 2023
Посвящается моей матери – КОШЕЛЕВОЙ ЛИДИИ ВЛАДИСЛАВОВНЕ.
Без ее любви и поддержки этот роман не был бы написан.
Предисловие
В конце первой книги мы оставили нашего героя накануне судьбоносных событий его жизни. Император Константин жаждал найти Бога, которому он мог бы служить. Накануне похода против узурпатора Максенция он увидел в небе пылающий крест с надписью: «Сим победиши». Константин приказал своим воинам нанести на щиты и знамена монограмму Христианского Бога – Хризму.
Несмотря на то, что у Максенция было гораздо больше войск, Константин разгромил узурпатора в битве у Мульвийского моста и положил конец его тирании. Рим приветствовал своего освободителя. Константин объединил под своей властью весь Запад империи. На Востоке два других правителя готовились к схватке друг с другом. Один из них Лициан Лициний, желая заручиться поддержкой Константина, попросил руки его сводной сестры Констанции. Во имя мира император согласился на этот брак. Константин и Лициний стали соправителями. Они подписали Миланский эдикт, который запретил гонения на христиан и гарантировал всем подданным империи свободу вероисповедания.
На Востоке Лициний разбил своего соперника Максимина Дазу. Очередная гражданская война завершилась, в Римском государстве установился мир. Константин провел ряд реформ и преобразований в армии, чиновничьем аппарате, экономике и торговле, ввел в оборот новую монету – золотой солид. После долгого периода смуты Римская империя начинает оживать и набираться сил. Однако религиозная политика Константина столкнулась с сопротивлением как приверженцев языческих богов, так и епископа Рима отца Сильвестра.
Константин стал орудием Господа, но еще не познал Его. Он пытался служить Ему так же, как служат языческим богам, совершая яркие внешние жесты, не отдаваясь своей вере духовно. Поэтому отец Сильвестр не спешил сближаться с императором, который поддерживал христиан, но внутренне оставался язычником. Благодаря своему духовнику епископу Осию, Константину постепенно открывается Истина. Христианство же постепенно входит в жизнь обычных римлян. Благодаря свершениям Константина, его подданные проявляют всё больший интерес к Христу.
Тем временем на Востоке сгущаются тучи. У Лициния и Констанции рождается сын. Лициний одержим желанием основать собственную династию, для этого ему нужно подчинить себе всю империю. Он соблазняет правую руку Константина – патриция Вассиана – предать своего покровителя. Констанции удается предупредить своего брата. Константин раскрывает заговор и предотвращает покушение.
Война между соправителями неизбежна. Лициний призывает на свою сторону религию предков, бросая вызов христианству. Внутри самой Церкви зарождается раскол, угрожающий ее единству. Константина ждут испытания, из которых он выйдет совсем иным человеком.
Часть первая. Орел и хризма
I
Вассиан был приговорен к смерти и казнен. Большинство его ставленников бросились отрекаться от своего благодетеля, осыпать проклятиями, выражать презрение. Анастасия потребовала разорвать брак. Ее спешно развели и отправили жить на виллу за городом.
Некоторые из соратников Вассиана сбежали на Восток, где нашли убежище в Никомедии. Константин потребовал выдать их, но Лициний отказал. Тогда император выдвинул ультиматум, пригрозив войной. В ответ август Востока приказал снести головы всем статуям соправителя, установленным в его владениях. Союз, еще недавно казавшийся таким крепким, рухнул в одночасье, началась война.
Константин понимал, к чему все идет, поэтому начал сбор войск перед тем, как отправить Лицинию первые требования. Он вызвал Далмация из Галлии, Авла и Эрока с Рейна. Как и в походе против Максенция, император повел только полевую армию, пограничные части остались на своих рубежах.
Лицинию не хотелось, чтобы Константин выглядел жертвой, на которую обрушился более могущественный сосед. И был рад, когда ему бросили вызов: не пришлось искать повод. Однако едва он начал созывать силы – его войска были рассредоточены вдоль Дуная и границы с персами, – как узнал, что легионы Запада уже перешли границу.
Константин нанес удар первым. Он шел на Сирмий. Этот город был столицей Лициния до того, как тот разбил Максимина Дазу и занял Никомедию. Там находилась казна, из которой платили жалованье иллирийским легионам. Лициний мог бы поручить оборону Сирмия своим военачальникам, а сам собрать азиатские легионы и двинуться им на подмогу. Но вместо этого он с небольшим сопровождением направился в Паннонию, чтобы лично возглавить иллирийскую армию. В ней его боготворили, там август Востока когда-то начинал службу простым легионером.
Лициний был самым опытным и способным из всех военачальников, с которыми Константину приходилось сражаться. Численное превосходство Максенция пошло ему, скорее, во вред: он стал слишком самонадеян и погубил себя. С августом Востока такого случиться не могло. Казалось, Константин обречен.
Накануне похода император много молился в надежде, что Господь пошлет ему знак и дарует уверенность в победе. Но, несмотря на все его усердие, этого не происходило. Им овладевало отчаяние, он даже хотел отменить выступление, раз Бог ему не благоволит, когда однажды вечером, вместо того чтобы вопрошать, Константин вдруг заговорил с Господом. Он поделился своими страхами и сомнениями, боязнью поражения и предчувствием, что должен атаковать первым, иначе Лициний не оставит ему шанса. Ответом была тишина, но император ощутил, как тяжкий груз спал с его плеч. Впервые с того дня, как он узнал о предательстве Вассиана, Константин уснул умиротворенным, а проснувшись, понял, как одолеть Лициния. Нужно сильные стороны врага обратить в слабые.
В Римской империи особое внимание уделяли подготовке легионеров и командиров низшего звена – декурионов, центенариев. При этом системы обучения военачальников не существовало. Они учились на собственном опыте, наставлениях предков и военных трактатах. Главное, что требовалась от командующего, – не подставлять войска под удар и следить, чтобы армия была обеспечена всем необходимым. Остальное хорошо вышколенные легионы могли сделать сами. Проявлять изобретательность римским военачальникам приходилось редко.
Главная опора Лициния – колоссальный опыт, но он может стать и его ахиллесовой пятой. Август Востока убежден, что знает о войне все. Если он окажется в ситуации, в которой прежде никогда не бывал, то впадет в замешательство, и у Константина появится шанс его разгромить. Император приказал собрать сведения обо всех даже самых незначительных военных кампаниях, в которых участвовал Лициний, и все свободное время проводил, изучая их.
Август Востока решил не рисковать Сирмием, чтобы не повторить ошибки Максенция, который отдал Константину Верону. Он оставил азиатские легионы в резерве. Чем больше армия, тем сложнее ею управлять и тем выше небоевые потери. Лициний жаждал превзойти августа Запада, а не просто задавить числом. И даже с одними иллирийскими легионами он имел превосходство над войсками, которые вел противник.
Прибыв к Сирмию, Лициний расположился в поле, подходящем для сражения, расставил дозорных, укрепил тыл, фланги и стал ждать Константина. Но на подступах к городу армия Запада развернулась и начала отступление.
– Он заманивает нас, – произнес Лициний на военном совете. – Не хочет биться на наших условиях.
Военачальники, вторя друг другу, заверяли августа:
– Константин надеялся взять Сирмий в осаду, теперь ему приходится отступать. Прежде он сражался только с дикими варварами и скудоумным Максенцием. У него еще никогда не было противника, равного тебе. Ты застал его врасплох, о Божественный, превзошел в скорости и мощи.
Все они грезили победой. Лициний высказывал опасения только ради того, чтобы услышать, как их опровергнут. Он отдавал противнику должное, считая его способным военачальником, но решил, что тот переоценил свои силы, понадеявшись на Господа. Лициний двинулся следом, желая навязать Константину сражение. День за днем он постепенно нагонял его. Лициний загнал войска противника в ущелье между высокой горой и глубоким болотом, шириной в половину римской мили. Авангард августа Востока схлестнулся с арьергардом армии Константина, который пытался задержать врага. Лициний прислал подкрепление, арьергард был смят, его остатки стремительно отступили. Но радовался август Востока недолго. Армия Константина укрылась за укреплениями, рвом с торчащими кольями, земляным валом и высоким частоколом, на котором виднелись баллисты-скорпионы и лучники. Остановив наступление, Лициний выслал разведчиков. Как только они вернулись, он устроил военный совет.
– Местные говорят, что Константин, проходя по этим землям, осмотрел ущелье и оставил отряд, который возвел укрепления, – доложил командир разведчиков.
– Он не отступал, а заманивал нас сюда, – разочарованно произнес Лициний. – Я же предупреждал.
Хотя сетовал он в большей степени на самого себя.
– Ты мудр, о Божественный, Константину не удалось скрыть от тебя свой замысел, – сказал главный военачальник Лициния Секстий Випсаний; его голос звучал тихо и устало. – Он так старался тебя перехитрить, что ради этого сам себя загнал в ловушку. Ему не вывести армию из этого ущелья, оно станет их гробницей.
У Випсания было угрюмое, осунувшееся лицо с глубокими морщинами, тонкие губы и тусклые карие глаза. Когда-то Лициний служил под его началом. Август Востока недолюбливал своего бывшего командира, но обойтись без него не мог.
– В ближайшем городке Кибалисе люди Константина закупили провиант и отвезли его в ущелье, – продолжил предводитель разведчиков. – Торговцы не видели знамен и якобы не знали, с кем торгуют.
– Всё они знали! – воскликнул кто-то.
– С Кибалисом разберемся после. Константин запасся провиантом, занял выгодную позицию и возвел укрепления, – подвел итог Лициний.
– И что это ему даст? – фыркнул Випсаний. – Мы соберем осадные машины и разнесем его частокол. Ущелье узкое, нам не развернуться полным фронтом, но и Константин лишил себя маневра. У нас больше войск, мы прижмем его к горе и размажем по ней. А если он будет упорствовать, то запрем в ущелье и дождемся подкрепления.
– Долго ли Запад продержится без императора? – задумчиво произнес Лициний. – Недавно Константин казнил своего соправителя, а теперь ушел сам, забрав большую часть армии и лучших военачальников. Сколько бы он ни запас провианта, время работает против него. Если Константин хотел вынудить нас идти на него штурмом, то он мог бы остаться на своей земле.
– Он спешил начать кампанию как можно скорее, – сказал Випсаний. – Заткнуть рты всем недовольным, доказав, что можно побеждать вопреки воле богов. Такие, как он, не могут придерживаться единого надежного плана, у них полно рискованных идей. Ему повезло, что Максенций был еще сумасброднее. От нас ему даров ждать не стоит.
Випсаний презирал Константина за то, что тот покровительствовал христианам, считал его победы заслугой превосходной армии, доставшейся ему от отца, которую он постепенно разлагал, заставляя поклоняться Богу рабов.
– Дадим армии отдохнуть, соберем осадные машины и начнем обстреливать позиции Константина, разнесем его укрепления в щепки, – заключил Лициний. – А пока повсюду выставить двойные дозоры и отправить конные разъезды, чтобы больше никаких неожиданностей.
Военачальники стали расходиться, Лициний велел Кассию Ювентину задержаться. Молодой патриций, всегда угрюмый и задумчивый, выглядел мрачнее обычного. За время совета он не произнес ни слова.
– Ты не представляешь, сколько раз меня уговаривали заключить тебя под стражу, достойнейший Кассий, – начал Лициний, когда они остались наедине. – Другие думают, что ты либо сбежишь к Константину, поведав ему о наших замыслах, либо перейдешь на его сторону в самый разгар битвы.
– Если сомневаешься в моей преданности, о Божественный, прикажи заковать меня в цепи и бросить в яму.
– А ты был бы только рад этому? – улыбнулся Лициний.
– Я не могу сражаться против брата, – признал Кассий. – Но и предательства себе никогда не прощу!
– Кассий, ты раб или свободный человек?
– Я отпрыск патрицианского рода! – ответил тот.
– Тогда не смей думать о яме, в которой можно отсидеться. Ты должен сделать свой выбор! Я не хочу проливать кровь ни легионеров, ни твоего брата, ни даже Константина. Меня вынудили вытащить меч из ножен так же, как тебя стать соглядатаем. Ты не мог ослушаться. Это был твой долг перед семьей и императором, поэтому я простил тебя. Но с сегодняшнего дня ты сам в ответе за свои поступки.
– Я понял тебя, о Божественный, – склонил голову Кассий.
– Ты знаешь, почему христианство называют религией рабов? – спросил Лициний.
– Потому, что большинство ее приверженцев – невольники.
– Не только поэтому. Все люди перед их Господом рабы, живут и умирают по Его воле. А Константин мнит себя кем-то вроде Его надсмотрщика. Разве невольникам ведома честь? Нет! Вот почему Константин дал тебе, патрицию, столь недостойное поручение. Ты для него все равно что раб! Присмотрись к христианам. Они отвечают перед Богом не только за свои поступки, но даже за помыслы. Вера дает им силу и полностью себе подчиняет. Мы, римляне, отдаем богам должное, чтим их, но не пресмыкаемся. Христианин же всегда будет рабом, сколько бы он ни кутался в шелка или пурпур.
Опустив взор, Кассий вспоминал, как он спас Константина от безумца у Мульвийского моста, а вместо награды тот стал к нему холоден и не позволил принять участие в триумфе.
– Я хочу служить только тебе, о Божественный! – произнес патриций.
– Значит, так оно и будет, – кивнул Лициний. – У Константина есть преимущество, о котором мы забываем. Его людям некуда отступать, они будут биться насмерть, если не узнают, что есть другой выход. Я сохраню жизнь вместе со свободой всем, кто сложит оружие. Они мне не враги.
– Как до них это донести?
– Сам решай. Завтра ты отправишься в лагерь Константина во главе моего посольства.
– Я не гожусь для этой роли, о Божественный.
– Ты не можешь этого знать, пока не испытаешь себя. Я верю в тебя, Кассий. Передай Константину мои требования, а его войскам мое обещание.
Тем временем военный совет проходил и в шатре Константина.
– Арьергард потерял около сотни человек, – докладывал Марк Ювентин. – Примерно столько же ранены и в ближайшей битве участвовать не смогут.
– Это была необходимая жертва, – вздохнул Авл Аммиан. – Ты уберег арьергард от разгрома, Марк. Поступок, достойный твоих славных предков, они гордятся тобой.
Молодой патриций зарделся от похвалы бывалого военачальника. Константин коротко кивнул Авлу, он просил своих приближенных приглядывать за Марком Ювентином, по возможности поддерживать и подбадривать.
– Ни слова о том, что сейчас услышите, ни солдатам, ни даже доверенным слугам, – приказал император. – Болота, примыкающие к лагерю, считаются непроходимыми, но Эроку и его воинам удалось найти тропу.
Кроме отряда, возводившего укрепления, Константин оставил в ущелье алеманов, чтобы они изучили местность.
– Когда-то давно здешний царек с наследником, охотясь, заехал в эти топи, – сказал Эрок. – И утонули вместе с половиной свиты. С тех пор болот все сторонятся; говорят, их духи коварны и кровожадны. Местные будут уверять разведчиков Лициния, что топи непроходимы. Но моему племени и не по таким местам удавалось пробираться, чтобы удивить римлян. – Алеман усмехнулся, обнажив хищные желтоватые зубы.
Авл фыркнул в сторону Эрока, а затем обратился к Константину:
– Сколько легионеров ты отправишь по этой тропе, о Божественный?
– Ни одного, – ответил император. – Хотя Лициний и не ждет нас, он очень осторожен. Придется идти ночью, без факелов. Тропа узкая, легко сбиться. К тому же легионеры много шумят, бряцая доспехами. Алеманы нашли тропу, им по ней и идти.
– Я возьму пять сотен лучших воинов. Мы будем как тени, – пообещал Эрок.
– Хотел бы я посмотреть, как ты на рассвете поймешь, что половина твоих людей утонула, – бросил Авл. – Если сам к тому моменту не захлебнешься.
– Я трижды прошел этой тропой днем, осилю ее и ночью! Будем идти след в след, обвязавшись друг с другом веревками. Способ, придуманный прадедами, никогда не подводит, – заявил вождь алеманов.
– Выступайте на закате, – сказал Константин. – Проберитесь Лицинию в тыл и постарайтесь добраться до обозов. Завтра на рассвете мы отвлечем его внимание на себя. Когда Лициний узнает, что его атакуют с двух сторон, он растеряется. У нас появится шанс закончить войну одной битвой. Но, если этого не случится, ты и твои воины, высокородный Эрок, должны стать постоянной угрозой в тылу у Лициния. Он ни на миг не сможет вздохнуть спокойно.
– Нужно задобрить духов болот, принести им жертвы, – произнес вождь алеманов.
– Ты только разожжешь их голод, – встревожился Марк. – Духов нужно было начать умасливать задолго до выступления. А теперь их лучше не тревожить. Они пробудятся и рассвирепеют!
Все присутствующие, кроме Константина и Эрока, одобрительно закивали. Стараясь скрыть волнение, вождь алеманов взглянул на Марка Ювентина с презрением.
– Тогда моим воинам нужны обереги, – сказал он.
– Возьмите кресты, – посоветовал Далмаций. – Духи не посмеют тронуть тех, кого защищает Господь!
В последнее время брат императора много и охотно рассуждал о Боге.
– Да разве Он увидит нас ночью среди болот? – засомневался Эрок.
Для него Господь был могущественным Небесным Божеством, Которому лучше всего взывать при свете дня, стоя в открытом поле.
– Бог повсюду, и нет предела Его власти, – возразил Далмаций. – Но, возможно, вы недостойны Его защиты.
Варвар широко улыбнулся.
– Нет такого бога, которому был бы не по нраву могучий Эрок, – произнес он.
Авл ухмыльнулся, но промолчал.
– Раз так, то на твоем месте я бы прислушался к совету Далмация, – кивнул Константин. – Прикажи каждому воину сделать для себя крестик, а затем попроси священников освятить этот крестик.
Военачальники стали расходиться, император окликнул Марка Ювентина.
– Высокородный Авл прав, ты хорошо проявил себя, командуя арьергардом, – сказал он молодому патрицию. – Надеюсь, и завтра не подведешь.
– Я жду с нетерпением, когда ты отправишь нас в бой, о Божественный.
– Возможно, в рядах врага ты увидишь своего брата, Кассия.
Марк замялся:
– Не думаю, что он отвернулся от тебя, о Божественный.
– Я знаю, что это так, – твердо произнес Константин. – Скажи, достойнейший Марк, дрогнешь ли ты, если тебе придется сойтись с братом? Сможешь ли выполнить свой долг? Если в тебе есть хоть толика сомнений, останься в лагере.
– Я буду сражаться, что бы ни случилось! – пообещал Марк. – Даже если против нас выступят все боги Тартара и Небес.
II
Константин вышел взглянуть на алеманов, покидающих лагерь. После духоты, царившей в шатре, он с удовольствием вдохнул прохладный свежий воздух. Приближались сумерки. Небо играло алыми красками, блекло светили первые звезды. Легкий ветерок трепал волосы императора. Легионеры готовили ужин. Над лагерем витал запах пшеничной похлебки с салом и жареного мяса. Константин приказал как следует накормить солдат перед завтрашним сражением.
Ступая по мягкой влажной траве, император направился к окраине, где начинались болота. Алеманы шли колонной по одному, опоясанные веревками, которые связывали их друг с другом. На них были кольчуги, надетые поверх рубах, и штаны из грубой шерсти, на головах шлемы, за спиной копья и луки, в руках маленькие круглые щиты, на боку ножны с длинными прямыми мечами. Каждый десятый воин вел под уздцы пони, нагруженного стрелами и провиантом. Германцы тихо напевали песню на родном языке с грустным мотивом.
Прикрыв глаза, Константин стал молиться, прося Господа оберегать Эрока и его воинов, как вдруг услышал крик:
– Стойте! Именем Божественного августа остановитесь!
К алеманам бежал Далмаций с двумя центенариями. Увидев Константина, он обрадовался.
– Их нахальству нет меры! – произнес брат, запыхавшись.
– Что случилось? – нахмурился император.
Далмаций удивленно вскинул брови. Ему казалось, Константин уже обо всем знает, но его посланник разминулся с императором, придя к пустому шатру.
– Им было мало освятить свои кресты, они оставили без крестов пол-лагеря! – пояснил брат.
Сопровождавшие Далмация центенарии закивали. Многие легионеры Константина, не будучи крещеными, носили христианские крестики как талисманы.
– Они их воровали или отнимали силой? – спросил император.
Далмацию пришлось признать, что алеманы покупали и выменивали у солдат кресты, но с уверенностью добавил, что у кого-то наверняка и украли.
– Легионеры Милия, – Далмаций кивнул на одного из центенариев, – сражались в первом ряду у Мульвийского моста. Те, кто пошел в бой с крестом, не получили ни единой царапины.
– А сколько их было? – поинтересовался Константин. – С крестами?
Далмаций взглянул на Милия, тот приподнял ладонь с четырьмя разжатыми пальцами.
– Четверо, – произнес Далмаций и тут же добавил: – Сейчас все легионеры Милия их носят… носили, пока варвары не напоили их и не выкупили кресты за горсть серебра.
– Значит, завтра Милий со своими людьми пойдет впереди всех, – спокойно сказал император. – За то, что напились.
Константин перевел взгляд на алеманов. Ему ясно представилось, как у каждого из германцев висит на шее по два-три нательных креста. Он усмехнулся. Варвары ни в чем не знали меры.
– А одному из легионеров Глосия стрела попала в горло, – продолжил Далмаций, указав на второго центенария. – Все думали, он умрет. Священник помолился над ним, окропил святой водой и положил на грудь крестик. Легионер выздоровел! С тех пор он никогда крестика не снимал, пока сегодня варвары не смухлевали в кости…
– Пусть он выстругает себе новый, освятит у священников и больше никогда не ставит его на кон, – произнес император.
– А как же варвары? – воскликнул Далмаций. – Они украли у нас благословение Божие! Легионеры хотели испытать удачу, а варвары их обманули.
– Если я прикажу Эроку и его воинам вернуть кресты, они падут духом. Наша победа во многом зависит от их успеха, – сказал Константин. – Много ли удачи принесет крест, проигранный в кости или проданный за горсть серебра? Передайте легионерам, что Господь лишил их крестов потому, что те не дорожили ими. Если они хотят вернуть Его благоволение, пусть молят о прощении так истово, как только могут. Что же до сражения, вспомни, у Мульвийского моста в нашей армии было еще меньше крестов, чем сейчас. Но мы разгромили узурпатора. Господь не оставит нас! Легионеры поймут это, когда вступят в бой и почувствуют Его поддержку. А Эрок нуждается в ней прямо сейчас.
На лице Далмация читались сомнения, но он не стал возражать.
– Доверь свои переживания пергаменту, напиши епископу Осию, – посоветовал Константин брату, затем обратился не только к Далмацию, но и к сопровождавшим его центенариям: – Перед тем как уснуть, я буду молиться за наших легионеров, за победу, за Эрока и его людей. Поступите так же, и вы увидите, как Господь ответит на наши молитвы.
Легионеры Константина позавтракали еще до рассвета. С первыми лучами солнца они, облачившись в доспехи, готовились выступать. Император наблюдал за ними, стоя на сторожевой вышке, но вдруг заметил, что к лагерю приближаются шестеро всадников.
– Посланники от моего возлюбленного зятя, – сказал Константин своим контуберналам, указав на конников. – Павсаний, передай высокородному Авлу Аммиану встретить их.
Послы Лициния во главе с Кассием Ювентином подъехали к воротам. Молодой патриций даже сквозь стены почувствовал, что лагерь весь в движении, и ему это не понравилось. Заскрипели тяжелые ставни. Но вопреки ожиданиям послов ворота не распахнулись, а лишь приоткрылись, выпуская Авла Аммиана с небольшим отрядом легионеров. Увидев Кассия, военачальник удивленно хмыкнул и произнес:
– Приветствую благородных послов Божественного Лициния. Божественный Константин ожидает вас в своем шатре.
Все всадники, кроме молодого патриция, спешились. Легионеры окружили их и потянулись, чтобы взять лошадей под уздцы. Кассий покачал головой, резко развернул коня и ударил его пятками по бокам. Вырвавшись из кольца легионеров, он помчался обратно, вниз по склону.
«Может, я отдал Лицинию не того брата?» – подумал Константин, глядя, как он стремительно удаляется, а затем приказал контуберналам:
– Передайте всем военачальникам, пусть пошевеливаются! Мы должны выступить как можно скорее!
Послов император велел расположить в своем шатре, под охраной гвардейцев и заботой своих личных слуг.
В лагере Лициния легионеры рассаживались у костров в ожидании завтрака, потягивались, зевали и сонно перешучивались, когда примчался Кассий. Солдаты зашевелились, но как-то нехотя, словно никому не верилось, что Константин, которого они так упорно преследовали, вдруг сам спускается к ним. Наверняка это вылазка, а не серьезная атака. Попытка потревожить их, не дать отдохнуть после изнурительного марша.
Кассий скрипел зубами от нетерпения и досады, глядя на них. Его трясло, кровь стучала в висках. Он хотел броситься к шатру Лициния, но передумал. Кассий послал к августу юного трибуна – сообщить, что противник наступает, – а сам стал собирать командиров, которые были поблизости.
Одна за другой мысли молниями проносились в голове патриция. Чем больше войско, тем дольше ему разворачиваться в боевое построение. Нужно задержать Константина. Но если выставить против него слабую линию обороны, то он ее сметет, а солдаты, рванувшись назад, посеют смятение и беспорядок среди основных сил.
– Отведите всю тяжелую пехоту назад, – приказал Кассий. – Не вступайте в сражение, пока не соберетесь в крепкий кулак! Лучники и застрельщики, за мной!
Он повел навстречу армии Константина авангард из легкой пехоты. Кассий очень рисковал: кавалерия противника могла бы с легкостью смять его людей. Но дорога узка, полностью на ней не развернуться. Патриций предположил, что Константин отправит вперед тяжелую пехоту, и оказался прав.
– Разомкните строй, встаньте подальше друг от друга, – велел Кассий, когда показалась первая линия противника.
Он слез с коня, вооружился несколькими метательными дротиками и двинулся вверх по склону с пятьюдесятью застрельщиками, приказав остальным ждать. Авл, возглавлявший армию Константина, скомандовал легионерам остановиться и поднять щиты.
– К бою! – крикнул Кассий и метнул дротик.
Снаряды взмыли в воздух. Легионеры Константина укрылись за щитами, никто не получил даже царапины. Авл приказал первым рядам расступиться и метнуть копья в ответ.
– Назад! – приказал Кассий.
Пока легионеры готовились к броску, он успел увести своих людей из-под удара.
– Комариные укусы, – фыркнул Константин, наблюдая за происходящим со сторожевой вышки. – Подайте сигнал продолжать движение, пусть Авл не останавливается.
Авангард под командованием Кассия нападал на легионеров и тут же отступал, словно играя. Людей у патриция было слишком мало, чтобы нанести противнику ощутимый урон, но главного он добился: наступление замедлилось.
Авлу все же удалось подловить момент, когда застрельщики замешкались, и обрушить на них смертоносный град метательных дротиков. Четверть авангарда полегла, остальные бросились бежать. Раненного в бедро Кассия подхватили и унесли. Но выигранного патрицием времени хватило, чтобы основные силы Лициния успели построиться к бою.
Две стены из щитов с оглушительным лязгом схлестнулись друг с другом. Пока передние линии сражались в ближнем бою, задние, немного расступившись, с яростью метали дротики. Запах крови, пота и металла окутал легионеров. Константин с болью в сердце смотрел, как гибнут римляне, их крики терзали его слух. Он чувствовал, что люди Лициния ему не чужие, поневоле сострадал и им.
Армии Рейна и Иллирии пытались пересилить друг друга, словно два бодающихся барана. Некоторое время держалось равновесие. Но у Лициния было больше войск и пространства. Он подтягивал резервы, отводил устававшие отряды, использовал застрельщиков и лучников. Инициатива постепенно переходила к нему. Легионеры Константина несли потери.
– Довольно, подать сигнал к отступлению, – приказал император.
Над вышкой взметнулся флаг, призывающий Авла уводить армию обратно к лагерю. Для легионеров Константина настал самый опасный момент сражения. Если, отступая, они нарушат строй, то их сомнут и перебьют. Им приходилось не столько идти, сколько пятиться, продолжая биться с врагом и метать в него дротики. Осторожность Лициния оказалась на руку Константину. Уверенный, что он все контролирует, август Востока не торопился, желая свести свои потери к минимуму.
Рейнские легионеры щедро оросили кровью землю, по которой возвращались к лагерю. Но Авл выполнил приказ: армия, сохранив порядок, отступила. Подпустив солдат Лициния поближе к стенам, Константин приказал лучникам начать обстрел. Разгоряченные наступлением, легионеры попали под смертоносный дождь. Стрелы со свистом впивались в щиты, пробивали кольчуги. Убитые и раненые падали под ноги товарищам. Атака замедлилась. Константин взмахнул рукой, скомандовав скорпионам дать залп. Три снаряда – короткие толстые копья с металлическими наконечниками – вонзились в землю, никого не задев. Зато четвертый пробил щит, прошил насквозь его обладателя и воткнулся острием в живот легионеру, стоявшему сзади. Несчастные завалились на бок, один с предсмертным хрипом, второй с истошным воплем.
При следующем залпе уже три снаряда нашли своих жертв. Скорпионы долго перезаряжались, и их было слишком мало, чтобы заметно потрепать армию противника. Но эффект они произвели колоссальный, сбив с наступающих пыл.
Лициний приказал военачальникам прекратить преследование и увести людей. Он был доволен уроком, который преподал Константину, загнав его легионеров обратно в лагерь. Август Востока уже представлял, как в скором времени подтянет онагры[1] и разнесет укрепления вместе с проклятыми скорпионами, когда примчался гонец с круглыми от ужаса глазами. Эрок и его алеманы обрушились на лагерь Лициния. Немногочисленные отряды, оставленные для охраны, не могли их остановить. Варвары жгли все на своем пути, прорываясь к запасам провианта. Нужно было немедленно отправить в лагерь подкрепление.
Заметив суету в рядах противника, Константин догадался, что произошло.
– Выпустить берсеркеров! – скомандовал он.
По его приказу Эрок нанял на Рейне особых воинов, каждый из которых стоил как хорошо обученный гладиатор. Этот резерв Константин берёг для решающего удара. В бою берсеркеры впадали в раж. Ими невозможно было управлять, их нужно только вовремя спустить с цепи, как свирепую стаю. Поверх кольчуг они были облачены в свежие звериные шкуры, от них и разило как от зверей. Взгляд обжигал яростью, длинные косматые волосы блестели, смазанные животным жиром. Сражались берсеркеры тяжелыми секирами, топорами, длинными двуручными мечами. Бросаясь в схватку, они издавали такой рев, что баррит казался легким напевом.
Войска были развернуты узким фронтом из-за гористой местности, но берсеркеры все равно не должны были атаковать по всей его длине. Константин направил их на левый фланг Лициния. Начавшие отходить, легионеры спешно перестроились. Германцы накинулись на них с таким неистовством, что римлянам показалось, будто они бьются не с людьми, а с оборотнями.
Берсеркеры не замечали ранений и продолжали сражаться, истекая кровью. Лишившись оружия, они бросались на противников с кулаками, падая в предсмертной агонии, зубами вцеплялись им в ноги. Германец огромной секирой одним ударом расколол легионеру щит, а вторым рассек римлянина наискось от ключицы до ребер. Другого берсеркера пронзили мечом, он рухнул, но умирать не собирался, выхватил кинжал и стал колоть солдат Лициния по ногам.
Легионеры дрогнули. Небольшой отряд германцев угрожал опрокинуть весь фланг. Военачальникам Лициния пришлось срочно отправить подкрепление из центра. Подмога прижала берсеркеров и взяла их в полукольцо, атаковав сбоку, но при этом сами повернулись к рейнским легионерам уязвимой стороной. Тем временем Константин и Далмаций вышли за ворота лагеря во главе палатинской гвардии. Они повели армию в новую атаку. И вновь основной удар пришелся на левый фланг; тот стал стремительно прогибаться.
И тут Лициний позволил страху овладеть собой. Константин атакует, невесть откуда взявшиеся варвары разоряют лагерь, а собственные легионеры вот-вот обратятся в бегство. Хотя казалось, битва уже окончена и он одержал пусть неполную, но победу. Лициний беспомощно огляделся по сторонам, передавая свою растерянность окружающим. Момент выправить положение оказался упущен. Взяв себя в руки, он стал раздавать приказы, но было уже поздно.
Константин смял первые ряды войск Лициния. Бросившиеся бежать солдаты налетели на тех, кто стоял позади, нарушив их строй. Император усилил натиск, и вскоре вся армия противника обратилась в бегство. Волной бегущих захлестнуло и Лициния с его военачальниками. Не в силах ничего сделать, им пришлось в нее влиться, чтобы не попасть в плен.
Константин отправил легкую кавалерию во главе с Марком Ювентином преследовать противника. Основные силы он остановил, перестроил, дал солдатам отдышаться, а затем повел вниз в спокойном темпе. Конница гнала противника до самого лагеря. Там Лицинию вместе с другими командирами все же удалось остановить бегство. Кавалерии пришлось отойти. Издали Марк заметил раненого Кассия. Его перевязали, он, прихрамывая, вышел к войскам. Братья Ювентины обменялись взглядами, и оба отвели глаза.
Увидев, что лагерь полыхает, солдаты Лициния поникли. Эрок со своими людьми отступил, притаившись неподалеку, готовый снова нанести удар. Лициний понял, что продолжать сражение нельзя. Он приказал поднять белое знамя.
На закате разбили шатер для переговоров. Рядом с ним повара и их помощники по приказу Константина развели костры, чтобы приготовить праздничный ужин в честь примирения. Лициний переоделся в чистую одежду и начищенные до блеска доспехи, на голову водрузил шипастую корону из золота. Август Запада остался в том же облачении, в котором сражался, сняв только шлем. Прежде чем начать переговоры, Константин и Лициний обменялись любезностями, подобающими соправителям и родственникам, а не врагам.
– Славное было сражение, но мы должны прекратить лить кровь наших подданных, – сказал Константин.
– Ты первым вынул меч из ножен. Вложи его обратно, и мир между нами восстановится, – ответил Лициний.
– Перед казнью Вассиан наводил на тебя подлые наветы. Им не могло быть веры, пока его сторонники не сбежали в твои земли. Я пришел, чтобы предать их справедливому суду, а меня встретили обнаженной сталью.
– Прискорбно, что изменнику Вассиану так легко удалось рассорить нас. Я выдам тебе его сторонников, – пообещал Лициний. – В моем лагере был пожар, весь провиант сгорел.
– Мы с радостью поделимся с тобой.
– А я щедро расплачусь. Пусть не золотом, но землей, ведь это она дает нам пищу.
– Землей? – переспросил Константин.
– Паннонией и Далмацией, – ответил тот. – Уверен, они принесут тебе богатые урожаи.
– А иллирийская армия?
– Перейдет в твое полное распоряжение, если ты, конечно, этого желаешь.
Предложение Лициния и вправду выглядело щедрым. Константин пристально посмотрел зятю в глаза. Тот уступал ему обширные территории вместе с половиной своей армии, но сохранял за собой богатейшие восточные провинции. Важнейший ресурс Паннонии и Далмации – рекруты, из которых получались крепкие, надежные воины. Но Константин ограничен в средствах и не сможет воспользоваться ими в полной мере. При этом увеличится протяженность границ, которые необходимо защищать. Несмотря на преимущество в численности войск, август Запада не сможет собрать их в единую армию.
Лициний подготовится и дождется, пока на Рейне станет неспокойно, убедит племена готов совершить набег за Дунай, а затем нанесет ответный удар. Иллирийцы не скоро забудут своего прежнего повелителя, велика вероятность, что в трудную минуту они перейдут на его сторону. И тогда уже Константину ничего не останется, как поднять белое знамя.
«Нет, лучше завтра снова вывести войска и навсегда разрешить все наши разногласия, – подумал Константин. – А если он не захочет сражаться, то пусть сидит в сгоревшем лагере и умирает с голоду».
С порывом ветра в шатер ворвался запаха жареного мяса. Рты всех присутствующих наполнились слюной. Измотанные долгим сражением, ничего не евшие с самого утра, римляне на мгновение позабыли обо всем, кроме жалобного урчания своих животов. Надменная непроницаемая маска слетела с лица зятя. И Константин прочитал во взгляде Лициния страшную усталость. Единственное, чего тот хотел на самом деле, – это поскорее вернуться домой, к жене и сыну. Он тешил себя мыслью о реванше, но лишь для того, чтобы успокоить уязвленную гордость.
Отражение схожей слабости Константин увидел много лет назад у отца, когда Констанций наслаждался жизнью с Феодорой и детьми. Любовь ослабила и Лициния. Истинную победу Константин одержал над ним в тот день, когда выдал за него сестру.
«Любовь – сладчайший яд», – с тоской подумал император.
Лициний вернется домой в надежде восстановить силы, но вместо этого совсем расслабится. Константин испытал облегчение с легким привкусом зависти. Он потребовал прибавить к Паннонии и Далмации Грецию с Македонией. Лициний согласился, и соправители заключили мир.
III
Лициний подписал договор о перемирии, оставил во владении своего шурина две трети Империи и отбыл в Никомедию к семье. Константин стал старшим августом. Первым делом он велел иллирийским войскам вернуться в лагеря и гарнизоны, где ожидать дальнейших приказов. Иллирийцы были злы и растеряны. Их вели в бой против Константина, твердили, что он враг, а теперь отдали под его командование. Они роптали, но все же подчинились, так как не были готовы снова браться за мечи.
Константин во главе рейнской армии направился к Сирмию. Жители с тревогой ждали прибытия своего нового повелителя. Старший август успокоил их, отправив в город гонца с распоряжением начать подготовку к празднествам. Пусть сравнительно скромным и недолгим, главное, это было знаком, что Сирмий не отдадут на разграбление рейнским легионам. Армия разбила лагерь у стен города, Константин вошел в него только с палатинской гвардией. Состоятельные жители Сирмия в течение нескольких дней щедро снабжали солдат вином, яствами и гетерами. Авл Аммиан присматривал, чтобы, пируя, легионеры не перебарщивали.
Константин подсчитал средства в казне Сирмия, благо у Лициния не было времени их вывезти, и созвал совет.
– Эрок, ты со своими людьми вернешься на Рейн, полевые легионы нужны сейчас здесь, поэтому вам предстоит защищать галльские провинции, – сказал император.
– Но нас слишком мало, о Божественный, – заметил вождь алеманов. – Мы не сможем отразить серьезное вторжение.
– Надеюсь, вам и не придется обнажать оружие. Ты, как никто другой, умеешь договариваться с племенами. Задабривай их, стравливай друг с другом, делай все, чтобы у них не возникло желания совершать набеги. В твоем распоряжении половина всех налогов, взимаемых с Белгики[2].
– Он будет их приворовывать! – не сдержался Авл, который покинул армейский лагерь, чтобы поучаствовать в совете.
Эрок осклабился.
– Разумеется, – кивнул Константин. – Иначе ради чего ему усердствовать? До тех пор пока на Западе спокойствие и порядок, я готов закрыть на это глаза.
– Твое поручение – честь для меня, о Божественный, – произнес Эрок, склонив голову, при этом на его губах играла полуулыбка.
– Иллирийской армии придется выдать двойное жалованье, чтобы задобрить воинов, – продолжил император. – Когда все уляжется, сократим ее численность на треть. Иначе мы не сможем долго содержать рейнские и иллирийские войска. Легионерам предложим выйти в отставку или отправиться служить к Лицинию.
– К Лицинию? – поразился Далмаций. – Зачем усиливать врага?
– Нельзя их просто выгнать, – пояснил Константин. – Легионеры должны быть уверены, что с ними всегда поступят по справедливости. Если Лициний единственный, кому они могут служить, то пусть отправляются к нему. Лучше уж так, чем вся иллирийская армия поднимется против нас. – Немного помолчав, император добавил: – После мы перемешаем войска Рейна и Иллирии. Половину легионов оставим здесь, вторую отправим охранять северные рубежи. – Константин обратился к Далмацию: – Вы с Авлом будете следить за выдачей жалованья, присматривайтесь к тем, кто особенно недоволен. От них мы избавимся в первую очередь.
Константин понимал, что, как бы Авл и Далмаций ни старались, им не удастся обнаружить большинство изменников, тех, кто будет подстрекать иллирийских легионеров поднять бунт против нового августа. Император нуждался в человеке, от глаз и ушей которого нельзя ничего скрыть.
Константин пустил по дворцу Сирмия слух, что он хочет видеть Публия Лукиана. Командир тайной охраны не заставил себя долго ждать. Он ничуть не изменился с их прошлой встречи. Одет скромно и опрятно. На гладко выбритом лице застыло выражение почтительности. Колючие серые глаза смотрели на императора внимательно и слегка настороженно.
– Я прогнал тебя, но позволил остаться поблизости, – сказал Константин. – Теперь ты получишь еще один шанс, но, если подведешь меня вновь, позавидуешь участи Вассиана.
– Если ты разочаруешься во мне, о Божественный, я брошусь на свой меч, – пообещал Лукиан.
Император коротко кивнул:
– Займись армией, которую оставил Лициний. Пока в иллирийских легионах все спокойно, ты и твои люди будут получать жалованье. Но, если они взбунтуются, вы первыми за это ответите.
– Справедливо, – произнес Лукиан, слегка наклонив голову.
Константин решил остаться в Сирмии, пока не убедится в надежности иллирийской армии и в том, что Лициний ему больше не угроза. Фауста вместе с Криспом и Константиной отправилась к нему. Модест постарался окружить императорскую семью всевозможными удобствами. Из-за этого и без того неблизкий путь тянулся еще дольше. Внушительный караван из длинного обоза, многочисленной свиты и охраны двигался медленно, совершая частые остановки.
Фауста извелась в дороге. Попытки прислуги развлечь ее постепенно наскучили и стали раздражать. Лишь яркие представления да пышные приемы, которыми императорскую семью встречали в крупных городах и на виллах аристократов, помогали ей немного развеяться.
Крисп почти все время проводил с Лактанцием. Мальчик был очарован наставником. Он усердно учился, открывая для себя мир глазами Лактанция. Фауста обижалась, что пасынок, с которым прежде они были так дружны, теперь совсем не уделял ей внимания. Все разговоры он сводил к тому, что недавно узнал от Лактанция.
Порой Фауста вместе с дочерью приходила послушать его уроки. Крисп жадно ловил каждое слово наставника, непоседливая Константина успокаивалась и засыпала на руках у матери под звуки его мерного голоса. А вот императрица испытывала смешанные чувства. Когда Лактанций преподавал Криспу точные науки, она слушала с интересом, жалея, что в детстве у нее не могло быть такого учителя. Но Слово Божие вызывало у нее то гнетущую тоску, то гнев. Фауста не смогла высидеть ни единого урока, посвященного Богу. Вскоре лишь одно упоминание имени Лактанция начинало злить императрицу. Она твердо решила, что не позволит ему быть наставником ее будущих сыновей. Как бы Константин ни настаивал, Фауста скорее умрет, чем уступит.
Получив недвусмысленные намеки, богачи Сирмия попросили у Константина разрешения организовать и оплатить празднества в честь прибытия Фаусты с детьми. Император оказал им милость. На этот раз торжества удались на славу: гонки на колесницах, театральные представления, пиры для горожан. К концу недели даже бездомные животные воротили морды от объедков.
Воодушевлению, с каким встретили императорскую семью, позавидовали бы многие полководцы, возвращавшиеся домой с триумфом. У жителей Сирмия не было поводов любить Фаусту или детей Константина, они их не знали, им просто хотелось радоваться, наслаждаться жизнью от осознания, что междоусобица закончилась, ее опасности миновали. Веселье захлестнуло город. Казалось, единственным человеком, остававшимся мрачным в эти дни, был император.
Константин покидал Сирмий, чтобы побывать в лагерях полевых войск и осмотреть укрепления вдоль Дуная. Публий Лукиан не подвел. Его люди выявили бунтовщиков, подстрекавших иллирийские легионы к восстанию, и передали их на суд императору. Константин постарался поступить с ними по справедливости, сообразно тяжести вины и весу заслуг. Одних он жестоко покарал, других сослал на дальние рубежи, а третьих отправил в почетную отставку. Легионеры, получив двойное жалованье и оказавшись под твердой рукой Авла Аммиана, присмирели. Собиравшаяся буря рассеялась. Чтобы окончательно сбить спесь с иллирийцев, Константин отправил их чинить дороги, обветшалые крепости и форты у границы.
Император возвратился в Сирмий незадолго до прибытия Фаусты с детьми. Главная из стоявших перед ним задач была выполнена, но вместо облегчения он чувствовал только навалившуюся усталость. Коротая вечера, сидя на балконе с чашей вина и глядя в сад на фруктовые деревья, мраморные статуи и фонтаны, Константин раз за разом мыслями обращался к Лицинию.
Тот проиграл битву, но сохранял шансы выиграть войну. Он мог поднять азиатские легионы, усилить их отрядами наемников, обратиться за помощью к царю персов. Вместо этого Лициний решил вернуться домой. Семья – его дар и главная слабость. Отправляясь на войну, Константин был готов биться до последней капли крови, а противник, получив первый же серьезный удар, отправился зализывать раны. Император представлял, как Лициний делит трапезу с Констанцией, ведя неторопливую беседу, как укладывает сына, как засыпает в объятиях жены. И ему становилось тоскливо.
Он пытался думать о Фаусте, убеждал себя, что скучает по ней. Но непослушное воображение стирало лицо императрицы, а вместо него выводило иные черты… такие знакомые и родные, но оставшиеся в далеком прошлом. Константин тут же вскакивал, тряс головой, делал все, чтобы не позволить этим мыслям завладеть собой. Он топил грусть в крепком вине. Однако ночью Минервина, первая супруга, мать Криспа, все равно прорывалась к нему сквозь тяжелую завесу пьяного сна. В сновидениях она то целовала и ласкала его, то проклинала сквозь рыдания, пока он пытался вырвать у нее из рук малютку сына.
Константин встречал императрицу с детьми, стоя у ступеней дворца. Солнце слепило, играя яркими бликами на позолоченной дверце остановившейся кареты. Он невольно зажмурился. А когда открыл глаза, ему на мгновение показалось, что к нему в мягкой шелковой столе[3] с диадемой в волосах приближается Минервина, вышедшая из его снов.
Фауста, обрадованная, что долгая дорога завершилась, и тронутая радушным приемом горожан, хотела броситься к мужу в объятия, но, сохраняя достоинство, шла медленно и царственно, ведя за руку Константину. Крисп шел чуть позади.
Императрица смотрела на Константина с восхищением. Он стоял впереди, такой высокий, сильный и строгий, облаченный в пурпур и золото. Полководец, не знающий поражений, новый старший август, самый могущественный человек на свете, и никакой Лициний ему неровня. За его спиной, вдоль ступеней, выстроились статные гвардейцы в начищенных до блеска доспехах. Фауста чувствовала на себе восхищенные взгляды аристократов, собравшихся на площади возле дворца. На ее щеках вспыхнул румянец. В эти мгновения она была счастлива.
Но когда она приблизилась, то заметила, как в глазах мужа мелькнуло удивление и разочарование, словно он надеялся увидеть вместо нее кого-то другого. Ее сердце больно кольнуло. Присмотревшись, она поняла, что взгляд императора затуманен вином. Константина, успевшая за год позабыть отца, испуганно прижалась к матери. Супруги растерянно смотрели друг на друга, пока Крисп едва заметно не подтолкнул Фаусту к Константину, прервав нелепую сцену. Опомнившись, император сделал шаг навстречу и оказал императрице подобающие знаки внимания, ласково потрепал по голове дочь и обнял сына.
На пиру Константин был молчалив, опустошал чашу за чашей, почти не ел. Фауста чувствовала себя униженной. Никто из наблюдавших за встречей супругов не придал значения возникшей заминке. Но императрице казалось, что сейчас весь город обсуждает, как ее опозорили. Она усилием воли сдерживала слезы.
В опочивальню Фауста вошла, с трудом переставляя ноги от усталости. Ей хотелось рухнуть в постель и рыдать, уткнувшись лицом в подушку. Вместо этого, приказав прислуге удалиться, она стала ждать мужа. Константин намеренно задерживался. Он прогулялся по саду, искупался в бассейне с теплой водой и лишь затем направился в покои.
Император с досадой обнаружил, что супруга не спит. Она пыталась поймать его взгляд. Константин, глядя мимо нее, молча скинул далматику и подошел к кровати со своей стороны. Ему не хотелось разговаривать. Губы сами плотно сжались. Он чувствовал, что каждое слово будет даваться с трудом. Константин хотел лечь, но Фауста, поборов слабость вместе с подступившей дрожью, спросила:
– Я тебя чем-то разгневала?
– Нет, – буркнул император.
– Я огорчила тебя неосторожным жестом или словом?
– Нет.
– Тогда почему ты так жесток ко мне? Чем я это заслужила? – Ее голос дрогнул, она дала волю слезам.
– Ничем, – все так же тускло произнес Константин, но почувствовал, как внутри все закипает, и выпалил с жаром: – Ты ничем этого не заслужила! Я женился на тебе, дочери лишенного власти императора, сестре изменника, беженке, искавшей спасения и приюта. И кем ты стала благодаря мне? Самой почитаемой матроной во всей Империи, даже Констанция стоит ниже тебя. Знатнейшие патриции из древнейших родов падают ниц перед тобой, крестьянской внучкой! А ты до сих пор не можешь выполнить свой долг. Мне нужен наследник! Риму нужен наследник!
Фауста от такого упрека лишилась дара речи, внутри у нее все сжалось, слезы застыли. Она смотрела на мужа блестящими, полными боли глазами.
– Разве это моя вина? – наконец вымолвила императрица. – Я не выполняла супружеских обязанностей? Не старалась изо всех сил тебя ублажить? Разве я не подарила тебе дочь?
– Я не обвиняю, а хочу понять, подходишь ли ты для роли, которая на тебя возложена, – вздохнул Константин. – Нам простительны многие пороки и слабости, пока мы исполняем свой долг. Но если он не выполнен, то никакие добродетели не станут для нас оправданием! У Лициния неоспоримое преимущество, сейчас его сын – мой главный наследник! Мы женаты уже десять лет, разве это малый срок? Я знаю, что у меня могут быть сыновья!
– Нам нужно еще постараться, – сдавленно прошептала Фауста.
Император угрюмо кивнул. Он поднялся, немного постоял, подобрал с пола далматику и вышел. Константин лег спать в покоях этажом ниже. Помимо отсутствия наследника, его тревожило то, в чем он не решался признаться даже самому себе. Спустя десять лет после развода к нему вернулась тоска по первой жене. Подкравшись незаметно, она день за днем все сильнее и сильнее сдавливала его жесткой хваткой. Император надеялся, что приезд Фаусты станет спасением, но ничего не изменилось. Он досадовал на нее и на себя.
Императрица рыдала, уткнувшись лицом в подушку. Когда у нее кончились слезы, она повернулась на бок и красными опухшими глазами долго смотрела на луну.
IV
Утром Константин почувствовал себя виноватым перед Фаустой. Но он, август Римской империи, глава семьи, не мог даже представить, каково это – просить прощения. Поэтому император решил быть мягче с супругой, сделать вид, что ничего не произошло, и больше никогда не повторять слов, сказанных минувшей ночью.
Фауста вышла к завтраку с опозданием. Служанки долго приводили ее в порядок после бессонной ночи, однако она все равно выглядела измотанной и несчастной. Константину было больно на нее смотреть, он старательно отводил взгляд. Ели молча. Даже дети притихли, чувствуя, что между родителями разразилась гроза.
С того дня, как Фауста покинула дом, в котором выросла, оставив нянек и подружек, самыми близкими людьми в ее жизни были Константин и Крисп. Со служанками она не сближалась, считала это ниже своего достоинства, часто меняла их, стоило кому-то провиниться или просто наскучить. Найти верную подругу среди придворных мешали лесть и подобострастие, с которым на нее все смотрели. На равных она могла быть лишь с мужем и пасынком, но они отдалились от нее. Константин не просто обидел супругу, из-за него Фауста почувствовала себя брошенной и одинокой.
Теперь у нее осталась только дочь. И хотя она души в ней не чаяла, глядя на девочку, Фауста не могла не думать о том, что до сих пор не родила наследника. Ее сводная сестра Феодора, которую императрица терпеть не могла, рожала почти каждый год в течение первых десяти лет замужества; шестеро ее детей достигли зрелости, из них трое мальчиков. Констанция подарила Лицинию сына, когда этого никто не ждал. Минервина, будь она проклята, забеременела Криспом спустя пару месяцев после их тайного венчания с Константином. А Фауста никак не исполнит священного долга императрицы.
В Сирмии продолжались празднества, но императорская семья в тот день не покидала дворца. Константин погрузился в государственные дела, Крисп занимался с Лактанцием, Фауста посвятила себя дочери. Каждому из них было как-то не по себе. Мысли витали в беспорядке.
Император больше не выходил к трапезе, сидел в кабинете до глубокого вечера. Он весь день пытался придумать, как приободрить супругу, но не мог найти ни нужных слов, ни подходящего жеста. Константин вошел в их супружескую опочивальню, чувствуя себя неловко. Фауста не дала ему ничего сказать. Она подошла к нему, положила руки на плечи и с жаром поцеловала. Всю свою обиду и боль императрица обратила в страсть. Отныне у нее была одна цель: забеременеть.
Жизнь во дворце пошла своим чередом. Константину казалось, что все наладилось, дни для него полетели незаметно. Большую их часть он проводил в делах, принимая посланников, собирая консисториум, читая донесения, отправляя указы. Вечером он непременно находил хотя бы немного времени на детей. А по ночам они с Фаустой продолжали попытки зачать ребенка.
Императрица была ненасытна. Порой она выматывала его сильнее, чем ускоренные марши в периоды военных кампаний. Но чем ярче они проводили ночи, тем меньше у них оставалось желания быть рядом при свете солнца. Им стало не о чем говорить, их общение сводилось к обмену ничего не значащими фразами. Сами того не замечая, супруги всё сильнее отдалялись друг от друга.
В дворцовых термах служила рабыня по имени Дая. Она сама не помнила, в каких краях родилась, где-то в Персии. Еще с раннего детства было очевидно, что девочка вырастет истинной красавицей. Глубокие карие глаза, изящные брови, пленительные, как восточная ночь, курчавые волосы. Ее заметил один из полководцев Нарсе Первого[4] и отправил ко двору своего повелителя.
Дае внушили, что, когда она повзрослеет, ей предстоит великая честь стать наложницей царя царей. Девочка росла, постигая тонкости любовного искусства. Но все сложилось иначе. Потерпев сокрушительное поражение в войне с Римом, во время переговоров о мире Нарсе подарил Даю Галерию как рабыню вместе с драгоценностями, благовониями, шелком и специями.
Достигнув расцвета, ее красота не просто оправдала, а превзошла возложенные на нее ожидания. Нежная смуглая кожа источала приятный аромат, пухлые губы прибавляли шарма тонким чертам лица. Статная и гибкая, как кошка, Дая умела очаровывать. Вначале ей поручили застилать постель в личной опочивальне Валерия. Затем она начала согревать ее своим телом.
Девушка жила в роскоши, но у римского императора не было гарема, где она могла бы занять видное положение. Для римлян по статусу она была ниже любого свободно рожденного пропойцы. Даже если бы Дая родила от Валерия, ее ребенок считался бы рабом. У нее оставалась единственная надежда – что император однажды дарует ей свободу. Тогда она сможет выйти замуж за какого-нибудь богача, встретить достойную старость, а может, и успеет стать матерью.
Но этим чаяниям не суждено было сбыться. Валерий начал войну против христиан, она сожгла все его душевные и телесные силы. Рабыня стала ему не нужна. Он подарил ее Лицинию, у которого в то время умерла первая жена. Даю перевезли в Сирмий. Девушка смогла утешить вдовца и стала его любимицей. Некоторое время она была негласной хозяйкой дворца.
Но Лициний женился на Констанции, победил Максимина Дазу и перебрался в Никомедию. Рабыню он оставил в Сирмии, отправив смотрителю приказ перевести ее на какую-нибудь легкую работу в термах. Когда во дворец приехал Константин, Дая попыталась соблазнить и его. Однако он не обращал на нее никакого внимания. Если император по случайности и обращался взгляд в ее сторону, то смотрел сквозь. Впервые мужчина выказал ей полное безразличие. Неужели прежняя красота померкла? Годы шли, тело теряло прежнюю стройность, на лице появлялись первые морщины. Реакция Константина испугала и глубоко ранила Даю. Если она лишилась дара очаровывать, то никаких надежд не остается. Ее ждет презренная старость обыкновенной дворцовой рабыни. Теплая постель и еда в достатке не будут ей утешением. Она возненавидела Константина всем сердцем.
Императрица поначалу невзлюбила Даю, рабыня показалась ей слишком красивой и самоуверенной. Она хотела выслать ее из дворца, опасаясь, что та отвлечет на себя Константина. Но вскоре Фауста убедилась, что супруг тратит все свои мужские силы только на попытки зачать наследника, а Даю вовсе не замечает. Да и рабыня как-то поникла прямо на глазах, будто разом постарела на десяток лет.
Дворцовые термы были единственным местом, где Фауста могла по-настоящему расслабиться, понежиться, отпустить тягостные мысли. При этом она становилась все требовательнее и капризнее. Ее могла разгневать любая мелочь. Она так измучила несчастного смотрителя терм, что его некогда пухлые розовые щеки обвисли, а редкие волосы на голове все до единого поседели. Труднее всего приходилось девушкам, которые массировали и умащивали тело императрицы маслами. Холодных пальцев или одного непринятого прикосновения было достаточно, чтобы вывести Фаусту из себя. В лучшем случае она больше никогда не подпускала провинившуюся рабыню к себе, в худшем приказывала жестоко высечь.
Императрица перепробовала всех девушек, прислуживавших в термах, пока не пришел черед Даи. Персидская рабыня удивила Фаусту. У нее оказались ласковые, в меру сильные руки с нежными ладонями. Вначале она поглаживаниями и растираниями расслабляла императрицу. Массажный столик плавно растворялся под Фаустой, погружая ее в обволакивающую мягкость. Императрица лежала, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть окутывавшую ее безмятежность. Рабыня давала Фаусте вдоволь понежиться, а затем, постепенно наращивая темп, принималась последовательно разминать каждый сантиметр ее тела, наполняя его энергией. Дая сама распалялась, щеки у нее загорались румянцем, со лба градом стекал пот. Кожа Фаусты начинала пылать приятным огнем. Рабыня несколько раз проходилась от кончиков пальцев ног до плеч и шеи императрицы, затем натирала ее благоуханными маслами, вновь неся расслабление и покой.
Закончив массаж, Дая начинала тихонько напевать на родном языке, а императрица засыпала. Сон Фаусты был недолгим, но просыпалась она отдохнувшей и полной сил. Убедившись, что императрица всем довольна, рабыня во время растираний начала нашептывать ей ласковые слова на языке персов.
– Что ты бормочешь? – как-то спросила у нее Фауста.
Дая вздрогнула, словно она забылась и ее одернули.
– Восхищаюсь твоей красотой, о Божественная, – ответила та. – Твоей нежной кожей, прекрасным телом, мягкими, словно шелк, волосами.
– Жены правителей слышат подобное сотню раз на дню, – фыркнула императрица.
– Я бы не решилась лукавить, моя лесть безыскусна, – сказала Дая. – Не гневайся, о Божественная. Я залюбовалась тобой, а с языка сорвались слова, которыми в родных для меня краях описывали прекрасных дев.
Фаусте это понравилось. Помолчав немного, она сказала:
– Расскажи о родных краях.
О Персии Дая мало что помнила – дворец царя царей и долгую дорогу в закрытом паланкине из Ктесифона в Никомедию. Правдивые воспоминания не слишком заинтересовали императрицу, тогда рабыня перешла к легендам и сказкам, большую часть которых придумывала на ходу. Об огромных пирамидах из чистого золота, которые стерегли свирепые львы с крыльями и скорпионьими хвостами. О раскидистом дереве, на котором росло два вида плодов: одни – ярко-красные, сочные и наливные, убивавшие того, кто их съест, долго и мучительно, а другие – коричные, сморщенные и червивые, способные исцелить от любого недуга. О древнем Левиафане, однажды проглотившем луну вместе со всеми звездами, и храбром герое, который рассек чудовищу чрево, чтобы вызволить их.
Фауста засыпала под ее рассказы. Мелодичный голос Даи проникал в сновидения, рисуя картины необыкновенных сказаний. Императрица постепенно привязалась к персидской рабыне. Во время массажа Фауста начала делиться с ней своими тревогами и переживаниями. Даю это очень обрадовало. Она уподобилась охотнику, который осторожно подкрадывался к добыче. Сперва рабыня слушала молчала, сосредоточенно работая и временами кивая. Потом Дая стала робко произносить короткие фразы, выражая сочувствие. Убедившись, что императрицу это не раздражает, рабыня говорила все больше, продолжая прощупывать грань, за которую нельзя заступать.
Дая с удовлетворением обнаруживала, что день ото дня эта грань отодвигается. Мысленно она смаковала каждое слово, которым обменивалась с императрицей не как с госпожой, а как с собеседницей. Фауста, прежде воспринимавшая прислугу наравне с мебелью, благодаря Дае узнала о ней много интересного. Рабыня ведала все о жизни дворца. Пылкие страсти, крепкая дружба, измены, лютая ненависть – этим, казалось бы, безликим человечкам ничто не было чуждо. Императрица взглянула на них по-новому. Ей стало любопытно украдкой наблюдать за перипетиями их жизни.
Фауста ожила и повеселела. Константина это обрадовало. Ему донесли, что супруга сблизилась с персидской рабыней, но он не придал этому значения. Вскоре вся дворцовая прислуга превратилась в игрушки для Фаусты и Даи. Императрица, советуясь с рабыней, разлучала влюбленных или, наоборот, сводила их друг с другом, заставляла заклятых врагов работать бок о бок, сеяла раздор между старыми друзьями. Дая, уверившись, что Фауста к ней прислушивается, как-то сказала:
– Ты не у того божества просишь послать тебе сына, о Божественная.
– Я молилась всем известным мне богам, – вздохнула императрица.
– Значит, ты не обращалась к Станаэлю, – улыбнулась рабыня.
– Кто это?
– Сын самого Диониса.
– Никогда не слышала о нем.
– В незапамятные времена юный и любопытный Станаэль спустился в эти края. Жители устроили празднества в его честь. Веселились так, что земля дрожала под ногами, у домов рушились крыши. Молодой бог еще никогда так не развлекался. Утром он одарил всех своим благословением и попытался подняться обратно на Олимп, но не смог: истратил все силы. Тогда Станаэль уснул, чтобы восстановиться. Он проспал ровно год, а когда пробудился, жители собрались вокруг него и праздновали.
– Они так измотали его, что он вновь уснул? – предположила Фауста.
Дая кивнула:
– А перед этим Станаэль снова даровал всем свое благословение. С тех пор жители Сирмия и окрестностей раз в год устраивают праздник в честь младшего из сыновей Диониса. Станаэль благословит и тебя, о Божественная, только приди на его торжества.
Императрица покачала головой:
– Бог христиан этого не допустит. Он хочет, чтобы я опозорилась, не смогла выполнить своего предназначения. Константин потеряет терпение и женится на христианке, которая родит ему множество детей. Благословление сына Диониса – ничто против воли Господа. Мой супруг Его Именем сокрушил богов Рима и Эллады.
– Бог христиан слишком далек от нас, – заметила Дая. – Там, в вышине, далеко в небесах. Станаэль же совсем рядом. – Рабыня указала в сторону дверей. – Преподнеси сыну Диониса дар, и тогда даже самый могущественный из всех богов не сможет вырвать ребенка из твоего чрева.
– Какой дар?
– Слезу отца, волос врага и каплю крови невинного ребенка из благородной семьи.
Фауста нахмурилась:
– Мой отец умер, врагов у меня нет, и я никогда не пролью даже капельки крови моей дочери.
Дая улыбнулась:
– Константин будет отцом вашего сына, его слеза тебе нужна, о Божественная. Крисп взрослеет, но все еще невинен. Мальчики часто расшибают локти, колени и носы. А враг найдется у каждого. К сожалению, даже у тебя.
– Кто же это? – Императрица пристально посмотрела на рабыню.
– Констанция, любимица Господа христиан. Она открыто порицает тебя за то, что ты, живя с Константином, продолжаешь почитать богов своих предков, – сказала Дая. – По ее словам, из-за неправедной жизни Бог не посылает тебе сына. Она гордится тем, что родила наследника, а ты никак не можешь.
Фауста сжала губы. Слова рабыни обожгли ее изнутри.
– И где мне взять ее волос? – сдавленно спросила она.
– Я сохранила гребень августы, они с Лицинием останавливались во дворце на несколько недель.
Императрица немного помолчала раздумывая, затем велела:
– Принеси мне его.
Дая удалилась. Вскоре она вернулась с гребнем, на котором было несколько длинных белых, как лен, волос, и двумя маленькими флаконами для крови и слез.
V
Дая сказала, что Станаэль пробудится через шесть дней. Если Фауста не успеет собрать дары, то придется ждать целый год. Императрица сомневалась, стоит ли приходить на праздник. Если Константин узнает, а он всегда все узнаёт, то будет в гневе. Не станет ли это последней каплей в чаше его терпения?
В тот же вечер Фауста с супругом пришли понаблюдать, как Крисп упражняется в бое на мечах. Мальчик уверенно управлялся с тяжелым бутафорским оружием и щитом. Для своих одиннадцати лет он был высок и крепок. От нагрузки мышцы на руках налились, волосы взмокли и растрепались.
Мальчик вместе с наставником, ветераном, которого лично выбирал Константин, отрабатывал простой прием: закрыться щитом от удара и сделать ответный выпад. Однако, заметив императорскую чету, наставник решил устроить показательный поединок. Криспу надоело совершать одни и те же движения, он радостно бросился в атаку, закружил вокруг ветерана, как стрекоза, нанося короткие быстрые удары.
Фауста залюбовалась пасынком. Вылитый отец: сильный, напористый, но, в отличие от Константина, такой живой и искренний. Она поклялась самой себе, что ее сын затмит даже Криспа, ведь его кровь будет еще благороднее. Тем временем ветеран поддавался, делал выпады, изначально направленные мимо, пропускал примерно каждый десятый удар ученика, подставляя то один, то другой бок.
– Что с тобой, Креон? – спросил император с досадой. – Забыл, как ты громил саксов и пиктов с моим отцом или как мы с тобой били франков на Рейне? Не можешь справиться с мальчишкой; чему ты тогда его научишь? Наверно, я зря взял тебя во дворец. Лучше бы ты вышел в отставку, пахал бы сейчас землю где-нибудь в Галлии, попивая пиво из фляги.
Угрюмо кивнув, ветеран взялся за дело. Но Крисп выдержал его натиск. Он отступал, укрываясь щитом, затем резко нырнул влево и ткнул наставника мечом под мышку. Фауста от восторга зааплодировала, к ней присоединилась находившаяся в зале прислуга. Ветеран усмехнулся, довольный своим учеником. Константин не без труда подавил улыбку и строго сказал:
– Креон, если ты сейчас снова проиграешь, утром собирай вещи. Моему сыну такой учитель не нужен!
Криспу нравился его наставник, но он вошел в такой азарт, что не мог позволить себе поддаться. Они снова сошлись. Ветеран так напирал на мальчика, что Фауста испугалась. Император не дал ей вмешаться.
– Такие тренировки дорогого стоят, – произнес он, положив ей руку на плечо.
Крисп попытался повторить свой маневр, нырнуть и ударить противника под мышку, но Креон был к этому готов. Он встретил ученика резким выпадом. Мальчик получил бутафорским мечом по лицу. Благо ветеран в последний момент заметил, куда сейчас попадет, и успел смягчить силу удара. Крисп упал, из носа у него хлынула кровь. Константин жестом запретил прислуге бросаться на помощь.
– Хорошо, Креон, ты еще можешь показать моему сыну пару приемов, – сказал император, направляясь к Криспу.
Убедившись, что с мальчиком все в порядке, он помог ему подняться и произнес:
– Пропустишь такой удар в настоящем бою – и в лучшем случае навсегда останешься изуродован.
– Надо позвать лекарей! – воскликнула Фауста.
– Ничего страшного, пустяк, – сказал Константин, но, вздохнув, добавил: – Покажи его лекарям. Только пусть идет сам.
Императрица протянула Криспу белую тканевую салфетку, которую тот приложил к разбитому носу.
– Голова не кружится? – спросила она.
– Нет, пустяк. – Мальчик повторил слова отца.
Фауста взяла пасынка под руку и отвела его к дворцовым лекарям. Пока они занимались им, императрица держала в руках салфетку, смоченную кровью Криспа. Она незаметно достала флакон, откупорила пробку и выжала в бутылочку тонкую струйку. Фауста направилась в комнату Даи.
– Вот. – Она вложила в ладонь рабыни флакон. – Но кровь же засохнет к шестому дню.
– Не волнуйся, о Божественная, я знаю способ сохранить ее, – пообещала Дая.
– Криспу разбили нос во время занятий, как ты говорила.
– Станаэль скоро пробудится, его дух уже помогает тебе, – улыбнулась рабыня. – Сын Диониса ждет тебя, о Божественная.
– Константин не отпустит меня на праздник. А если я уйду тайно, он разгневается. Тебя казнят, а меня изгонят, лишив дочери! – От одной мысли об этом у Фаусты внутри похолодело.
– Через шесть дней твоего супруга не будет во дворце. Он планирует провести неожиданный смотр приграничных крепостей и держит свой отъезд в секрете.
– А тебе это откуда известно?
– От того, кто является ушами и глазами императора, – Публия Лукиана. Мы с ним давние друзья. Он знает, что ты заступалась за него перед императором, о Божественная, благодарен тебе и желает только добра. Лукиан показал мне ход, которым мы незаметно уйдем. Никто не проведает, что ты покидала дворец. А на самом празднике тебя не узнают, там все носят маски.
– Если ты поможешь мне, я этого не забуду, – медленно сказала Фауста. – Но запомни: если меня изгонят из-за тебя, прежде чем уйти, я понаблюдаю за твоей казнью.
Оставалось добыть последний дар Станаэлю. Однако императрица никогда не видела мужа плачущим, а тем более не могла представить, как будет собирать его слезы. Она внимательно наблюдала за ним, надеясь, что, как и с Криспом, все вновь получится само собой.
Вечером, накануне пробуждения сына Диониса, Константин сказал супруге, что на рассвете уезжает на смотр войск. Она опечалилась, и это его тронуло. Истинную причину ее грусти он даже представить себе не мог.
Фауста засыпала с мыслью, что на праздник Станаэля уже нет смысла идти, ей не удалось собрать для него все дары. Ей снилось, как она пытается изваять человечка из куска влажной холодной глины. У нее выходило на удивление искусно: тело, волосы, губы, нос прямо как у живого. Но, как только императрица начинала лепить глаза, фигурка таяла у нее в руках, обращаясь в бесформенный комок. И так много раз, пока Фауста не отчаялась. Тогда к ней подошла Дая, взяла незаконченного человечка и сказала:
– Чтобы глина не растекалась, ее нужно обжечь, о Божественная.
Рабыня швырнула фигурку в раскаленную печь. Императрица хотела спасти свое творение, но Дая удержала ее, прошептав на ухо:
– Ничего-ничего, так надо!
Они стояли, наблюдая, как в печи бушует пламя. Наконец рабыня взяла щипцы и вытащила человечка, увеличившегося в несколько раз. Его тельце переливалось из ярко-алого в пурпурный цвет. У него были кривые короткие ножки, длинные мощные руки, курчавые волосы, правильные и суровые черты лица, а в глазах зияла черная бездонная пустота. В печи зашипели угли. Тьма хлынула из глазниц фигурки.
– Ничего-ничего, так надо! – повторила Дая.
Фауста открыла глаза и жадно глубоко вдохнула. Ей было душно, ноги затекли, в голове пульсировала ноющая боль. Она приподнялась и посмотрела в окно. Было темно, но чувствовалось, что скоро начнет светать.
Раздался странный тоскливый звук. Вслушавшись, императрица поняла, что это сдавленный короткий стон, который прерывается на несколько секунд и повторяется вновь. Фауста не могла поверить своим ушам. Всегда пышущий здоровьем Константин болезненно постанывал, покусывая бледные губы. Она потянулась к супругу и робко попыталась его разбудить. Император перевернулся на спину. Стоны прекратились, но дыхание стало глубоким и тяжелым. Фауста онемела. Боль волна за волной накатывала на Константина. Он крепко сжал веки и зубы, несколько раз дернулся и затих.
Императрица задрожала всем телом, на мгновение ей показалось, что супруг умер. Но, присмотревшись, с облегчением поняла, что тот спокойно спит. Его грудь мерно вздымалась и опускалась. Первые солнечные лучи проникли в опочивальню. Константин часто заморгал. Влага, блеснув в уголках его глаз, тонкой струйкой побежала по щеке. Император зашевелился просыпаясь. Фауста сунула руку под кровать, схватила флакон и собрала в него несколько мутных капель.
– Что с тобой? – сонно пробормотал Константин.
Она едва успела закрыть флакон и положить его обратно под кровать.
– Я испугалась, тебя… тебя будто истязали во сне.
– Меня преследовал морок. – Он тяжело вздохнул.
Фауста опустила голову ему на грудь. Прикрыв глаза, она слушала его сердце, оно билось часто, но постепенно успокаивалось.
– Мне пора подниматься, – прошептал император. – Дорога ждет.
– Подожди, еще не рассвело. – Она приподнялась и поцеловала его в губы. – Нельзя брать морок с собою в путь. Нужно его развеять.
Супруга почувствовала себя виноватой.
Когда Фауста отдала Дае флакон со слезами, глаза у той по-кошачьи блеснули.
– Константин уехал, – сказала императрица.
– Ты будешь самой желанной гостьей на празднике Станаэля, о Божественная! – улыбнулась рабыня. – Мы уйдем, как стемнеет, а вернемся перед рассветом, никто не узнает, что ты покидала дворец.
На закате Фауста посетила дворцовые термы, приняла омовение, а Дая натерла ее маслом. Но не обычным благовонием, а каким-то особым, с резким сладковатым запахом, который поначалу раздражал, а потом понравился императрице. Ее кожа стала переливаться золотистым блеском. Рабыня заплела Фаусте косу, облачила ее во все белое, покрыла голову, на ноги надела башмаки, сплетенные из широких листьев.
– Только ступай осторожнее, о Божественная, – прошептала Дая.
Сама она распустила волосы и оделась во все черное. Дворец был оживлен, но рабыня пустыми коридорами и лестницами провела императрицу в подземелье, где начинался тайный ход. Дая сняла факел со стены. Они прошли в дальнюю темную комнату, заваленную старой рухлядью. Рабыня отодвинула неприметную полку и отворила скрытую за ней дверь.
Спустившись по крутой лестнице, они оказались в туннеле. В ноздри ударил затхлый смрад. Фаусту чуть не стошнило. К счастью для нее, ход оказался коротким. Вскоре повеяло свежим воздухом. Они увидели впереди край предзакатного алого неба. Дая достала две маски, закрывавшие глаза и нос. Простую мраморно-белую она протянула императрице, вторую, состоящую из золотистых чешуек, надела сама. У выхода их ожидал паланкин с двумя коренастыми носильщиками в темных, закрывавших все лицо масках. Фауста схватила рабыню за плечо.
– Ты говорила, ни одна живая душа не узнает, что я покидала дворец, – прошипела она.
– Нельзя идти пешком, – прошептала Дая. – Это надежнейшие из людей Публия Лукиана. Они не знают, кто мы и куда именно направляемся. Даже под пытками из них ничего не вырвать, они не смогут указать на тебя, о Божественная.
Рабыня много на себя брала, императрице это не нравилось, но она слишком далеко зашла, чтобы развернуться и уйти. Они сели в паланкин. Ехали молча по безлюдной тропе. Фауста вопреки желанию задремала под мерное укачивание.
Дая разбудила ее, тронув за плечо. Императрица растерянно оглянулась, она не могла понять, как долго их несли. Уже полностью стемнело, пахло сыростью, паланкин окутывал туман, из которого выступали темные стволы деревьев.
«Где-то рядом река», – подумала Фауста.
Рабыня аккуратно взяла ее под руку и повела сквозь туман. Было почти ничего не видно, но Дая, судя по всему, знала дорогу наизусть. Она шла уверенно, помогая обходить кочки, перешагивать торчащие из земли корни, уклоняться от ветвей. Впереди замигали огни, послышалась музыка и голоса. Фауста с Даей вышли к берегу реки. На них повеяло жаром костров, на которых, источая аромат, жарилось мясо, кипели котлы со снедью. Люди в масках и разноцветных одеждах ели, веселились, играли на шестиструнных лирах и флейтах Пана[5]. Императрица не видела лиц, но по речи, жестам, осанке поняла, что перед ней представители знатных семей либо те, кто, как Дая, много лет прислуживал им, переняв их манеры. Увидев Фаусту с рабыней, они бросили свои занятия и припали на одно колено.
– Приветствуем тебя, госпожа! – нестройным хором воскликнули они.
Императрица сверкнула глазами на Даю, но та спокойно улыбнулась и шепнула на ухо:
– Они преклоняются перед невестой Станаэля. А кто под маской – не важно.
Фауста поняла, что из всех только она полностью в белом. Императрица жестом призвала их подняться. Они с Даей прошли вперед. У воды стоял высокий, выкрашенный в красное деревянный трон. Рядом с ним были сложены вязанки хвороста и дров. Зашуршали ветви. Из-за деревьев вышел низкий костлявый старик с жидкой седой бородкой и хищным носом. В руках он держал длинный коряжистый посох. Ему все кланялись, Фауста последовала общему примеру.
– Это Агвар, – шепнула Дая, – жрец Станаэля.
Старик подошел к вязанкам хвороста, чиркнул чем-то зажатым в тонких морщинистых пальцах. Сверкнула искра, заплясал тоненький огонек.
– Кто пришел просить милости Станаэля? – низким голосом спросил жрец.
– Я! – воскликнул высокий худой юноша, подходя к старику; голос его дрожал от волнения. – Пусть он дарует мне славу и успех!
– Мальчишка мнит себя великим поэтом, – усмехнувшись, сказала Дая на ухо Фаусте. – Я его узнала.
Юноша протянул жрецу свиток со своими лучшими стихами. Старик поднес пергамент к огоньку. Он разгорелся не сразу, но затем вспыхнул ярким пламенем. Жрец улыбнулся, словно огонь не жег, а только щекотал ему руку. Молодой поэт смотрел, как погибает его труд, с болью и нетерпением.
– Станаэль принимает твой дар, – произнес жрец, бросив почерневший свиток.
Вперед вышла стройная румяная девушка:
– Я прошу помочь мне найти мужа, состоятельного и уважаемого!
В ладони она сжимала воробьиные перья. Жрец кивком велел ей бросить их в огонь, который все разрастался и своими языками уже лизал соседние вязанки хвороста.
– Владыка принял твой дар!
Женщина с пробивающейся сединой в волосах умоляла спасти ее молодость и красоту. Она преподнесла в дар цветок, выращенный своими руками. Толстый пухлощекий мужчина просил успеха в торговых делах. Он долго не мог решиться кинуть в пламя свой первый заработанный золотой. Жрец рассердился и грубо ткнул его коряжистым посохом в грудь. Старик оказался на удивление силен, мужчину отбросило на несколько шагов. Лишь тогда он швырнул монету из-за спины следующего просителя. Фаусте показалось, что она услышала, как зашипело золото, хотя огонь еще не настолько разошелся, чтобы расплавить его.
– Вы все получите то, что желаете! – объявил жрец. – Станаэль никого не забудет!
Императрице хотелось поскорее подойти, но Дая удержала ее:
– Ты должна быть последней, о Божественная.
Молодой сутулый мужчина с темными курчавыми волосами просил мудрости. Он бросил в пламя шкуру змеи; язычки костра сделались зелеными. Женщина с неприятным хрипловатым голосом с отчаянием взывала к мести: подруга увела у нее мужа, а тот забрал детей. Она принесла тонкую острую иглу. Приняв дар, огонь заалел.
Вскоре для Фаусты все смешалось: люди, подношения, просьбы… Ее заворожило пламя. Оно разрасталось, переливаясь разными оттенками, и, казалось, тянуло к ней свои невидимые лапы. Императрица не сразу заметила, что голоса стихли. Почитатели Станаэля обернулись к ней и расступились.
– Подойди, дочь моя, – ласково обратился к Фаусте жрец. – Что ты хотела бы попросить у нашего господина?
Императрица растерялась. Дая мягко взяла ее ладони в свои и повела за собой. Они вместе прошли несколько шагов, затем рабыня так же плавно отступила. Дальше Фауста двинулась сама.
– Ребенка, – пробормотала она, подходя к жрецу, затем добавила уже тверже: – Сына! Я хочу родить сына, здорового и крепкого!
Старик вздохнул:
– Ты просишь Станаэля сотворить новую жизнь. Подобную честь надо заслужить. Что же ты преподносишь ему, раз просишь так много?
Императрица лишь сейчас обнаружила, что Дая вложила ей в руки два флакона и гребень, принадлежавший Констанции.
– Волос моего врага, слезу отца и кровь невинного ребенка, – сказала Фауста.
Старик внимательно посмотрел на дары, а затем медленно произнес:
– Ты многое отдаешь, и за это тебе воздастся!
Он указал на огонь. Императрица бросила в него дары, и пламя вспыхнуло синим.
– Приди же, приди, Станаэль, владыка мира сего! – воззвал Агвар; к нему присоединились все остальные.
Заиграла музыка. Деревья зашелестели, появились юноши, обнаженные по пояс. Они вшестером несли большую амфору. Почитатели Станаэля обрадовались им едва ли не больше, чем жрецу. Все, кроме музыкантов, взяли кубки. Старик вручил Дае позолоченную чашу. Юноши поставили амфору, откупорили ее и стали разливать вино. Вокруг сгрудились поклонники Станаэля. Множество рук жадно тянули кубки.
Дая с удивительной легкостью вынырнула из толпы с наполненной до краев чашей. Она поднесла ее Фаусте. У вина был резкий пряный запах. Она сделала глоток, напиток обжег ей горло. От неожиданности императрица чуть не выронила чашу, но рабыня успела ее подхватить.
– Не торопись, пей по чуть-чуть, – посоветовала Дая. – Ты почувствуешь, это приятно. Только обязательно испей до конца!
Фаусту бросило в жар, голова закружилась. Но питье и вправду стало в удовольствие. Оно больше не обжигало, а грело, наполняя тело томящим теплом. Императрица отняла от губ опустевшую чашу, и ее повело в сторону. Она упала бы, если бы Дая не поддержала ее.
– Дыши глубоко, – прошептала рабыня. – Сейчас пройдет.
Фауста закрыла глаза и некоторое время стояла не шевелясь, сосредоточившись на вдохах и выдохах. Ей полегчало. Музыка превратилась в какофонию. Цельная мелодия распалась на бессвязные, режущие слух звуки. Музыканты, уже опоенные особым вином, играли исступленно, забыв обо всем, подчиняясь рвавшейся изнутри грубой страсти. Поклонники Станаэля объедались, хватая шипящее мясо и снедь из кипящих котлов, не обращая внимания на ожоги. Вино текло ручьями по подбородкам и шеям. Все лихорадочно плясали то поодиночке, то собираясь в хороводы. Императрице вдруг стало весело. Ее потянуло присоединиться к общему безумию, но Дая не пускала.
– Ты должна беречь себя для Станаэля! – твердила рабыня.
– Приди, приди, владыка мира сего! – продолжал взывать жрец. – Мы ждем тебя, повелитель!
С каждым его призывом огонь разгорался еще жарче, а веселье становилось все более безудержным. Поклонники Станаэля стали жадно целоваться, срывать одежды, падать на землю в объятиях друг друга, сплетаясь в подобие змеиных клубков. Старик бросил в пламя щепоть порошка; на несколько мгновений огонь стеной взвился до небес.
– Взирайте, наш повелитель здесь! – воскликнул жрец, указывая на красный трон.
На нем восседала высокая темная фигура, укрытая черной козлиной шкурой, в рогатой маске Вакха. У Фаусты кровь застыла в жилах. Воцарилась тишина, слышалось только журчание воды и потрескивание дров в кострах. Все, кроме императрицы, упали ниц, уткнувшись лбом в землю. Темная фигура перстом указала на Фаусту.
– Приведите невесту! – прозвучал глухой утробный голос.
Дая поднялась, положила руки императрице на плечи и уверенным движением сняла с нее одеяние. Фауста стояла обнаженной. Жар от огня ласкал ей грудь, а по спине бежал холодный пот. Старик подошел и взял ее под локоть. Темная фигура поднялась с трона. Императрицу затрясло, она стала упираться, отказываясь идти.
– Ничего-ничего, так надо! – ласково прошептала Дая ей на ухо. – Не волнуйся, Станаэль испытывает тебя. Преодолей себя – и будешь вознаграждена.
Нетвердой поступью Фауста двинулась к красному трону. Темная фигура шагнула ей навстречу. Запахло серой и старой лежалой шкурой. Фаусте хотелось броситься бежать. Подавив в себе этот порыв, она опустилась на одно колено. Маска вместе с козлиным мехом пали наземь. Перед императрицей предстал прекрасный юноша, высокий, широкоплечий, с налитыми мускулами, загорелой кожей, ясными голубыми глазами. Он протянул ей руку.
– Поднимись, возлюбленная моя. – Без маски его голос звучал приятно.
Сын Диониса заключил Фаусту в объятия. Она утонула в его ласках. Волна веселья и безумия вновь накатила на берег реки.
VI
Тяжелая облезшая дверь отворилась с противным ржавым скрипом. Повеяло сыростью. Лициний нахмурился. Он продолжал сомневаться, стоит ли ему идти. Однако Оффела, командир дворцовой стражи, с факелом в руках так уверенно направился вниз, что август Востока невольно двинулся следом, а за ним еще двое стражников. Они спускались по крутой каменной лестнице с несколькими широкими пролетами. По мокрым стенам расползалась разноцветная плесень. Две крысы прошмыгнули у самых ног командира стражи, забились в щель в каменной стене и стали приглушенно пищать. Чем ниже они спускались, тем сильнее становился запах гнилой соломы и явственнее доносились голоса.
– Ты позоришь меня, отче, – с досадой произнес первый.
– Чем же? – хрипло спросил второй.
– Да тем, что не кричишь и не воешь, когда я над тобой работаю.
Лициний удивился: неужели он слышит, как пыточных дел мастер разговаривает с пленником? Он тронул командира стражи за плечо и велел ему идти медленно и как можно тише.
– Привели ко мне как-то вождя сарматов, надменного такого. Говорят, это великий воин, участвовал в десятках битв, порубил тысячи врагов, овладел сотней красавиц, ну-ка, попробуй его разговорить. Вождь зыркнул на меня и сказал: «Умру самой мучительной смертью, но не унижу себя», а затем в лицо мне плюнул… Поганец! А мы в походе, у меня и доброй половины тех инструментов, что сейчас есть, тогда не было. Но я вспомнил отцовы наставления. Этот варвар плакал и визжал как поросенок, громче любой взятой им в плен девки. Когда пришел Диоклетиан, он умолял о пощаде, валяясь в ногах. Август меня наградил… правда, не очень-то щедро, решил, что вождь сарматов слабый. Слишком уж быстро я справился, зря не растянул, – вздохнул пыточных дел мастер. – Он знаешь какой был? Огромный, молодой, зубы как у волка. А теперь я старика не могу сломить. Тебя сколько до меня еще Агрикола мучил? Видимо, я становлюсь совсем немощным.
– Не печалься, Тулий, – подбадривал его пленник. – У тебя еще много сил, но не туда ты их направляешь.
– Мне же перед предками стыдно, – не унимался пыточных дел мастер. – Однажды моему деду отдали одного бритта. Сказали, тому известна какая-то тайна и надо непременно ее выведать. Ох-х, долго же он бился, несколько дней и ночей без устали! Пустил в ход все свое искусство. Бритт рассказал, где его король прячет золото, о приготовленной на болотах засаде для легиона, даже о том, как в детстве украл у своего отца коня и выменял его на кувшин вина да горсть монет. С тех пор моего деда все боялись и уважали. Оказалось, над ним хотели подшутить. Бритт был немой, представляешь! За всю жизнь ни слова не сказал. А дед ему язык развязал. Видишь, какие у меня предки!
– Если ты ничего в своей жизни не изменишь, Тулий, твои предки встретят тебя с распростертыми объятиями и будете вы все вместе в одном котле гореть.
– Не верится, – покачал головой пыточных дел мастер. – Отец за всю жизнь меня ни разу не обнял, лишь бил и поучал. Отче, а тебя правда животные слушаются?
Лициний поднял руку, приказывая остановиться, и весь обратился в слух.
– Едва ли. Я их врачевал, поэтому они приходили…
– Но ты же приказал волку вернуть поросенка! Об этом все говорят.
Пленник тихо усмехнулся:
– Агрикола вел меня к Лицинию. К нам подошла вдова, плакала, что ее дети умрут с голоду. Зверь утащил их последнего поросенка. Чем я мог ей помочь? Постарался утешить, посоветовал помолиться и идти домой. Унывать нельзя, Тулий, никогда. Поросенок вырвался из волчьей пасти, поплутал и вернулся. Не меня вдове надо благодарить, а Бога.
– Утром она пыталась передать для тебя похлебку. Я отобрал ее у стражников. Вкусная… Я оставил тебе немного, принесу, когда луна взойдет.
– Тебя могут за это наказать.
Пыточных дел мастер рассмеялся во все горло:
– Меня? Отче, это я всех наказываю!
Лициний наклонился и посмотрел вниз. Там краснели угли жаровни. Пленник лежал на скамье с обнаженной израненной спиной. Пыточных дел мастер склонился над ним и, похоже, обрабатывал увечья.
– Ты добрый человек, Тулий. Руки у тебя заботливые. Не твое это призвание – мучить других. Задумайся!
– Отче, ты вроде мудрый, а порой такое скажешь! – Мастер сплюнул. – Я тебе сколько про своих предков рассказывал, а ты мне – про призвание… Да и какой я добрый? Любой тебе скажет, что я самый страшный и злой человек на свете.
Лициний не верил своим глазам. В пыточной камере, обители мрака, боли и отчаяния, царил уют. Тлели угли, излучая тепло, текла неторопливая беседа.
– И ты лучше всех ухаживаешь за ранеными, – произнес пленник. – Я бы с радостью поучился у тебя, познакомься мы иначе.
– Нужно уметь и подлатать, – не без гордости заметил Тулий. – Мы же не палачи. Те только отбирают жизни. Наша цель тоньше, сложнее, чем у них.
– И лечить тебе нравится больше, чем мучить. Я это сразу заметил.
Лициний понял, что ничего полезного не услышит. Он и его спутники продолжили спускаться. Их шаги стали отчетливо слышны. Голоса тут же стихли. Пленник сел, накинул лохмотья, Тулий наскоро связал ему руки.
– Ты зачем развел огонь? – спросил командир стражи, указывая на жаровню. – Пленника согреваешь?
Пыточных дел мастер, мужчина лет сорока, рослый, массивный, гладко выбритый, с глазами навыкат, упал перед Лицинием ниц и, не поднимая головы, произнес:
– Я надеялся, что ты придешь, о Божественный, и раскалил угли. Все готово к пытке.
Выпрямившись, он так взглянул на командира стражников, искривив тонкие губы, что у Оффелы мурашки пробежали по спине. Лициний взял стоявшую на краю скамьи круглую глиняную баночку, снял крышку. Внутри была мазь, пахнувшая травами.
– Это тоже для пыток?
– Рецепт моего деда, – не растерялся Тулий. – Достаточно слегка надрезать кожу и нанести мазь. Боль жгучая, долгая, даже такой могучий воин, как Оффела, ее не вытерпит. Позволь я покажу.
Он с удовольствием отметил, что командир стражи сделал полшага назад и положил руку на ножны.
– Говоришь о воинах, а сам со стариком совладать не можешь, – проворчал Лициний. – Встань, отец Власий, прояви уважение к власти земной, она же от Бога.
Пленник тяжело поднялся со скамьи. Он был невысок и крепко сложен, но со дня заключения так исхудал, что казалось, вот-вот кости прорвут его тонкую кожу. Старик стоял ссутулив плечи, понуро опустив голову и хрипло дышал. На мгновение Лициний обрадовался, подумал, пленник все-таки сломлен. Но Власий, сделав усилие, выпрямился и посмотрел на него таким твердым чистым взглядом, что август помрачнел.
– Расскажи мне правду, отче, и обещаю, я отпущу тебя, ты вернешься к своей пастве. Мой суд справедлив, наказание ждет только виновных, – произнес Лициний.
– Я уже никогда не поднимусь наверх по этой лестнице. Мне суждено умереть здесь.
– Тогда уйди из жизни спокойно, сытый, на мягкой теплой постели, продиктуй обращение к пастве, мои гонцы его доставят.
– Мне нечего тебе сказать, Василевс. Никакого заговора нет.
– Тогда почему священники открыто молятся за победу Константина, говорят своим прихожанам, что скоро он будет властвовать над всей Империей?
– Так поступает далеко не каждый священник, – поправил Власий.
– Но многие! Мне покарать каждый приход, в котором это происходит? – вскипел август. – Разве я мало сделал для Церкви? Я избавил вас от Максимина Дазы, купавшегося в крови христиан, вернул вам имущество, отнятое Валерием! А вы готовитесь ударить меня в спину? Разожжете восстание у меня в тылу? Или ваш план еще коварнее? Назови мне зачинщиков, и я, кроме них, никого не трону!
Ноги у старика стали подкашиваться, Лициний усадил его обратно на скамью.
– Они верят, что на земле настанет Царствие Божие, когда Константин победит, – произнес Власий, тяжело дыша. – Потому что у веры христианской не останется врагов.
– Вот! Ты это сам признал! – воскликнул август.
– Но они заблуждаются, – вздохнул пленник.
Лициний усмехнулся, однако слова Власия заинтересовали его.
– Почему же?
– Если Константин победит, ты станешь последним, кто испытывал нас силою. Мучил, но очищал через страдания и огонь. Гонители – наши проводники. Ты, Диоклетиан, Галерий, Даза вели нас к Господу прямой дорогой. Идти по ней трудно, но направление ясно. Тот, чья вера крепка, выдержит, – отвечал Власий. – Без вас мы останемся в окружении наших слабостей. Вместо прямых дорог будут запутанные извилистые тропы, на которых любой, даже самый стойкий, может потеряться. Кажется, что люди бывают либо сильными, либо слабыми. Но у каждого своя сила и свои слабости. На прочность испытывают разом, а соблазнами искушают всю жизнь. Я благодарен тебе, Василевс, ты позволил мне искупить грехи. Я отправлюсь к Господу с легким сердцем.
– Выходит, ты рад умереть от моей руки?
– Я благодарен Богу, что смог так прожить свою жизнь. Вера была моим спасительным плотом посреди бушующего океана. Ливень хлещет, молнии бьют, волны накатывают, а я держусь за свой плот и ни о чем не беспокоюсь. Доплыву или уйду вместе с ним на дно, но ни за что не отпущу.
– Назови мне зачинщиков – и отправишься к своему Господу без мучений, – сурово произнес Лициний.
– Христиане молятся за тебя и за твоего соправителя Константина. Другой правды у меня нет, Василевс.
Август понимал, что ничего не добьется от пленника, но отступить не мог, тем более на глазах у своих людей.
– Начинай пытку, – кивнул он Тулию.
Стражники развязали веревки, сняли со старика лохмотья и подвесили его на цепи. Поначалу Власий сносил все молча. Но, почувствовав умоляющий взгляд Тулия, стал из последних сил стонать и кричать, чтобы больше не позорить уважаемого пыточных дел мастера.
VII
Через девять месяцев после праздника Станаэля Фауста родила сына. Беременность протекала тяжело. Вначале ее мучили утренняя тошнота и частые головокружения, затем отеки, слабость, недомогания. Но больше всего Константина тревожили беспричинные истерики, в которые императрица могла впасть в любой момент. Она то безудержно смеялась, то горько рыдала. Лекари поили ее отваром из успокаивающих трав. Тот не имел никакого эффекта, но дать что-то более действенное они не решались, опасаясь навредить ребенку.
Роды были трудными и долгими. В перерывах между схватками Фауста вслух сбивчиво молилась Христу и Юноне Луцине, богине деторождения, а про себя взывала к Станаэлю. Она заглушала боль восторженной мыслью, что сейчас на свет явится полубог. Когда повитуха с широкой улыбкой на устах показала ей синий, покрытый белой творожистой смазкой кричащий комочек, императрица почувствовала разочарование.
– Мальчик? – слабо прошептала Фауста.
Повитуха поняла ее вопрос по движению губ и радостно кивнула.
– У тебя сын, о Божественная.
Кожа ребенка на глазах из синюшной стала ярко-красной. Повитуха перерезала пуповину, бережно омыла новорожденного, завернула в белый шелк и вынесла к отцу. Константин не стал дожидаться, пока сына положат у его ног, как того требовал обычай. Он шагнул к раскрывшимся дверям опочивальни и взял ребенка из рук повитухи. Но не смог его долго держать. От волнения императора била такая дрожь, что он побоялся уронить младенца. Константин обернулся к Криспу:
– Возьми брата на руки, только держи крепко!
Мальчик смотрел на новорожденного с растерянной улыбкой. Император с двумя сыновьями и свитой вышел на балкон. На площади возле дворца собралась толпа. По ней пробежал ропот, когда Константин появился, ступая нетвердой походкой, с пустыми руками.
– Подними брата повыше, покажи его всем, – шепнул он Криспу; тот колебался. – Смелей! Обрадуй их!
Мальчик подошел к мраморному поручню балкона и вытянул руки над головой. Толпа возликовала. Константин собрался, громко и твердо произнес:
– Узрите, Господь подарил мне сына, Флавия Клавдия Константина. Константина Второго!
Несмотря на тяжелые роды, ребенок появился здоровым. Он креп день ото дня. На головке пробивались светлые, как лен, волосы. Фауста подолгу вглядывалась в сына, особенно в его светло-голубые, как у отца, глаза, пытаясь найти знак Станаэля, признак того, что бог причастен к рождению мальчика. Но видела обыкновенного ребенка, невинного и беззащитного.
В жизни Константина настал период, которого он жаждал и в то же время боялся. Впервые со дня расставания с Минервиной император почувствовал себя счастливым. С появлением наследника, казалось, все наладилось, на душе стало спокойно. У древа Флавиев – Констанциев появился новый драгоценный росток. Крисп радовал отца, выказывая способности к наукам и физическим упражнениям. Фауста стала ласковой, как прежде. Некоторую отстраненность супруги он списывал на материнские заботы, которые отнимали у нее много сил.
При этом, сколько бы император ни работал, дел и забот меньше не становилось. Трон приковывал к себе. Но Константин чувствовал, что труды не пропадают даром, его указы исполняются. Империя постепенно крепнет и преображается. Он твердо держал в руках бразды правления.
Новые земли влились в его прежние владения. Иллирийская армия успокоилась. Константин перемешал ее с рейнской, осуществив свой замысел. Половину войск отправил на Запад, другую оставил на Дунае. Эрок успешно защищал галльские провинции, стравливая, подкупая племена, и сам обогащался. Набеги небольших варварских банд успешно отражали пограничные отряды.
Далмаций вернулся на Запад во главе рейнских легионов. С их помощью он начал очищать от разбойников Галлию, а затем Испанию. Дороги стали безопаснее, ожила торговля, наладился сбор налогов. После долгих беспокойных времен устанавливался прочный порядок.
Христианская Церковь богатела, получая щедрые пожертвования от состоятельных подданных Константина. У нее появились средства помогать обездоленным, содержать приюты для сирот, кормить и лечить нищих. Под храмы больше не брали в аренду складские помещения, а строили внушительного вида здания. Для их украшения приглашали видных мастеров.
Константин разрешил христианам хоронить умерших в черте города. Прежде кладбища для простых горожан устраивали за пределами селения, чтобы мертвые не тревожили живых. Христиане относились к усопшим иначе. Они хотели навещать их чаще, чем по определенным праздникам, молиться за них, говорить с ними, ухаживать за могилами. Поначалу страже приходилось охранять первые кладбища внутри городских стен, чтобы разгневанные поклонники иных богов не разорили их.
Но мертвые не восставали из могил, призраки не потревожили ночного покоя горожан, а эпидемии вспыхивали не чаще обычного. Постепенно недовольство стихло. Христианство незаметно одерживало свою главную победу. Оно вливалось в жизнь Империи, переставало быть верой рабов и изгнанников, оттеняло религию римских богов. Однако далеко не всем христианам это было по нраву.
В Карфагене крепло движение донатистов. Константин попытался последовать совету Осия, попросив епископа Рима разрешить спор между Донатом и Цецилианом. Тот созвал Собор, который, как и рассчитывал император, поддержал Цецилиана. Но донатисты не собирались подчиняться, их лидер потребовал созвать новый Собор. Епископ Рима отказал, а Константин решил удовлетворить просьбу Доната. Он думал, что повторное решение поставит точку в затянувшемся раздоре.
По настоянию императора в городе Арле прошел еще один Собор; на нем Донат был отлучен от Церкви, а его учение объявлено ересью. Константин уверился, что теперь у него есть полное право вмешаться. Он издал эдикт, предписывающий вернуть захваченные донатистами храмы, а епископов, которые будут упорствовать в своей ереси, отправлять в ссылку. Император надеялся, что теперь, когда Церковь осудила Доната, от него все отвернутся, но число его сторонников, наоборот, стало расти. К нему потянулись жаждавшие бороться и страдать за веру. В нем увидели продолжателя дела истинных христиан. Его догматы были не столь важны, главное, что он гоним императором.
Наместник по приказу Константина попытался очистить Карфаген от донатистов. Те ушли в катакомбы или рассеялись по округе. В их ряды стали вливаться нищие, беглые рабы, разбойники, сектанты вроде циркумцеллионов. Вскоре уже нельзя было понять, какая из групп донатистов просто скитается, скрываясь от императорских солдат, а какая грабит и убивает, прикрываясь благими целями.
Донат умер в ссылке, далеко от Карфагена. Но созданное им движение не угасло. Подобно гидре, лишившись одной головы, оно отрастило множество новых, пусть и не таких крупных. Император хотел одним росчерком пера предотвратить церковный раскол, а вместо этого вдохнул в донатистов силу и вызвал сочувствие к ним. Во многом благодаря этому заряду движение просуществовало несколько столетий. Меры против него то смягчались, то ужесточались, но полностью искоренить донатистов смогли лишь арабы, когда захватили бывшие римские провинции в Африке.
Константин сожалел, что поступил так опрометчиво, но был уже не в силах ничего исправить.
Провал попытки разрешить церковный спор опечалил Константина, но не омрачил шесть прекрасных лет, начавшихся с того дня, как Фауста родила сына. Он наслаждался жизнью и все же чувствовал смутную тревогу, что слишком успокоился и за счастье еще предстоит расплатиться.
Елена, мать императора, не поехала вместе с его семьей в Сирмий. Она осталась в Италии, жила уединенно на вилле у побережья. Константин приглашал ее погостить, посмотреть на внука. Елена обещала, но все откладывала поездку, ссылаясь на возраст и неважное самочувствие. Император не настаивал, дорога была долгой, престарелой женщине вынести ее в самом деле непросто. Они переписывались, раз в полгода Константин отправлял ей новые портреты детей.
И вот спустя шесть лет после рождения младшего внука она известила сына, что собирается приехать. Император готовился к встрече, хотел устроить в городе праздник в честь матери, но вдруг Публий Лукиан доложил, что Елена не планирует останавливаться в Сирмии, а хочет ехать дальше, во владения Лициния.
– Что за нелепость? – нахмурился Константин.
– Об этом шепчется ее прислуга. У Божественной августы есть престарелая служанка. Приближаясь к Сирмию, она переоденет ее в свои одежды и посадит в закрытую карету. А сама под покровом ночи с несколькими приближенными отправится к Лицинию.
– Зачем?
Публий Лукиан развел руками:
– Говорят, Лициний притесняет христиан. Чем большее расстояние пролетает слух, тем страшнее становится. А италийское побережье далеко от Никомедии.
Под предлогом защиты от разбойников Константин выслал навстречу матери конный отряд гвардейцев, который охранял ее карету днем, а шатер ночью. Под бдительной охраной Елена приехала в Сирмий. Гвардейцы сопроводили ее до ступеней императорского дворца, на которых стоял Константин.
– Я гостья или пленница? – резко спросила она.
Легкая улыбка тронула строгое лицо императора. Он был рассержен, но решительность матери тронула его. Он обнял ее и под приветственные возгласы горожан увел в свои покои.
– Ты самая важная гостья в этом дворце, но, если попытаешься бежать, я запру тебя в опочивальне, а к каждой двери и окну приставлю по стражнику! – пригрозил Константин. – Выгляни на улицы, для людей твой приезд – праздник. Ты хотела опозорить меня перед ними? Подсунуть вместо себя служанку?
– Они празднуют потому, что ты устраиваешь гонки на колесницах да пиры. Им все равно, что за старуха приехала, – парировала Елена. – Как можно праздновать, когда Лициний истребляет христиан, сносит храмы? А невинных бросают в темницы, истязают и казнят?!
– Все немного не так, – спокойно возразил император. – Мой зять ищет заговор, которого нет. Он подозревает отдельных епископов и пресвитеров в надежде ухватить нити несуществующего сговора. Они его подданные, он вправе так поступать. Законов против христиан Лициний не принимает, это не гонения!
– Ты все знаешь и не хочешь вмешаться? – поразилась мать.
– Я не могу связать руки Лицинию, не объявив ему войны, но повода для нее он мне не дал… пока. А если попросить его остановиться, то Лициний окончательно уверится, что на правильном пути, и только удвоит усилия.
– Муки добрых, Божиих людей не повод? Казни отцов Церкви?
– Всех страданий не унять, – покачал головой Константин. – Епископ Осий не раз говорил мне, что Господь каждого испытывает по-Своему. Лициний казнил Власия Севастийского. Пыточных дел мастер, который истязал старика, вынес его тело через тайный ход и передал некой вдове. Та похоронила Власия. А пыточных дел мастер, отринув свое ремесло, ушел странствовать проповедуя и врачуя. Лицинию не истребить всех христиан. На место погибшего всегда встанет новый. Христиане пережили Великие гонения Диоклетиана и Галерия. Неужели ты думаешь, их сможет сломить Лициний? Он сдастся, убедившись в тщетности своей борьбы. Это поражение сломит его. Ему недолго осталось.
– И ты говоришь такое!
Елена медленно опустилась на ложе, закрыла лицо руками и зарыдала. Император растерялся. Он оглянулся на двери, собираясь кликнуть прислугу, но передумал, положил свои большие ладони матери на плечи и стал неловко утешать.
– Ты, защитник христиан, правитель, которого благословил Сам Господь, собираешься ждать? – Она подняла голову и взглянула на сына глазами, полными боли.
– Разве я не прав? – пробормотал Константин. – Важно уметь выждать.
– Утешать себя неисповедимостью путей Господних, будучи бессильным что-либо изменить, – это одно. А веселиться и пировать, пока в тебе нуждаются, совсем иное. На все воля Божия, но мы сами решаем, как нам поступать, и будем держать за это ответ. – Елена вздохнула. – Когда я узнала, что творит Лициний, мне все опротивело. Как можно купаться в море, нежиться на солнце, есть сладкий виноград и рассуждать о Боге? Я не спала несколько ночей и поняла, что больше не могу жить сытой, успокоенной жизнью.
– Решила за веру пострадать, – печально улыбнулся император: ему вспомнились донатисты. – Выходит, сюда ты и не собиралась, обманывала меня с самого начала. А как же внуки?
– Я люблю их, молюсь за них и за тебя. Но у моих внуков есть все, мне нечего им дать. Только себя тешить, общаясь с ними.
– Что же в этом плохого?
– Ничего, но сердце болит о другом. Священники так много мне дали, когда Констанций ушел, когда тебя отправили к Диоклетиану, когда я была пленницей у Галерия… Они утешали, дарили свет. В беседах, в переписке… Отец Прокопий был одним из них. Он жил близ Никомедии. Уже три года на мои письма к нему нет ответов.
– Как ты можешь ему помочь? – развел руками Константин.
– Брошусь Лицинию в ноги, буду умолять прекратить преследовать христиан и отпустить тех, кого он держит. Стану упрашивать до тех пор, пока и меня не бросят в темницу. Тогда все узнают, насколько он жесток, а у тебя появится повод вмешаться.
– Моя мать никогда и никому не будет кидаться в ноги! – разгневался император. – Даже если бы ты каким-то чудом прорвалась к Лицинию, он принял бы тебя как почетную гостью, уверил, что все слухи о притеснении христиан лживы, и отправил бы ко мне, одарив подарками. Над нами бы все смеялись. Ты хочешь рисковать зазря. Я не отпущу тебя!
– Значит, я пленница?
– Ты поживешь во дворце, пока… – Император осекся, но затем договорил: – Пока я не разберусь с Лицинием.
Слова матери о сытой, успокоенной жизни подействовали на Константина. Смутная тревога пробудилась с небывалой ясностью. Момент, чтобы выступить против Лициния, был неидеальным, но что, если лучшего никогда не представится? К тому же император соскучился по сражениям. Елена взглянула на сына с надеждой и испугом, что последние слова ей только послышались.
– Меч, который долго не вынимают из ножен, ржавеет, – продолжил он. – Как бы и мне не одряхлеть, сидя на троне. Пора в седло.
Глаза матери блеснули то ли от радости, то ли от тревоги, что ее сын собирается на войну.
– Хватит об этом. – Елена хотела что-то сказать, но Константин прервал ее: – Отдохни с дороги, твои комнаты готовы. А после, надеюсь, ты не против потешить себя общением с внуками.
– Буду рада, – улыбнулась мать.
Константин-младший был высок и крепок для своих лет. Внешностью и походкой он очень напоминал отца. Но чувствовалось, что ему недостает силы, которая била в императоре ключом, не столько физической, сколько внутренней. Мальчик быстро сдавался, сталкиваясь с трудностями, начинал плакать, когда его всерьез бранили или наказывали. Он не был глуп, однако к знаниям тяги не выказывал, учился через силу, любил хулиганить и капризничать, как большинство шестилетних детей. Но Фауста не могла с этим смириться: ее сын не имел права быть обыкновенным ребенком. Она надеялась, что он, как цветок, однажды распустится и все им будут восхищаться. Императрица была чрезвычайно требовательна к мальчику, чем нередко доводила его до слез.
Константина росла послушной и тихой девочкой. Было очевидно, что красавицей ей не стать. Черты ее лица, повадки, фигура были правильными, но слишком простыми, лишенными даже зачатков очарования. Она любила читать, играть на арфе, слушать сказания нянек. Ее тянуло к Лактанцию. Она часто приходила на его занятия с Криспом, садилась где-нибудь в сторонке с рукоделием и слушала. Отцу очень нравился кроткий, спокойный нрав дочери. Он сравнивал ее со своей сводной сестрой Констанцией, отмечал, что Константина непременно будет хорошей матерью и женой.
Отдохнув и сменив одеяния, Елена познакомилась с внуками. Она подарила подарки, поиграла с ними. Дети были веселы, бабушка ласкова, но между ними еще не возникло то тепло, которое бывает только между близкими людьми. Ощущалась некоторая отстраненность. Фауста, наблюдавшая за ними, про себя обвинила свекровь в черствости. Чего еще ожидать от христианки, способной по-настоящему любить лишь своего Бога…
В саду, расположившись под раскидистой яблоней, Елена читала детям сказание, как Геракл освободил Прометея. Внуки сидели у нее в ногах, чавкая сочными персиками, сладкий сок блестел на подбородках. Тут появился Крисп. Он вернулся после занятий верховой ездой. Дети с радостными криками бросились к старшему брату. Тот немного потискал их, затем мягко отстранил и обнял бабушку.
Елена не видела Криспа семь лет, за это время мальчик превратился в высокого широкоплечего юношу. Он словно шагнул со своих портретов: густые, резко очерченные брови, высокий лоб, взгляд твердый, но сами глаза добрые, прямой, чуть заостренный нос, обаятельная улыбка. Она не знала, чем живет и о чем мечтает этот почти взрослый мужчина, но потянулась к нему всем сердцем как к родному человеку.
Заметив, как Елена очарована Криспом, как она перестала обращать внимание на Константина-младшего, у Фаусты внутри все закипело от ревности и обиды. В тот день императрица впервые увидела в пасынке угрозу для своего ребенка. Зерно, упав на благодатную почву, стало прорастать.
За ужином Константин не мог налюбоваться своей семьей: женой, тремя детьми и матерью, которая снова была с ним. Не хватало только Далмация. Перед трапезой император отправил ему и всем старшим военачальникам, включая Авла и Эрока, письма, приказывая им как можно скорее прибыть в Сирмий. Он твердо вознамерился покончить с Лицинием, с последней, как ему казалось, серьезной угрозой роду Флавиев – Констанциев. Но настоящая опасность для его семьи начала зреть у Константина под боком.
VIII
В Сирмий один за другим прибывали военачальники. Дни напролет Константин проводил на военных советах. Весь город говорил о том, что скоро возобновится междоусобная война.
– Константин и Лициний вцепятся друг другу в глотки, а варвары придут из-за Дуная, будут нас грабить, жечь и резать как овец! – ворчали старики.
Их слова вселяли дрожь и в тех, кто был моложе. Со времен последнего нашествия готов прошло около пятидесяти лет. Память о страшных разрушениях и пролитой крови была свежа. Горожане бы очень удивились и вздохнули с облегчением, узнав, что прежде всего Константин собирался сокрушить именно готов.
Лициний тайно платил их вождям, чтобы те ходили в набеги за Дунай. Но король готов Эрманарих, получавший дары от Константина, держал свою знать в узде. Лишь изредка у римлян с готами случались небольшие стычки в приграничных землях. В целом на Дунае было спокойно, как и на Рейне. Избегая сражений с Римом, Эрманарих укреплял свое королевство, приводил к покорности вождей, покорял племена сарматов, возводил стены вокруг городов. Он равнялся на Константина – стремился к неограниченной власти над своим народом.
Если между соправителями начнется война, Эрманарих непременно этим воспользуется. Такого противника нельзя было оставлять в тылу, а переформированные иллирийские легионы, простоявшие шесть лет без серьезного дела, нуждались в том, чтобы их закалили. Император решил спровоцировать готов. Он оттянул полевую армию от границы, вместо очередных даров отправил посланника, который должен был потребовать от Эрманариха клятвенных заверений в дружбе и верности Константину, а заодно как бы невзначай оскорбить короля.
– А если Эрманарих не соблазнится? – спросил Эрок на одном из военных советов. – Говорят, он очень осторожен.
– Это не столь важно. Его вождям не устоять, они истосковались по набегам, – ответил император. – Как только первые отряды варваров вернутся хотя бы с малой добычей, остальные хлынут волной. Эрманариху их не удержать, какой бы сильной ни была его рука. Ему придется возглавить нашествие или остаться в стороне, показав свою беспомощность. В любом случае мы разобьем готов, которые вторгнутся на наши земли, а затем перейдем Дунай и довершим начатое.
Константин оглядел присутствующих:
– Благородный Марк Ювентин, собери лучших инженеров и заготовь материалы. Вы должны в кратчайшие сроки наладить переправу через Дунай. Высокородный Авл, пошли трибунов в Акуминий, Сингидум и Таурунум, пусть укрепят стены, убедятся, что города готовы принять окрестных жителей, а главное, начнут заготовку провианта. Варвары решат: это добрый знак, армия уходит, города готовятся к осаде. Но на самом деле трибуны будут собирать обозы для похода нашей армии. – Авл кивнул, показывая, что приказ ясен. – А сам отправляйся в Виминаций, – продолжил император. – Твоя задача та же, что и у трибунов. Только твой обоз должен быть в несколько раз больше и обеспечен осадным снаряжением. Вероятно, нам придется брать города варваров.
Публий Лукиан добыл немало ценных сведений у торговцев, которые вели дела с готами и часто бывали в их землях. Константин со своими военачальниками готовил детальный план будущей кампании: как разделить армию, по каким дорогам двигаться, где собирать фураж, а также множество запасных вариантов, если что-то пойдет не так. Однако приближенные императора не знали самого важного: после войны с готами войска не повернут обратно, император поведет их во владения Лициния.
Константин после очередного военного совета дремал в своем кабинете, откинувшись на письменном ложе. Он был измотан, выглядел бледнее обычного, под глазами залегли темные круги. Крисп, осторожно ступая, подошел и тихо позвал отца. Император еще до того, как пробудился, почувствовал, что сын стоит рядом. Он медленно открыл глаза.
– Что случилось? – Константин устало вздохнул.
– Отец, я хочу жениться, – робко произнес Крисп. – Прошу тебя благословить и устроить мой брак.
Дрему как рукой сняло. Император сел и внимательно посмотрел на сына. Он был наслышан, что в Криспа влюблены если не все, то добрая половина всех девушек Сирмия, от юных рабынь до патрицианок. Сын охотно пользовался этим, но знал меру и головы вроде не терял.
– Кто твоя избранница? – с любопытством спросил император.
Браки детей от Фаусты Константин собирался устроить сам. Старшему сыну, которому не суждено унаследовать престол, он хотел дать небольшую привилегию – позволить самостоятельно выбрать невесту.
– Луцила, дочь Лициния, – ответил Крисп.
– Она же на пятнадцать лет старше тебя и бесплодна! – воскликнул Константин, хотя догадался, в чем дело.
«Хочет принести жертву, – усмехнулся про себя император. – Прямо как моя мать. Не знаю, что бы я выбрал – умереть в темнице или жить с Луцилой».
– Наш брак предотвратит раздор между тобой и ее отцом!
– Я уже выдал за Лициния свою сестру, – напомнил Константин. – Даже если мы с ним переженим всю нашу родню, это ничего не изменит. А жениться на дочери Эрманариха не хочешь? Говорят, она иногда даже моется.
– Ты собираешься в поход против готов? – догадался Крисп, глаза у него блеснули.
Он чувствовал, что его отец не может без повода, вероломно напасть на своего соправителя.
– Должен же я повторить подвиг нашего славного предка Клавдия Готского, – улыбнулся император.
– Возьми меня с собой!
– Я думал над этим, но решил, что для тебя есть задача важнее.
Он поднялся и поманил сына следовать за ним. Они подошли к стене, на которой висела огромная карта.
– Ты отправишься в Фессалоники. Там стоит наш флот, под командованием Сенниса Флора. Человек надежный и опытный, но уже немолодой, он начинал служить еще при Диоклетиане. Долгое затишье расслабило его. Нужно проверить, в каком состоянии корабли. Твой приезд всех встряхнет, а Флора в первую очередь, – сказал Константин. – Набирайся знаний, интересуйся всем, вникай в каждую мелочь! Не успокаивайся, пока не убедишься, что флот готов к отплытию.
– А потом? – нахмурился Крисп.
Он решил, что отец просто хочет уберечь его, поэтому отсылает подальше, ведь против готов корабли не нужны.
– Вам предстоит захватить Византий. – Император указал на карте город в месте соединения Босфорского пролива, Мраморного моря и залива Золотого Рога. – Но ты должен держать это в тайне, пока не прибудет гонец с приказом.
– Захватить город Лициния, – произнес Крисп. – Значит, и с ним будет война.
– Это неизбежно. Византий – ключ к скорой победе и миру. В прошлый раз он с полуразрушенной стеной и всего сотней человек в гарнизоне неделю сдерживал многотысячное войско Максимина Дазы. Лициний усилил оборону, восстановил укрепления, однако город уязвим с моря. Флот у противника больше, но он думает, что вы, скорее, атакуете его столицу – Никомедию. Нам же нужнее Византий. Ваш успех – в быстроте и внезапности. Когда город будет взят, Лициний со своей армией окажется заперт во Фракии. Одно-два сражения все решат, и война не затянется. Я поставлю тебя командовать флотом, но помни: это только для вида, из необходимости. Слушайся во всем Сенниса Флора, не перечь ему!
Крисп, еще минуту назад разочарованный, теперь сиял, глядя на карту.
– Я не подведу, отец! – пообещал он.
На следующий день после утренней трапезы Константин позвал Далмация в свои покои.
– Я слышал, Крисп собирается в дорогу. Куда ты его отправляешь? – спросил брат.
– В Фессалоники, – коротко ответил император, наливая из посеребренного кувшина в два кубка душистое розовое вино, разбавленное водой. – Командовать флотом.
– Тебя не устраивает Сеннис Флор? – удивился Далмаций, принимая кубок и вдыхая аромат фиалки с легким древесным оттенком.
– Напротив, я уверен, он сумеет одержать очень важную победу. Но лавры за нее должны достаться нашей семье. Поэтому Крисп побудет рядом с ним, заодно наберется бесценного опыта. Старика я щедро награжу. Благо он нетщеславен и больше ценит богатство.
– Пошли меня вместо мальчишки, я тоже хочу славы великого флотоводца, – улыбнулся брат и сделал глоток.
– Ты отправишься в Ктесифон и пробудешь некоторое время при дворе Шапура Второго.
Брат едва не поперхнулся вином.
– Зачем? – спросил Далмаций, отставив кубок.
– Быть голосом Флавиев – Констанциев во дворце царя царей. Близится война с Лицинием. Персы не должны в нее вмешиваться. За это Шапур может рассчитывать на мою поддержку. Она очень пригодится ему и его окружению, он юн, а в его царстве неспокойно.
– Отправь кого-нибудь другого! – покачал головой Далмаций. – Из меня неважный оратор, мое дело – армия. Я нужен тебе на войне!
– Ты полезен как военачальник, – признал Константин, – но как посланник незаменим. Никто не посмеет усомниться в силе данных тобой обещаний. Ты будешь говорить от имени всей нашей семьи. Витиеватых речей от тебя не требуется. Их заменят богатые дары; часть сокровищ, захваченных Валерием после разгрома царя Нарсе, находится в Сирмии. Я отправлю их Шапуру, это укрепит его авторитет в глазах подданных. По мирному договору Диоклетиана с персами, Рим получил пять пограничных сатрапий. В ближайшие три года, после победы над Лицинием, налоги с них будут снова поступать в казну царя царей. Но в остальном Рим сохранит над ними власть. Если же Лициний будет одерживать верх… – Император осекся, ему не хотелось говорить об этом, он гнал от себя такие мысли, но понимал, что должен и это предусмотреть. – Тогда уговори Шапура и его советников начать вторжение, чтобы отвлечь Лициния. Взамен ты можешь пойти персам на любые уступки, какие сочтешь здравыми. Но это только в самом крайнем случае.
– Как я попаду к Шапуру? Едва ли Лициний меня пропустит.
– Публий Лукиан заверял, что сумеет тайно доставить тебя и дары в Ктесифон. Он отвечает за это головой. Через него же я сообщу, если дела будут совсем плохи и понадобится помощь персов.
– Как долго мне придется пробыть у Шапура? – Далмаций смирился и потянулся к кубку.
– Я надеюсь покончить с Лицинием за год, – сказал Константин.
Крисп застал своего учителя бережно укладывающим свитки в походный сундук. Престарелая рабыня, которая когда-то нянчила сына императора, а затем была приставлена Константином прислуживать Лактанцию, раскладывала вещи наставника по деревянным ящикам. Их было немного, в основном одежда, обувь и глиняная посуда.
– Отче, ты уезжаешь? – спросил Крисп.
– Да, – кивнул Лактанций. – Юноши возвращаются с войн взрослыми мужчинами. Наставники им больше не нужны. Твой отец согласен со мной.
– Я отправляюсь в Фессалоники осматривать флот, а не воевать, – сказал Крисп.
– Называй это как угодно, – грустно улыбнулся учитель. – Мы оба знаем, к чему все идет и через что тебе предстоит пройти.
– Сейчас твои наставления мне нужнее всего. Я думал, ты поедешь со мной!
– После того как ты обнажишь оружие против врага, поведешь за собой людей и прольешь кровь, я больше не смогу тебя учить! Не печалься, так должно быть. Мое время ушло. Тебе пора отпустить мою руку и идти самому. Меня пригласили воспитывать мальчика, и вот он повзрослел. Пришло время уйти. Но я навсегда останусь твоим другом.
Любовь к наставнику, который был с ним столько лет, захлестнула Криспа. Тоска сжала сердце тисками; едва сдерживая слезы, он пробормотал:
– Отче, не покидай меня! Ты нужен мне!
– Тогда пойдем со мной, – предложил Лактинций. – Раз ты этого так хочешь.
– Отец меня не отпустит. Я должен слушаться его, у меня нет выбора.
– Если ты так думаешь, значит, я плохо тебя учил, – вздохнул Лактанций. – Крисп – сын император Константина, он должен во всем подчиняться отцу. Крисп – христианин, дитя Божие и может идти куда глаза глядят, а слушаться только своего сердца. Оставь все, кроме самой скромной обуви да одежды, и уйдем вместе.
– Люди отца догонят нас и вернут меня.
– А ты снова уйди. Запрут двери – вылезай в окно. Свяжут – грызи веревки. Посадят на цепь – рви ее звенья, покуда не обессилеешь. Отказывайся от изысканных яств, срывай с себя богатые одеяния до тех пор, пока твой отец не поймет, что ты принадлежишь не ему, а Господу.
Крисп пристально смотрел на Лактанция, пытаясь понять, шутит тот или говорит в серьез.
– Отче… я не могу так, – медленно произнес он.
– Можешь, – возразил наставник. – Но это не для тебя, не для сына Константина. Поэтому ты отправишься в Фессалоники и будешь исполнять приказы отца. Таков твой выбор. Я не призываю тебя восстать против воли Константина, а хочу напомнить: истинный христианин всегда свободен!
– Я понимаю, отче.
– Главное – не позволь своему сердцу ожесточиться! Щади врагов, будь милостив к побежденным, только так ты не потеряешь самого себя.
Поздним вечером, когда Крисп готовился ко сну, дверь в его покои осторожно отворилась. Появилась высокая девушка в белой полупрозрачной тунике, со свечой в руках. Длинные каштановые волосы спадали на обнаженные плечи, на щеках играл румянец, огонек свечи отражался в ярко-голубых глазах.
– Меня прислал твой отец. – Она опустила взгляд, ее губы тронула смущенная улыбка.
– И чего хочет мой отец? – удивился Крисп и сам невольно улыбнулся в ответ.
– Чтобы его сын ушел на войну мужчиной.
Туника упала на пол. Девушка, мягко ступая, шагнула к нему. Ее нежная кожа источала тонкий аромат розы и жасмина.
– Но… я уже… – пробормотал Крисп.
– Тем лучше. – Озорные искорки блеснули в ее глазах.
«Как же все-таки здорово, – подумал он, – быть сыном императора Константина».
IX
Набеги готов учащались. Пограничная армия получила приказ не покидать фортов, сосредоточившись на их обороне. Небольшие отряды варваров проскальзывали между римскими укреплениями и устремлялись к беззащитным селениям. Жителей предупредили. Большинство из них ушли в ближайшие города, а те, кто остался, горько пожалели о своем упрямстве. Добыча готам доставалась небогатая, но их пьянили свобода и безнаказанность. По дымящимся развалинам было ясно, где они проходили.
Как и предполагал Константин, ручеек постепенно превратился в волну, которая хлынула из-за Дуная и смела несколько фортов. Защищавшие их солдаты отчаянно сопротивлялись, но были перебиты до единого, в плен варвары никого не брали. Желая наконец добыть настоящие трофеи, они осадили приграничные города. Кавалерия под командованием Эрока отделилась от легионов и направилась к Дунаю.
Готы, уверенные, что им ничего не угрожает, пировали. Трибуны, руководившие обороной осажденных городов, снабжали их вином, чтобы варвары даже не помышляли о штурме. Римская конница застала их врасплох. В предрассветный час, пока лагерь готов был еще объят крепким хмельным сном, кавалерия ворвалась в него, сея панику и смерть, сметая палатки, поджигая повозки, убивая спасавшихся бегством варваров.
Волна откатилась обратно к берегам Дуная. Отряды готов собрались вместе. Конница без поддержки пехоты стала бессильна против них. Полевые легионы были далеко позади. Но в стане варваров начался разлад. Эрманариха среди них не было. Одни вожди хотели вернуться обратно, другие отомстить римской кавалерии, а затем еще пограбить. Тем временем Константин в сопровождении палатинской гвардии проехался вдоль уцелевших фортов и собрал пограничные части. Император и Эрок атаковали разрозненных готов с двух сторон. Разгром врага дался римлянам малой кровью. Пленные исчислялись сотнями.
Эрок был разочарован, насколько легко была одержана победа.
– Это не войско, а сброд, разбойники, – сказал ему Константин. – Эрманарих выставит против нас настоящую армию.
Вечером после сражения император вызвал в свой шатер командира пограничных иллирийских войск.
– Ты отвечаешь за пленных, – приказал Константин. – Скоро прибудет Марк Ювентин со строителями, готы помогут им наладить переправу. Затем варвары будут под присмотром твоих людей отстраивать то, что сожгли и разрушили.
– А потом, после восстановления? – осторожно спросил тот. – Как поступить с пленными, о Божественный?
Он надеялся, что император распорядится продать их в рабство, тогда командир пограничников сможет обогатиться. Император ответил не сразу.
– Держите варваров недалеко от переправы. После войны мы вернем пленных Эрманариху как жест доброй воли… при условии, что он сам их накажет.
Вскоре прибыли посланники от короля готов. Они заверяли: воины, перешедшие Дунай, – бунтовщики, нарушившие строжайший запрет. Но Константин знал: Эрманарих одобрил их поход, чтобы прощупать почву. Император выдвинул заведомо невыполнимые требования. Посланники отбыли ни с чем.
Переправу наладили в короткий срок. Легионы под командованием Константина ступили на земли, некогда завоеванные Траяном и оставленные при Аврелиане. В последний раз в истории Империи столь крупные силы римлян перешли Дунай.
Пока король собирал свои лучшие войска, император захватил несколько готских городов, вернее, то, что те называли городами, а римлянам казалось большими деревнями. Эрманарих гордился возведенными укреплениями, которые были серьезной преградой для сарматов и других варваров, однако армия Константина раскалывала их как ореховую скорлупу. Осадные машины пробивали бреши в деревянных стенах. Построение черепахой делало легионеров почти неуязвимыми для летящих в них стрел и камней.
После успешного штурма император давал армии один день на то, чтобы выпустить пар и набрать добычи. Римляне были прагматичны даже в разорении городов. Селение делилось на сектора, каждый доставался определенному подразделению. При этом оставались отряды, которые следили за «порядком», чтобы легионеры не перебарщивали, не покидали отведенную им территорию, не ссорились между собой. Константину не нравилось, что его солдаты занимались грабежом. Но это их право, оплаченное пролитой кровью, и даже император не мог его отнять.
В открытом сражении у готов было мало шансов против римлян. Они могли бы добиться успеха, прибегнув к тактике выжженной земли. Отступать, уничтожая припасы, отравляя источники воды, устраивая засады. Однако подобная стратегия грозила им серьезным ущербом, к тому же Эрманарих не хотел прослыть трусом. Он понимал, Константин не намерен завоевывать его королевство. Император хочет указать готам их место и заключить договор, который позволит ему бросить все силы против Лициния. Королю придется на него согласиться, но прежде он должен дать бой и доказать, что с ним необходимо считаться.
Эрманарих встретил приближавшиеся к его столице легионы. Он расположил свою армию на возвышенности. Константин взял ее в полукольцо. Полностью окружать не стал: линия войск могла оказаться недостаточно прочной. Да и у варваров при разгроме должна быть возможность обратиться в бегство, иначе они будут стоять насмерть.
Первый день прошел в обмене угрозами, боевыми кличами и перестрелке, которая то затихала, то разгоралась вновь. Врукопашную не сходились, прощупывали друг друга. Стрелы, дротики и камни летали до самого заката, но потери были незначительными с обеих сторон. Пока одна часть легионеров отвлекала варваров, другая разбила лагерь, выкопала вокруг него ров, насыпала земляной вал.
В сумерках римляне отошли, оставив дозорных. В лагере солдат Константина ожидал теплый ужин. Они принялись за него с чувством приятной усталости, словно вернулись с успешно выполненной работы. Ничего не было решено, самое трудное ожидало впереди. Но в этот тихий вечер каждый невольно радовался, что воздух напоен не кровью, а чуть сладким ароматом летней природы и сегодня, плотно поев, можно спокойно уснуть. Перед глазами не будут стоять картины боя, а слух терзать стоны раненых.
Перед тем как лечь, Константин вышел из шатра и взглянул на возвышенность, на которой стоял противник. Мерцали огоньки костров, вырисовывались силуэты неказистых солдатских палаток и телег, окружавших лагерь готов. Приглушенные голоса варваров, тянувших заунывный мотив, перемешивались с пением вечерних птиц.
«Придется задержаться здесь… ненадолго», – подумал император, сам не до конца осознавая, к чему эта мысль.
На мгновение ему стало жаль, что завтра придется отправить легионеров на штурм возвышенности, в жестокую, беспощадную схватку. Он засыпал, нашептывая молитву.
На рассвете римлянами овладело совсем иное настроение, под стать резкому сигналу медных буцин, под который они пробудились. За завтраком они раззадоривали друг друга, обсуждая, как разобьют готов еще до полудня и устроят обеденную трапезу в их лагере.
Константин поручил Авлу Аммиану командовать центром армии и возглавить атаку на варваров. Тот выстроил легионеров, провел быстрый смотр, проехавшись вдоль рядов, и повел их в бой. Небо над головами наступающих римлян потемнело от стрел.
– Сомкнуться, поднять щиты! – приказал Авл.
Лучники стреляли яростно и плотно, не так, как день назад. Черепаха, в которую построились легионеры, стала похожа на ежа. Это задержало штурм, но не остановило его. Мелким шагом, медленно и уверенно солдаты Константина продолжали подъем. Наверху их ожидала живая ощетинившаяся стена. Эрманарих выставил вперед своих лучших воинов, высоких, мощных, в металлических шлемах и тяжелых кольчугах. У готов в первых рядах были большие овальные щиты, они укрывались за ними, уткнув нижний край в землю. Стоявшие позади держали длинные пики.
Приблизившись, римляне остановились. Авл, поймав момент между залпами лучников, скомандовал:
– Дротики к бою!
Легионеры опустили щиты, стремительно расступились и метнули во врага копья, снова сомкнулись, укрываясь от стрел, а затем повторили бросок. На этом большинство сражений римлян с варварами превращалось в бойню. После смертоносного града дротиков вражеские порядки смешивались. Легионеры переходили врукопашную, сметая остатки их строя. Однако готы выстояли. Около полусотни были убиты или серьезно ранены. Но их быстро оттащили, а образовавшиеся бреши заняли воины из задних рядов.
Солдаты Константина и Эрманариха сошлись в ближнем бою. У легионеров никак не получалось опрокинуть готов. Стоявшие спереди упирались, выставив щиты, а те, кто был позади, кололи легионеров пиками. Изнурительная борьба длилась часами. Солдаты обливались потом, земля орошалась кровью. Авл отводил выдохшиеся отряды, заменял их свежими, но пересилить варваров не удавалось.
Конница Эрманариха, спустившись с противоположной стороны возвышенности, несколько раз пыталась зайти римлянам в тыл. Однако Константин, наблюдавший за сражением на расстоянии, бросал ей наперерез свою кавалерию. Всадники Эрманариха отходили, избегая боя. Ближе к полудню император подозвал к себе Марка Ювентина:
– Возьми две центурии из шестого легиона, они стоят в резерве. Выкопайте траншею, достаточную для двух сотен солдат. – Константин указал место между спуском с возвышенности и лагерем римлян.
Затем император отправил к Авлу контубернала с сообщением:
«Раз го́тов не сдвинуть, сделаем так, чтобы они сами спустились к нам. Умерь пыл и жди команды к отступлению!»
Две центурии под командованием Марка Ювентина управились примерно за час. Константин отправил в траншею отряд алеманов, вооруженных длинными копьями, велев им затаиться.
«Уводи легионеров к лагерю и постарайся, чтобы готы последовали за вами», – получил приказ Авл через контубернала.
Военачальник, чтобы завлечь варваров, создал видимость паники. Он скомандовал передним отрядам отступать, а задние оставил на месте. Они столкнулись, возникла неразбериха. Готы возликовали, решив, что римляне дрогнули. Авл восстановил им же нарушенный порядок. Быстрым шагом, переходящим в бег, легионеры направились к лагерю.
Константин чувствовал: Эрманарих ждет удобного случая, чтобы использовать конницу. Так и случилось. Пехотинцы, сдерживавшие натиск римлян, расступились, пропуская всадников. Контубернал, присланный императором, указал Авлу, где находится траншея. Военачальник повел своих людей чуть в сторону от нее. Легионеры успели преодолеть около половины пути, когда их нагнала конница готов. Раздались крики, вой, лязг железа, ржание коней. Всадники разметали центурию, бежавшую позади, и устремились в самую гущу отступавших. Они пронзали легионеров копьями, сбивали лошадями, топтали копытами. Паника среди римлян стала настоящей. Константину было больно на это смотреть, он с трудом подавил желание отвернуться.
Эрманарих отправил за конницей пехоту, чтобы довершить разгром. Прозвучал сигнал, алеманы выскочили из траншеи и бросились наперерез всадникам. Из-за поднявшейся пыли те заметили их слишком поздно. Скакавшие впереди приняли смерть, налетев на копья. Остальные начали лихорадочно осаживать скакунов. Ряды алеманов спружинили от удара конских грудей о щиты, но выстояли. Конница готов начала обходить отряд копейщиков, но тут на нее с двух сторон налетела кавалерия Константина, легкая под командованием Марка Ювентина и тяжелая с Эроком во главе. Отступавшие легионеры наконец получили передышку. Авл принялся их успокаивать и перестраивать.
Спускавшаяся с возвышенности пехота варваров не видела, что́ происходит внизу. Из огромного облака пыли на нее выскочили остатки собственной разгромленной конницы. Строй смешался, солдаты перепугались, став легкой добычей для вылетевшей следом кавалерии римлян. Пехотинцы бросились в разные стороны, большинство побежали обратно в лагерь. Константин бросил в бой резервы. Его конница на плечах спасавшихся бегством готов ворвалась на возвышенность, а за ней свежие легионы со вспомогательными отрядами. Римляне захватили лагерь противника. Эрманарих собрал остатки своей армии и отступил, Константин не стал его преследовать.
После битвы Авл был мрачнее тучи. Император решил его подбодрить:
– Выше голову. Обидно показывать варварам спину, но мы победили и потери невелики. Иначе готы до сих пор владели бы этой возвышенностью. Я очень доволен тобой!
– Неужели мы бились с равными, о Божественный, раз нам понадобилась хитрость? – вздохнул военачальник.
– Это были лучшие воины Эрманариха, и они заняли высоту, – напомнил Константин. – Что тебя так печалит?
– Я вижу, как варвары все больше учатся у нас. Держат строй, смыкают и размыкают ряды, соблюдают дисциплину. Сегодня они выдержали наш натиск, не уступили ни пяди. Раньше, чтобы сдержать десять тысяч варваров, хватило бы одного легиона. А сейчас мы все чаще побеждаем благодаря уловкам и внезапным атакам кавалерии, которая в большинстве своем набрана из тех же германцев. Такие войны не для меня, о Божественный, мне пора на покой!
– Ты измотан, ступай отдохни, приди в себя, Авл.
Императора неприятно удивило, насколько уставшим выглядел его лучший военачальник.
Римляне не пошли дальше. Константин дал армии несколько дней, чтобы восстановить силы и похоронить погибших товарищей. Солдатам выдавали удвоенный паек из припасов, захваченных в готском лагере. Эрманарих вернулся в свою столицу и стал готовиться к осаде. Император отправил к нему послов. Он смягчил свои требования по сравнению с теми, которые выдвигал перед походом. Отпустить всех, кого варвары угнали в рабство во время набегов, выплатить золотом дань и впредь строго следить, чтобы подданные короля больше не пересекали Дунай с оружием в руках. Эрманарих должен был отдать одного из своих сыновей в заложники как гаранта исполнения договора. Тот будет жить и обучаться при дворе императора.
Немного помедлив с ответом, скорее ради солидности, чем для раздумий, король готов согласился. Он вернулся на поле недавней битвы, чтобы скрепить договор. Константин велел поставить шатер для переговоров на возвышенности, в центре захваченного лагеря. Император был наслышан об Эрманарихе, представлял его мощным и грозным. Он изумился, когда перед ним предстал низенький человек, не достающий императору даже до плеча. У него были сильные руки, широкие плечи, но король не приучился держать осанку и, забывшись, начинал сутулиться. Подбородок обрамляла густая ухоженная борода, русые волосы заплетены в косу. Взгляд его ясных голубых глаз менялся от внимательного и рассудительного до насмешливого.
Он приехал с тремя сыновьями и женой, высокой, статной женщиной с золотистыми локонами и карими глазами. Королевская семья поклонилась императору, затем Эрманарих представил своих родных.
– Мой сын Ардарих отправится с тобой, о Божественный, – сказал король, подозвав к себе старшего. – Он будет тебе верно служить.
Константин окинул его внимательным взглядом. Ардариху было лет шестнадцать, рослый, крепко сбитый, с упрямым, волевым выражением лица. Внешне юноша затмевал отца. Он выглядел как подобает будущему королю варваров. Императору не понравилось безразличие в тоне Эрманариха. Он посмотрел на мать, вид у той был отрешенный. И это родители, отправляющие дитя в чужую страну на неизвестный срок?
«Они только рады от него избавиться!» – догадался Константин.
– Я не могу лишить тебя столь важной опоры и помощника, благородный Эрманарих, – произнес император. – Со мной поедет Эллак.
Он кивнул в направлении младшего из сыновей короля, который стоял, наполовину спрятавшись за мать, болезненного облика мальчика с короткими ножками, лицом, напоминавшим отца, а глазами точь-в-точь как у королевы.
– Он еще слишком мал… – растерялся Эрманарих.
Мать испугалась и прижала сына к себе. Константин попал в точку: это их любимец. Чахлое дитя, в которое заботы и тепла вложено больше, чем в остальных. Родительская любовь – лучшая скрепа для договора.
– Подрастет, – снисходительно улыбнулся император. – Не тревожься, он ни в чем не будет знать нужды. Уверен, они подружатся с моим младшим сыном. У Эллака будут славные наставники, он многому научится.
Константин говорил все это, чтобы подчеркнуть – он забирает их дитя надолго. Эрманарих должен был сполна расплатиться за свое упорство в недавней битве, а отказать он не мог.
Император римлян и король готов скрепили своими печатями договор, составленный на латыни, а затем выпили по кубку фалернского вина. Перед началом пира Константин объявил, что отпускает всех готов, взятых в плен у берегов Дуная. Эрманарих тут же пообещал сурово наказать их. Пировали «по-варварски», сидя за столами на длинных деревянных скамьях. Душистое вино, пенное пиво и хмельной мед лились рекой. Яства были довольно простыми, дворцовые повара Константина в походе не участвовали, а кулинары готов не могли ничем удивить римлян.
По правую руку от императора сидели его военачальники, по левую Эрманарих со своей семьей и свитой. Поначалу в шатре было тихо. Римляне и готы украдкой бросали друг на друга недоверчивые взгляды, сосредоточенно жевали, переговаривались вполголоса, не обращали внимания на шутов короля, которые сновали между столами, разыгрывая представление.
Но чем больше было выпито, тем сильнее разгоралось веселье. После заката шатер ходил ходуном. Глядя со стороны, уже нельзя было сказать, что пируют недавние враги. Звучали смех, музыка, готы пели, римляне перебрасывались шутками. Только Авл оставался мрачным. Константину вспомнились его слова о равном сражении с варварами. Ему захотелось преподать Эрманариху еще один урок, показать, что они неровня, способом, понятным для германцев. Уловив подходящий момент, он предложил королю готов испытать, кто из них больше выпьет крепкого вина.
Король готов знал, что у него нет шансов, но отказаться было хуже, чем проиграть. Одолеть его оказалось проще, чем Далмация. Когда Эрманарих рухнул со скамьи, Константину захотелось поставить ему ногу на грудь. Вместо этого он наклонился и помог подняться поверженному противнику.
X
Лициний пристально следил, как развивалась кампания Константина против готов. Он понимал, что его шурин хочет обезопасить тыл, перед тем как возобновить междоусобицу. Без императора и полевой армии земли Иллирии были легкой добычей. Но ударить в спину соправителя, который воюет с врагами Империи, ужасное вероломство. Оно бы поставило Лициния на одну ступень с самыми презренными предателями в истории Рима. Поэтому он готовился к войне и ждал.
В те времена было принято превозносить даже самые малые успехи правителей. Все ожидали, что чтецы на форумах будут зачитывать красочные вести о полчищах разгромленных варваров, десятках захваченных городов, короле Эрманарихе, на коленях вымаливающем пощаду. Вместо этого звучали краткие сводки, режущие слух своей сухостью. Император намеренно приуменьшал свои успехи, создавая впечатление, что дела идут плохо.
Люди Лициния перехватили письмо Константина Фаусте. Меж строк сквозило отчаяние. Он писал о серьезных потерях, нехватке провианта, болезнях, тревоге, что вспомогательные войска германцев могут перейти на сторону врага. Император заранее знал, в чьи руки попадет его письмо.
Лициний преисполнился решимости поставить точку в борьбе с Константином, как только потрепанные иллирийские легионы вернутся из-за Дуная. Для этого он собрал две армии. Одна стояла во Фракии под командованием Квинта Агриколы, верного соратника августа Востока в борьбе с христианами. Другая, более многочисленная, расположилась у стен Никомедии, ее Лициний собирался возглавить лично. Своим советникам он поручил подготовить обоснования для будущей войны, чтобы ни у кого не возникло сомнений в справедливости его действий. Но они не понадобились: все случилось иначе.
Пока Лициний готовился к войне, сытые и отдохнувшие легионы Константина шли по землям готов. Заключив мир, император поделился своими дальнейшими замыслами только с главными военачальниками. Всем остальным было объявлено, что армия возвращается домой. Но повели ее другой дорогой. Вместо Паннонии она пришла во Фракию. Пограничные части августа Востока не осмелились ей препятствовать.
Легионы Константина встали лагерем возле границы, возвели частокол, окружили его рвом и земляным валом. Вспомогательной коннице батавов император приказал затаиться поодаль. Вскоре прибыли посланники Квинта Агриколы, потребовавшие разъяснений. Константин велел прогнать их.
– Господину не подобает объясняться перед слугами! – сказал он.
Наслышанный о бедственном положении Западной армии, Агрикола подумал, что это готы вытеснили ее сюда, отрезав остальные пути. А теперь изнуренные легионы отказываются идти дальше. Он решил воспользоваться моментом, разгромить могущественного августа, пресечь междоусобицу и прославиться. Отправив своему господину гонца с вестью, что соправитель предательски вторгся в его земли, военачальник Лициния во главе армии направился к лагерю Константина.
Он потребовал сложить оружие и открыть ворота. Со стен ему ответили: если его солдаты немедленно не отступят, это будет приравнено к объявлению войны. Агрикола попытался с ходу захватить лагерь штурмом, но получил отпор. Тогда он окружил его, намереваясь взять Константина измором: больших запасов провианта у Западной армии быть не могло.
На следующее утро в предрассветном тумане на солдат Агриколы налетела конница батавов. Как только в стане противника начался переполох, легионеры Константина вышли из лагеря и атаковали с другой стороны. Застигнутые врасплох, зажатые в тиски, люди Агриколы не смогли организовать сопротивления. Сам военачальник был ранен стрелой в спину и упал с лошади, под копыта собственной конницы, мчавшейся позади. Всадники даже не попытались остановиться, его растоптали. Казалось, вместе с утренним туманом развеялась и фракийская армия Лициния. Кавалерия Константина до вечера преследовала разбежавшихся солдат, чтобы не дать им снова собраться в отряды.
Довершив разгром, император отправил к Лицинию гонца с сообщением, что тяготы военной кампании вынудили его армию искать убежища в землях родственника и соправителя. Подчеркивая свои мирные намерения, Константин просил позволения дать войскам отдохнуть и набраться сил, прежде чем он уведет их домой.
– Мчись, как ветер! – велел император гонцу. – Ты уже сильно припозднился.
Благодаря этому посланию все начинало выглядеть так, будто междоусобица, к которой оба правителя тщательно готовились, началась из-за недоразумения, а вина ложилась на плечи Агриколы, позволившего себе самоуправство.
Если Лициний вступит в переговоры, Константин потребует у него Фракию вместе с Византием. С такого плацдарма он сможет уничтожить зятя в любой момент.
Узнав о гибели фракийской армии, Лициний начал догадываться об истинном положении дел. И даже обрадовался этому: они сразятся на равных.
Констанция вместе с сыном стояли у высоких двустворчатых дверей, покрытых темным золотом, украшенных драгоценными камнями и фресками, на которых юноша с развевающимся за спиной плащом убивал огромного быка. Одной рукой он держал его за рог, другой вонзал в грудь меч. На его устах играла легкая улыбка. Глаза животного были наполнены яростью, пасть разинута в предсмертной агонии. Над головой юноши парил орел, а еще выше, как бы с небес, за этим наблюдал бородатый мужчина со строгими чертами лица и шипастой, лучистой короной на голове. За дверьми начиналась лестница, ведущая в подземное святилище Митры. Лициний просил у него благословения перед походом против Константина.
Мальчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Констанция хранила спокойствие, но фрески давили на нее. Она отводила от них взгляд и мысленно просила мужа поскорее выйти. Наконец тяжелые двери отворились, из непроглядного мрака появился Лициний с двумя личными слугами.
Он был облачен в парадные доспехи: панцирь из двух покрытых золотом стальных пластин, передняя повторяла форму тела атлета с рельефными мышцами живота и груди. Лицо супруга покрывала маска из засохшей крови жертвенного быка. В руках шлем с высоким пурпурным гребнем, на голове корона, как у мужчины с фрески. Он шагал грузно и устало. Мальчик, не узнав отца, испуганно попятился.
– Трусишка, – печально вздохнул Лициний. – Почувствовав страх, нужно сделать шаг вперед и грудью заслонить близких. Только так можно стать храбрецом.
Он потрепал сына по светлым волосам. Чем взрослее становился Лициний-младший, тем сильнее он походил на мать. Долговязый, остролицый, с бледной, как у большинства Флавиев – Констанциев, кожей. Прежде август досадовал из-за этого, но сейчас ему было так приятно, что на него смотрят две пары столь схожих глаз.
– Гектору пора проститься со своей Андромахой, – произнес Лициний, обращаясь к жене.
Констанции хотелось обнять супруга, но кровь на его лице непреодолимо отталкивала ее. Догадавшись об этом, он сказал:
– Армия стоит у стен, солдаты должны увидеть, что меня благословил Светоносный. Я смогу смыть кровь не раньше, чем мы выступим в поход.
– Пусть боги, перед которыми ты преклоняешься, пребудут с тобой, их самым достойным слугой! – прошептала Констанция. – Я буду молиться Господу о твоем скором возвращении… с победой.
Последние слова дались ей с трудом, но она чувствовала, что должна их сказать. Лициний снял корону, отдал ее одному из слуг и водрузил на голову шлем.
– Твой брат сделал мне самый дорогой подарок в жизни. Я всегда буду благодарен ему за это. – Он улыбнулся супруге. – Когда все закончится, я буду милостив к нему и его детям. Не грусти, мы с Константином чужие друг другу, а наши дети уже кузены между собой. Чтобы им не пришлось лить братскую кровь, мы прольем чужую! Это наш долг, так должно быть!
– Глупые мальчишеские игры… – не сдержалась Констанция, ее взгляд был полон горечи.
– В таком случае весь мир принадлежит мальчишкам. – Лициний подмигнул сыну.
Мальчик подошел и обнял отца.
– Я долго откладывал твое посвящение; когда вернусь, ты станешь митрийцем, – сказал ему Лициний.
Он мягко высвободился из объятий, подошел к супруге и шепнул ей на ухо:
– А если я потерплю поражение, покрести нашего сына. Пусть тогда Христос хранит его.
Солдаты возликовали, когда из ворот Никомедии выехал их император, благословленный самим Митрой Светоносным. Армия Востока выступила в поход.
XI
Крисп прибыл в Фессалоники незадолго до того, как началось вторжение готов из-за Дуная. Он чувствовал общее волнение, но сам был спокоен, зная: что бы ни случилось, отец даст варварам отпор. Портовую гавань города по приказу Константина расширили, насколько это было возможно. Но она все равно не могла вместить весь военный флот. Часть кораблей стояла на приколе, другая в доках, а третью просто вытащили на сушу.
Подъезжая к порту, Крисп не увидел на горизонте леса из мачт. Их сняли и сложили вдоль палуб. Римские моряки всегда так делали, вставая на продолжительную стоянку. Издали сыну императора корабли казались похожими на деревянные островки. Основу флота составляли триеры. Спустившись, Крисп внимательно рассмотрел одну из них, стоявшую близко к берегу.
Вид у судна был внушительный. Три ряда весел, расположенных в шахматном порядке друг над другом, словно лапки чудовищной многоножки, тянулись к воде. Спереди, чуть ниже ватерлинии, находился железный таран из трех мощных зубцов, каждый в виде орлиного клюва. Корпус охватывали четыре продольных канатных пояса. Нос изгибался в виде плавника, рядом с ним была установлена вспомогательная мачта со спущенным парусом. На скулах корабля сверкали глаза, мистический символ защиты от проклятий и порчи, белые, с ярко-голубой радужкой и черными зрачками. Пять из шести якорей сбросили в воду. Шестой, самый главный, в виде львиной лапы с когтями, висел, подвешенный на балке, немного выдававшейся за пределы корпуса.
Последний раз Крисп видел военные корабли еще в детстве. Триера произвела на него впечатление. Он вздохнул, понимая, что не может даже представить, каково это – командовать одним таким судном, не говоря о целом флоте. За триерой стояло несколько либурн – кораблей поменьше, пониже и всего с одним рядом весел. Их Крисп не стал разглядывать, направился дальше, к Сеннису Флору. Тот расположился в доме смотрителя порта. Это был маленький каменный особняк рядом с доками. Смотритель с семьей съехал, полностью предоставив свое жилище высокопоставленному военачальнику.
Несмотря на скромные размеры, дом показался Криспу пустым, сохранившим лишь следы былого уюта. Сеннис Флор вышел встретить юношу в начищенных до блеска доспехах. Он был гладко выбрит, редкие седые волосы тщательно причесаны. От него исходил приторный аромат благовоний, с которыми прислуга явно переборщила. Лицо было опухшим. Под красными глазами залегли мешки. Сеннис говорил неохотно и с трудом.
– Я готов передать флот под твое командование, благороднейший Крисп, как мне приказал Божественный Константин, – сказал он после положенных приветствий.
В руках у него был свиток, видимо с распоряжением императора.
– Я приехал учиться, а не командовать, – улыбнулся Крисп. – Какой из меня флотоводец. Отец хочет, чтобы я стал твоим помощником и учеником. Корабли останутся в твоем подчинении, высокородный Сеннис.
– Я уже приготовился освободить для тебя дом, – пробормотал тот.
В его взгляде читалось напряжение. Поначалу Крисп решил, что Сеннис не хочет уступать командование. Но потом догадался: у старика похмелье.
– Мне не нужен целый дом, хватит и нескольких гостевых комнат. Я устал с дороги да в горле пересохло. Прошу, вели подать еды и вина.
Они разделили трапезу. Осушив несколько кубков, Сеннис почувствовал себя лучше. Он рассказал, что во вверенном ему флоте около сотни триер и двухсот либурн. Его люди уже давно без дела. Фессалоники – солнечный портовый город, в котором много выпивки и женщин. Сеннис старается держать их в узде, но кораблей слишком много, чтобы найти для всех дело.
– Ничто так не распускает, как скука, – подытожил он. – В прибрежных водах тесно от патрулей. Да и они давно поняли, что охранять им, по сути, нечего. Окрестные пираты не смеют даже носа высунуть. А выходить в открытое море опасно и глупо: можно потерять корабли.
– А если придет приказ выступать? – спросил Крисп. – Флот же не готов!
– Тогда я устрою всем знатную взбучку. Они у меня встряхнутся. – Старик сжал кулак. – Часто и без повода так делать нельзя, иначе последний страх пропадет. Но не беспокойся, – спохватился Сеннис, – любой приказ Божественного Константина будет выполнен! Я не подведу его.
– Но вы не отплывете сразу и потеряете время, – заметил Крисп.
– Флот не легион, он не может с ходу сорваться с места, особенно после нескольких лет простоя, – пожал плечами старик. – Если на море шторм или нет попутного ветра, всегда приходится ждать. Фессалоники не подходят, чтобы держать в них столько кораблей. Но лучших баз поблизости нет. А Равенна слишком далеко, оттуда никуда не успеть.
Крисп чувствовал, что Сеннис чересчур расслаблен. Вино и бездействие повлияли на него. Ему не верилось, что война между соправителями может скоро возобновиться. У Константина проблемы с готами, а Лициний уже давно не проявлял враждебности. Крисп понимал: нужно это исправить, но брать все в свои руки он был не готов.
После трапезы они направились в порт.
– На триере сто семьдесят гребцов, – рассказывал Сеннис. – У каждого борта двадцать семь весел верхнего ряда, столько же среднего и тридцать одно нижнего.
Командовал судном триерарх. В экипаже, кроме гребцов, были кормчий – гортатор, который задавал ритм гребле, отбивая такт на барабане, прорат, сидевший на носу и указывавший курс, а также плотник, лекарь, сорок солдат корабельной пехоты, канатных и вёсельных дел мастера. Всего около двух с половиной сотен человек. Кроме таранов, триеры были вооружены онаграми и небольшими скорпионами, которые обслуживали солдаты.
– При абордаже гребцы тоже могут драться, у них под банками, на которых сидят, есть кинжалы и щиты, – продолжал старик. – На либурне экипажа в три раза меньше.
Каждое судно казалось не просто боевой единицей, а отдельным живым существом. Ни одного раба среди экипажа не было, во флоте служили только свободные люди, получавшие жалованье.
Сеннис с Криспом прошлись вдоль берега, осмотрели корабли, вытащенные на сушу, зашли в доки и казармы. Нарушений сын императора не замечал. Но в каждом движении большинства матросов, солдат и рабочих ощущалась лень. Сеннис предложил Криспу вернуться в дом и отдохнуть.
– Мы еще не все осмотрели, – ответил тот. – Позволь теперь я нас поведу.
Он стал задавать направление, старик еле поспевал за ним. Они заглянули в каждое строение, имевшее отношение к флоту: в арсенал, амбары, склады с материалами, снаряжением и провиантом. Крисп постоянно о чем-то спрашивал у Сенниса и людей, которые им встречались: о рационе моряков, состоянии оружия, качестве досок и канатов. Они вернулись в особняк уже затемно. Старик так выбился из сил, что сразу отправился спать. Крисп вызвал к себе смотрителя дома.
– Много ли вина в погребе? – спросил он.
– Пять бочонков, благороднейший, – ответил смотритель.
– Распорядись наполнить один кувшин. Затем запри погреб и ключи от него отдай мне, – приказал Крисп.
Утром, впервые за долгое время проснувшись с трезвой головой, Сеннис стал догадываться, что едва ли сын императора приехал лишь для обучения. Отказавшись от завтрака, он решил немедленно заняться флотом. Как и обещал, старик заставил своих людей встряхнуться. Порт Фессалоников ожил. Корабли вытаскивали на берег, отскабливали днища от наросших водорослей и налипших ракушек. Разводили костры, на которых варили смолу, распространяя удушливый запах.
Солдаты и гребцы сновали всюду, словно муравьи. Сеннис покрикивал на них, его угрюмое лицо было багровым от раздражения, глаза слезились от паров смолы. Поначалу Крисп ходил следом за ним, только наблюдая за происходящим. Однако, вспомнив слова отца, что необходимо вникать в каждую мелочь, решил поработать вместе со всеми.
– Нет такого умения, которое было бы лишним, – ответил он на изумление Сенниса.
Скоблить и смолить было утомительно, от едкого запаха першило в горле. Но постепенно Крисп втянулся. Он подмечал, как работают гребцы, перенимая их движения, перебрасывался с ними шутками, говорил о жизни и службе. Работа растянулась на недели. Оснастку всех кораблей тщательно проверили, заменили подгнившие и протертые тросы, залатали прорехи на парусах.
Сын императора трудился вместе со всеми, не требуя никаких поблажек, чем заслужил уважение среди солдат и гребцов. Вечерами Крисп и Сеннис Флор сидели на балконе особняка с видом на море, пили вино. Старик рассказывал о флоте, навигации, морских сражениях, плавно переходя от науки к байкам и историям из своей службы.
– Финикийцы, греки, карфагеняне были прирожденные мореплаватели, а Рим основали пастухи, – говорил Сеннис. – Но сейчас все их воды принадлежат нам, потому что римляне всегда умели учиться, особенно на своих поражениях. – Он делал глоток и продолжил: – Вот карфагеняне у Эгатских островов думали снова нас превзойти. Как всегда, маневрировали, хитрили, вклинивались в наш строй. Окружат одно наше судно двумя своими, ликуют, бросаются на абордаж. А мы число корабельной пехоты увеличили настолько, что ее стало больше, чем на двух их судах вместе взятых. Так еще и гребцы оружие достали. Прием простой, зато какой эффективный! В тот день мы выиграли все схватки и разгромили карфагенян.
– Это сражение было столетие назад, – напомнил Крисп. – А ты рассказываешь так, словно участвовал в нем.
– Мне обо всем поведал отец, ему дед, а тому прадед… Мой род веками служит Риму. Та битва – наша победа.
Крисп старался не давать старику напиваться. Когда он чувствовал, что Сеннису уже хватит, то начинал жаловаться на головокружение, просил унести вино и подать свежий виноградный сок. Крисп выматывал и без того уставшего за хлопотный день старика разговорами, пока тот не начинал клевать носом, что-то бормоча заплетающимся языком. Тогда он желал Сеннису доброй ночи и звал слуг.
– Как бы он ни просил, не подавать ничего крепче воды или сока, – шепотом приказывал им Крисп. – От его гнева я вас защищу, а от моего вас ничто не спасет!
После того как корабли привели в порядок, начались учения. Крисп ходил в море на либурне, сев за весло. Жители Фессалоников толпами высыпали посмотреть, как гребет сын императора.
– Вон Крисп! Вон! – кричал тоненьким голоском мальчик, сидевший у отца на закорках. – Крисп! Крисп! – Он махал ручкой светловолосому гребцу на проплывавшем недалеко от берега корабле.
– Нет, сын Константина там! – возражала ему стоявшая впереди женщина, указывая на уходящую за горизонт либурну.
– Корабль с Криспом еще из порта не вышел, – доносился старческий голос из середины толпы.
Многие из этих людей будут рассказывать своим детям и внукам, что однажды они собственными глазами видели сына императора, орудующего веслом, поприветствовали его, а он помахал им в ответ.
Крисп даже представить себе не мог, насколько трудно быть гребцом. Он быстро выдохся, постоянно сбивался с ритма, несмотря на бой барабана, и вскоре сильно пожалел о своей затее. Экипаж, который поначалу ему очень обрадовался, досадовал, что сын императора не выбрал себе роль полегче.
«Лучше бы сел на носу и смотрел на воду», – вздыхал капитан либурны, глядя на него.
Руки у Криспа отваливались, но гордость не позволяла отступиться. Сын императора скорее бы умер, чем опозорился на глазах у всех. Чтобы не дать отчаянию взять верх, он прикрыл веки и попытался найти силы внутри себя. Губы сами собой стали нашептывать молитву. Ее слова вдруг вошли в такт с ударами барабана. Крисп перестал сбиваться с ритма. Ему по-прежнему было очень тяжело, но появилась уверенность, что он сумеет выдержать, и это отогнало подступавшее уныние.
Сойдя на берег, сын императора пообещал себе больше никогда не браться за весло. А на следующее утро, несмотря на боль во всем теле, снова взошел на борт либурны и сел на банку. Так Крисп поступал изо дня в день, пока не встал на один уровень с остальными гребцами. Он обгорел на солнце, кожа пропиталась морской солью, мускулы налились и приобрели четкий рельеф. Крисп чувствовал себя сильным, как никогда. Держался сын императора на либурне так просто, что ее капитан осмелился в шутку выдать ему жалованье гребца за месяц. В ответ Крисп позвал весь экипаж в местную таверну, где угостил пивом, жареной рыбой и отваренной в меду говядиной. Они устроили небольшой пир.
Затем Крисп попробовал себя в роли одного из двух рулевых на триере. Он смог прочувствовать, каково это – направлять корабль. Отрабатывая сложные маневры, вроде быстрого разворота, сын императора позволял старшему помощнику триерарха в запале грубо бранить себя. После учений, весь бледный от осознания того, что натворил, старший помощник попытался извиниться перед ним. Это был старый сутулый седой моряк, его руки напоминали крабьи клешни.
– Тебе ничего не грозит, – успокоил его Крисп. – В тот момент я это заслужил. Ты верно исполнял свой долг.
Сын императора поучаствовал и в тренировках корабельной пехоты, давшихся ему намного проще. Ее учили сражаться, держать строй и маршировать так же, как обыкновенных легионеров. Но были и особые приемы, которые освоил Крисп: как бросать абордажный крюк, перебегать с борта одного корабля на другой по доскам или взбираться на него по веревкам, оборонять свою палубу от атак и тушить пожары.
За год, проведенный в Фессалониках, он узнал о флоте все, что мог, слушая других и пробуя своими руками. Это было интересное время.
Когда собирался шторм, небо затягивало хмурыми косматыми тучами, по морю гуляла тяжелая рябь, люди прятались кто куда. Старик Сеннис становился мрачнее и ворчливей обычного, а Криспа охватывало радостное томление. Он выходил на балкон особняка и любовался буйством природы. Выл шквалистый ветер, острые капли дождя кололи руки и лицо, молнии сверкали на горизонте, пронзая бушующее море, раскаты грома доносились с небес. Стена темной воды с шипением разбивалась о волнорезы, вздымая белую пену. Крисп хватался за поручень, чтобы тверже стоять на ногах. Сердце трепетало. Он дышал полной грудью, и на душе было страшно… и так хорошо.
– Вот Ты где, Господи! – шептал Крисп. – Вот Ты где!
XII
Шли месяцы, а приказ об атаке на Византий так и не поступал. Когда до Фессалоников стали доходить тревожные вести о трудном течении готской кампании, Крисп засомневался, понадобится ли флот вообще. Если дела так плохи, как говорят, то отец, скорее всего, вернется в Сирмий и отложит войну с Лицинием до лучших времен.
«Неужели старик прав?» – удивлялся Крисп, вспоминая слова Сенниса Флора.
Солнечная, беззаботная атмосфера Фессалоников начинала действовать и на него. С каждым днем все сильнее тянуло расслабиться, понежиться на пляже, искупаться в море, перестать постоянно во все вникать, искать себе работу и нагрузки.
«Еще немного, и я сдамся», – с некоторой досадой подумал как-то Крисп, глядя на закат и потягивая вино под неторопливые рассказы Сенниса о былых временах.
Но в ту же ночь его разбудил робкий стук в двери спальни. Это был смотритель дома, который хотел доложить о прибытии гонца со срочным посланием. Крисп обо всем догадался еще до того, как отогнал сон. «Наконец-то», – промелькнула в голове мысль. В письме от Константина оказалось всего три строчки:
«Отплывайте как можно скорее! Цель тебе известна. Ваш успех – ключ к скорому миру. Да пребудет с вами Господь!»
Флотом Лициния командовал Гай Абант, опытный моряк из простолюдинов. Когда-то он служил под началом Сенниса Флора. Его корабли стояли у Геллеспонта.
– У Абанта больше судов, поэтому поведет он их, скорее всего, полумесяцем, чтобы взять нас в кольцо, – рассуждал Сеннис. – Я бы точно так поступил. Самые мощные корабли – на флангах, чтобы давить, а в середине строя заслон из судов полегче. Их задача – только сдерживать нас. В ответ мы тоже пойдем полумесяцем, но выгнутым, с ударной силой в центре, чтобы прорваться.
Узнав утром, что необходимо выступать на Византий, Крисп глубоко вздохнул, но возражать не стал.
– А если мы увязнем? – спросил Крисп. – Нас же раздавят.
– Это очень опасно, – согласился Сеннис. – Но иначе нельзя при атаке на превосходящего противника. Построившись в линии, мы будем менее уязвимы, но и шансов преуспеть станет в разы меньше. Я стар, мне нечего терять. Но разве тебе, благороднейший, стоит так собой рисковать?
– Что ты хочешь сказать?
– Неожиданная хворь может помешать тебе выйти в море, и ты останешься в Фессалониках, выздоравливать…
– Я прекрасно себя чувствую! – прервал его Крисп. – Ничего со мной не случится. А ты хоть и вправду немолод, но старостью своей еще не насладился в окружении роскоши и прекрасных рабынь. Она ждет тебя после победы, поэтому не вздумай погибать!
Они улыбнулись друг другу.
– Я уже приказал начать погрузку. Но она займет пару дней, если не больше, – сказал Сеннис. – Нужно поднять много снаряжения и провианта, а пирсов не хватает.
– Значит, мы успеем нанести на корабли хризму, – произнес Крисп. – На паруса и корпус. Чтобы Господь хранил нас.
Старик помрачнел:
– Нептун капризен, он может разгневаться. А моряки крайне суеверны. Любая неудача или дурное предзнаменование – и они падут духом. Тогда мы обречены!
– Скажи им, что мы не отвергаем бога морей, а призываем в помощь Бога Всевышнего, Именем Которого мой отец сокрушил всех своих врагов.
– Это было на суше, – возразил Сеннис.
– Господь Вездесущ! Он в ветре, молниях и волнах. Вероятно, во всей Империи не найдется человека, который больше тебя знает о кораблях, высокородный Сеннис, но много ли ты понимаешь в богах?
– Я знаю, что их нельзя гневить!
– Тогда задобри Нептуна щедрыми подношениями, раз так беспокоишься из-за него. Ты говоришь, наши моряки могут пасть духом, а представь, как затрепещет враг, увидев хризму. Не важно, на чью сторону встанет бог морей, если нас будет оберегать Сам Господь!
– Мне бы твою уверенность, благороднейший Крисп.
– Тогда стань христианином. Когда истинно верующий идет в засуху молиться о дожде, он берет с собой непромокаемую накидку.
– Зачем?
– Чтобы не простудиться на обратном пути. Ты сам признал, что тебе нечего терять, а представь, как много можно приобрести.
– А если мы все погибнем, то попадем в христианский Рай?
– Возможно, – пожал плечами Крисп.
Гай Абант удивился, когда ему доложили, что флот Константина покинул Фессалоники и движется к Мраморному морю. Он думал, Сеннис Флор будет скорее обороняться, чем атаковать. Решив, что раз дичь сама рвется в ловушку, то не стоит ей мешать. Абант приготовился встречать противника.
Утро выдалось ветреным, но облака плыли светлые, легкие, не предвещавшие ненастья. Моряки и солдаты Абанта вповалку спали на палубах, набираясь сил перед скорым сражением. Белокрылые чайки кружили над мачтами. Силуэт молодого месяца из бледного серебра таял, словно кусочек небесного льда. Колышущаяся водная гладь казалась зеленоватой. Линия горизонта на востоке едва заметно розовела.
Из тумана, мерно раскачиваясь на волнах, плавно показались корабли с хризмой на парусах. Дозорные сперва приняли их за мираж. Это были либурны, шедшие под парусами, с убранными веслами. Забили тревогу.