Под парусом сквозь века. Век XIX
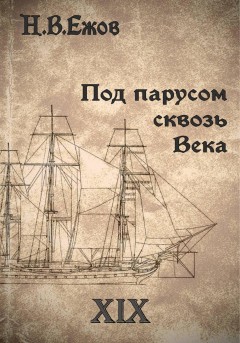
Название: Под парусом сквозь века. Век XIX.
Автор: Ежов Никита Владимирович
Предисловие
На начало XIX века человечество давно прониклось идеей, что моря не преграды, а дороги.
Парусный флот к XIX столетию достиг своего апогея. Развивались технологии и науки. Появлялись новые виды орудий и новые способы строительства кораблей. Развивались теория парусного судна и навигация.Естественно, всякие крупные державы демонстративно звенели шарами, мерялись у кого длиннее ствол и прочими способами использовали ядра и пушки. Короли и императоры как малые дети спорили чей папка круче, заменив папку на флот. Само собой, был и самый «борзый на районе», считавший, что море принадлежит исключительно ему.Море тоже стало полем боя и местом великих сражений. На море, как и на суше, были свои герои и злодеи, подвиги, победы и поражения. Морские сражения отличаются от наземных тем, что их сложно раскопать и осмотреть археологические находки. Выжившие из побеждённых чаще всего оказываются в плену, а победители рассказывают, какие они молодцы, нагибаторы, побеждаторы и так далее. Большую часть морских сражений можно разобрать лишь по записям очевидцев – а в те времена далеко не все из них знали грамоту. И уж тем более, знающие грамоту не всегда описывали каждое попадание ядра – как правило, это были суровые морские вояки, а не Форрестеры, О’Брайаны или Айвазовские. Лишние, по их мнению, детали они упоминали редко, оставляя потомкам кучи вопросов.Так, к примеру, известно – во время боя брига «Меркурий» с двумя турецкими линкорами из кормовых орудий были сбиты ватер-штаг и бейфут на линкоре «Селимие». Один довольно крутой автор задавался вопросом – как смогли одним ядром перебить две верёвки, находящиеся в разных местах на судне? Если не изучить строение парусника, то это действительно кажется странным – ядро не футбольный мяч, «кручёный» не запустишь. А если изучить строение, да прикинуть, где эти верёвки могут пересекаться, сразу становится понятно – ядро угодило в кофель-нагель-балку. Небольшую деревяху, к которой крепятся деревянные жерди с намотанным на них такелажем (растяжками). И сломав эту черт-ее-выговоришь-балку вполне можно добиться описанного результата.В любом случае, я стараюсь не упарываться в интеллектуальный снобизм и семиярусную морскую терминологию – эта книга для тех, кто хочет почитать об истории, а не о разнице между бакштагом и фор-брам-стеньгой.XIX век стал апогеем и концом парусного военного флота. Развитие технологий, о котором я уже говорил, привело к появлению нового типа судна – парохода. Суда с вспомогательной паровой установкой сначала вытеснили парусники, а после и сами ушли в небытие, уступив место первым кораблям без парусов.
В этой части цикла речь пойдёт именно о тех, кто отличился в последнем веке Эпохи Паруса. Эпохи, когда человек считал себя владыкой двух стихий, и парусный флот был грозной силой.
Из борделя в пиратские королевы. История Вдовы Чжэн.
Когда я впервые наткнулся на информацию об этой женщине, я хотел написать короткий пост о долгом пути от проститутки до бордель-маман через руководство пиратской армадой. Но, повозившись в источниках, я понял – эта история куда глубже и интереснее.
Проститутка из народа Танка
На берегу Южно-Китайского моря обитает такой народ, как даньцзя, более известные как танка. Правда, на берегу они обитают в наше время, а в конце XVIII – начале XIX веков этому народу было запрещено селиться на берегу. Так же «людям в лодках» было запрещено вступать в браки с другими местными народами – кантонцами, хакка и прочими.Что бы понимать отношение власти к танка в то время, достаточно понять, что китайцы (хань, если точнее), считали предками этого народа и диких зверей, и морских змеев, и даже мифических Лу Тин – полулюдей-полурыб. Этакие китайские недолюди.Народ танка жил бедно. Очень бедно. «Люди в лодках» промышляли рыболовством, перевозками и пиратством. Их женщины… Что бы понять, насколько среди женщин танка была распространена проституция, достаточно знать о том, что при подсчёте проституток в Китае всех женщин этого народа автоматически записывали в представительниц «древнейшей профессии». Женщины хань презрительно называли женщин танка «девочками солёной воды».Плавучие бордели танку были довольно популярным местом не только у местного населения, но и у заезжих европейцев. Женщины хань в большинстве своём отказывались спать с приезжими, и плавучие бордели танку были вне конкуренции. О любовных историях между португальцами и танка написано даже несколько произведений, а смешанное азиатско-европейское население Макао пости полностью является потомками танка.Героиня нашего рассказа родилась около 1775 года, в провинции Гуандун Империи Цин. При рождении она получила имя Ши Сянгу. Мало того, что девочка была из бедной семьи – её угораздило родиться одной из недолюдей-танку.Так как девочка была довольно красива, а семья небогата – то от лишнего рта её родители избавились довольно традиционным способом – продав в плавучий бордель.В Китае проституция была вполне нормальным явлением, прочно влившимся в культуру и быт. Порицание со стороны населения не наблюдалось, скрепы не досаждали. Периодически проституцию пытались запретить, вводили всяческие меры и грозили пальчиком – но в основном лишь для вида. Очередное последнее китайское предупреждение и запрет ввели в 1723 году. Это означало лишь повышение взяток местной полиции и чинушам, но бордели стояли незыблемо, как Великая Стена. Плавучие бордели народа даньцзя вообще были труднодосягаемы для властей. И в одном из них в 1801 году трудилась Ши Сянгу, на тот момент уже двадцати шести лет отроду.Для китайской проститутки тех годов это был уже довольно почтенный возраст, и столь великовозрастная рядовая труженица была бы уже неходовым товаром, так что скорее всего Ши Ян была «сводницей», то есть как минимум управляющей плавучим борделем, максимум – хозяйкой нескольких плавучих домов удовольствия.
Муж номер один.
В 1801 году один из самых авторитетных пиратов Южно-Китайского моря, Чжэн И, внезапно прибыл в бордель к Ши Сянгу и женился на ней. Что ещё внезапнее для патриархального востока, в котором женщина была почти вещью мужчины, они составили контракт. Ши Сянгу по этому контракту получала половину контроля, имущества и доли с дохода «предприятия» Чжэн И.Любители романтики сказали бы, что пират влюбился в проститутку, и сделал ей офигенный свадебный подарок. Может, даже похитил её. Придётся взять молоток логики и расколотить розовые очки.Начнём с Чжэн И.Этот неоднозначный человек происходил из семьи Чжэн, уже более полутора веков занимающимся прибыльным пиратским делом в Южно-Китайском море. С 1788 года в составе флота своего двоюродного брата, Чжэн Ци, служил в качестве наёмника во флоте вьетнамской династии Тай Сон. К 1801 году был одним из заместителей своего родственника, возможно – вторым человеком во флоте.О романтике и сентиментальности Чжэн И можно судить по поступку 1798 года, когда бравый пират похитил пятнадцатилетнего парня Чунг По (кстати тоже из народа танка) и «усыновил» его. По мнению многих историков – слишком уж мальчик понравился пирату (порицаем). Деваться молодому Чунг По было некуда, и он быстро набрался опыта в ремесле «любящего папочки».Что касается нашей героини, Ши Сянгу, то двадцатишестилетняя жрица любви тоже была непроста. Используя мужские слабости, она или ее девочки в моменты «интимных разговоров» после оказания услуг добывали информацию у довольных клиентов. Этой информацией Ши Сянгу умело торговала, пополняя свои карманы и помогая всё тем же пиратам.В какой момент об этом «Варисе в юбке» стало известно Чжэн И, неизвестно, как и то, сколько лет они были знакомы до брака. Но брак был именно сделкой – информация от Ши Сянгу и флот Чжэн И.Династия Тай Сон пала, и пираты остались без работы. Новый правитель Вьетнама не стал сотрудничать с бывшими противниками, и в сентябре 1802 года Чжэн Ци, начальник и двоюродный брат Чжэн И, был взят в плен и казнён. Обезглавленная пиратская братия вернулась в Гуандун, и устроила кровавую бойню за власть и территории.Пиратские междоусобицы длились до 1805 года. В тот год до пиратов допёрло, что пока они режут друг друга, китайский и вьетнамские флота потихоньку их уничтожают. Семь пиратских лидеров объединились в пиратскую конфедерацию. На тот момент флот Чжэн И был сильнейшим флотом в регионе, и, само собой, муж нашей героини был выбран лидером союза. Немалую роль в организации союза сыграла Ши Сянгу, которую на тот момент знали уже как Чжэн И Сяо, «Жену Чжэн И». Базой для пиратского союза стал остров Лантау.В 1806 году пиратская конфедерация уже собирала дань со всех кораблей в Южно-Китайском море. Чунг По, усыновлённый Чжэн И, стал его полноправным наследником не смотря на то, что Чжэн И Сао (наша героиня) к тому моменту родила пирату уже двоих детей. В принципе, данное решение скорее всего было совместным.В ноябре 1807 года Чжэн И, лидер пиратского союза и глава «Флота под красным флагом», внезапно упал за борт. И утонул.
Пиратская Королева и муж номер два
Все члены пиратской семейки Чжэн, а так же оставшиеся пять флотов пиратов (один из флотов уже был уничтожен), присягнули на верность пасынку-любовнику Чжэна И, который поспешно и «внезапно» женился на нашей героине. В память о «любимом» муже и для закрепления авторитета бывшая Ши Сянгу, она же Чжэн И Сяо стала зваться Чжэн Ши – «Госпожа/Вдова Чжэн».Фактически, Чунг По стал заместителем Чжэн Ши. Но юридически, в патриархальном Китае тех лет, именно он представлял власть, да и наследование второй половины «бизнеса» более не вызывало вопросов. Первая половина и так была в руках Ши Сянгу. Бывшая проститутка возглавила пиратскую конфедерацию, а её бывший приёмный сын, по совместительству муж, возглавил флот «приёмного отца».Под руководством этой парочки пираты Гуандуна быстро набирали обороты. Они составили свод правил, неподчинение которому жестко каралось членовредительством или казнью. Авторство строк из «кодекса» до сих пор не установлено – разные исследователи приписывают их то одному, то другому супругу. Жесткая дисциплина, взаимная поддержка и общий враг сплотили южно-китайских пиратов в довольно мощную организацию.Пиратская конфедерация Гуандуна причиняла огромные неудобства в Южно-Китайском море. Ост-Индская компания и Португалия теряли корабли и товары. В сентябре 1808 года Чунг По заманил в засаду и уничтожил китайскую флотилию из тридцати пяти кораблей около острова Мажоу, а спустя месяц разбил ещё одну китайскую флотилию около острова Вэйюань. Почти уничтожив императорский флот в регионе, пираты получили доступ к Жемчужной Реке, Макао и всему побережью Гуандуна.В марте 1809 года флот пиратского союза разгромил китайский флот из ста кораблей около острова Даваньшань. Небольшая группа пиратов была атакована флотом командующего провинцией, Сунь Цюаньмоу. В той битве героиня нашего рассказа командовала основными силами, а её пасынок/муж Чунг По руководил окружением правительственного флота.Были и серьёзные поражения. В июле того же года китайский флот ценой больших потерь уничтожил один из флотов пиратского союза, Флот Белого Флага.Месть не заставила себя ждать – в августе пираты разоряют побережье Гуандуна. Чунг По во главе Флота Красного флага движется около Дунгуаня, Го Подай со своим Флотом Черного Флага разоряет окрестности Шунде, а Чжэн Ши (наша героиня) с личной флотилией потрошит побережье около Синьхуэня. В конце сентября вся разбойничья армада, около пятиста кораблей, собирается под руководством пиратской королевы и грабят поселения в дельте Жемчужной реки, иногда поднимаясь вверх по течению.Командующий провинцией, Сунь Цюаньмоу, тот самый, что огреб в марте и потерял сотню кораблей, решил взять реванш. К октябрю он снова собрал флот, и снова феерически огреб от Чунг По.В том же 1809 году Ост-Индская компания начинает «брачные танцы» с пиратами Гуандунской конфедерации. Долгие обмены подарками и любезностями привели к тому, что пираты пообещали не трогать британские корабли. И неожиданно получили довольно качественное европейское оружие в неплохих количествах. Фактически, Ост-Индская компания стала единственной организацией, чьи корабли беспрепятственно ходили по кишащим пиратами морю.
Пасть Тигра
В общем, к концу октября пираты окончательно довели императора. Понимая, что справиться с офигевшими в край пиратами своими силами не получается, китайский император обратился за помощью к «чужеземным варварам» – португальцам. И те ожидаемо согласились.Одним из кораблей, неудачно повстречавшихся с пиратами, оказался бриг португальского губернатора. Да и Макао, которому изрядно досаждали всякие там цветные флаги, был португальской колонией. Одно дело, когда ты спишь с женщиной из народа танка. Другое дело, когда эта женщина спит тебя и вертит всю твою торговлю на несуществующим бушприте джонки.В ноябре 1809 года Чжэн И Сяо отвела свои корабли из дельты Жемчужной Реки, и поставила их на ремонт. Возможно, это была дерзкая попытка спровоцировать противника – тут же на пиратскую королеву выдвинулись несколько португальских кораблей. Тем не менее, португальцы были отогнаны подошедшим на помощь Чунг По, который присоединился к «ремонту» в заливе Тунчанг.8 ноября шесть португальских кораблей блокировали Чунг По и Чжэн И Сяо в заливе. Го Подай лидер Черного Флага, отказался помогать заблокированным супругам.20го ноября к блокаде присоединились 93 корабля из флота провинции. Командовал ими тот самый Сунь Цюаньмоу, которому надо было отчитаться перед императором о чем-то, кроме потерянных кораблей.Несколько раз счастливые супруги пытались прорвать блокаду, но ветер не благоприятствовал.Маленькую победу героине всё же удалось одержать – пираты захватили один из имперских кораблей и вырезали команду.И тут наступило 28 ноября. Гений военной мысли, Сунь Цюаньмоу, решил спалить пиратов к чертям и переоборудовал сорок три своих корабля в брандеры. Спустив полыхающие суда по ветру, в сторону пиратов, он ожидал скорой развязки.Пираты, тем временем, спокойно отбуксировали медленно горящие корабли к берегу, потушили их и разломали на дрова. Но несколько брандеров всё же не сгорели напрасно – внезапно ветер переменился, и их отнесло в сторону китайского флота. Сгорели два корабля военного гения Сунь Цюаньмоу, а Чжэн И Сяо и Чунг По, воспользовавшись сменившимся ветром, прорвали блокаду, не потеряв ни одного корабля.
Закат пиратской конфедерации
Цинское правительство понимало, что потеряв флот они не смогут уничтожить пиратскую угрозу, и потеряют своё влияние на море. Море, в котором слишком много португальцев и британцев. Многие пираты тоже понимали, что старость не за горами.В декабре 1809 года в бою между правительственным флотом и Красным Флагом Чунг По наткнулся на корабли Черного флага, которые атаковали бывших союзников.В январе Го Подай, лидер Флота Черного Флага, сдался властям. Ну, не совсем сдался – он продал себя и свой флот за помилование и чин лейтенанта военного флота.Пираты польстились на обещание покоя с награбленным. Многие отворачивались от Чжэн И Сяо – в том числе из-за ее принципов и управления. Да и британцы внезапно отвернулись от ставших неудобными «союзников», которых они накачивали оружием.В феврале 1810 года сорвались первые переговоры о перемирии. Тем временем правительство Китая перекрывало пиратам снабжение. Все больше пиратов сдавались в обмен на помилование, и в апреле 1810 года Чжэн И Сяо прибыла на переговоры с Чжанг Байлинг, губернатором Гуандуна. Все пираты были помилованы. Гуандун получил 280 кораблей и 2000 орудий. Более 18000 пиратов были помилованы.
Дальнейшая судьба
Чунг По стал офицером военно-морского флота. Их брак с Чжэн И Сяю был официально признан вопреки закону – женщине не разрешалось выходить замуж повторно, даже если она была вдовой. В 1813 году у бывших пиратов родился сын, позже – дочь. Остаток жизни Чунг По посвятил борьбе с пиратами – видимо, не простив тем предательство 1809-1810 годов. В 1822 году Чунг По Цай погиб в море, в возрасте 39 лет.Чжэн И Сао, бывшая пиратская королева, после смерти мужа осела в Макао. Она занялась торговлей солью – в этом хорошо помогли оставленные в их с мужем пользование бывшие пиратские корабли. И постоянный доступ к информации.А ещё она открыла игорный дом. С девочками.Умерла бывшая пиратская королева в 1844 году, в возрасте 69 лет, в кругу семьи и друзей.
История Ши Сянгу, она же Джен Ши, она же Чжен И Сао дошла до нас, в первую очередь, благодаря произведению «Цзин хай фэнь цзи» (не уверен, что пробелы стоят верно, возможно – «Цзинхай фэньцзи» или ещё как-то так). Дословно сейчас это название интернет-переводчики обозначают как «Атмосфера Цзинхая», но правильнее будет «Ароматы Цзинхая». Эту «книгу в двух томах» написал Юань Юн Лун, и впервые она была издана в 1830 году, ещё при жизни Чжен Ши. Спустя год её перевели и переиздали в Лондоне, под названием «История пиратов, наводнивших Китайское море с 1807 по 1810 год», перевод Чарльза Ньюмана. К произведению прилагается офигенно здоровый свиток с иллюстрацией. Размер свитка около восемнадцати метров, на нем изображены основные моменты истории Чжен И Сао и Чжен Бао (Чунг По Цай). И
Китайские исследователи Сяо Гоцзянь и Бу Юнцзянь (это современные) указывают, что есть и более ранняя версия истории – «Новая книга смирения Чжен Бао» за авторством всё того же Юань Юн Луна. Она отличается меньшими подробностями и отсутствием иллюстраций и, скорее всего, является ранней версией «Ароматов ЦзинХая», разницы в общем повествовании историки не нашли.
В принципе, Чжен И Сао – самый успешный пират в истории морского разбоя. В разное время под ее командованием находилось от 16 000 до 50 000 человек и до 600 кораблей. Естественно, такой образ не могли не поюзать киношники.Самым известным воплощением Чжен Ши стала Такайо Фишер, сыгравшая Госпожу Цин в «Пиратах Карибского моря». Чуть раньше, в 2003 году, был снят фильм непосредственно про Чжен Ши,где роль пиратской королевы исполнила актриса Дзюн Итикава. Фильм называется «Cantando dietro i paraventi», в русском прокате известен как «Легенда о Мести».
Экспедиция Сенявина (1805-1807). Часть 1. Когда Черногория стала русской.
В 1805 году Россия готовилась к войне с наполеоновской Францией, которая потом станет известна как Война третьей коалиции. Император Александр решил отправить в Адриатику эскадру из состава Балтийского флота. Целью экспедиции была поддержка республики Семи Ионических островов, возникшая после средиземноморского похода Ушакова. Руководить эскадрой было поручено Дмитрию Николаевичу Сенявину, недавно возведённому в чин вице-адмирала.
Дмитрий Николаевич Сенявин.
Род Сенявиных с петровских времён был известен службой на флоте. Уже в 1697 году Петр I упоминает Ивана (Иван Меньшой) Акимовича Сенявина, который «ходит на голландском корабле». Начавший службу на русском флоте в 1698 году в качестве боцмана, Иван Акимович позже станет командиром Каспийской флотилии и начальником Астраханского порта. Брат Ивана Меньшого, Наум Акимович, был первым российским вице-адмиралом. Дмитрий Николаевич родился в 1763 году. По достижении десяти лет был отдан в Морской корпус, где поначалу бездельничал и не учился. Когда о лени и проделках юного «Митюхи» узнал Григорий Алексеевич Сенявин, капитан первого ранга, то отделал своего племянника розгами так, что тот вспоминал эту порку даже став вице-адмиралом. Дендро-колосный способ воспитания сработал. Юный Дмитрий принялся за учёбу, да так рьяно, что в четырнадцать лет сдал экзамен и был назначен в гардемарины, а в семнадцать стал мичманом. В 1780 -1781 годах был откомандирован в Лиссабон, где занимался прикрытием русских торговых кораблей от действий морской гопоты с дождливого острова. Позже Дмитрий Николаевич служил в Черноморском флоте под руководством Фёдора Федоровича Ушакова. Неоднократно между начальником и подчинённым вспыхивали ссоры, причиной которых было неповиновение и дерзость Сенявина. Один из таких конфликтов пришлось улаживать лично князю Потёмкину, который благоволил и к великому флотоводцу, и к родственнику своей бывшей любовницы Екатерины Алексеевны Сенявиной. По одной из версий, Дмитрий Николаевич поставил происхождение рода и заслуги предков выше, чем офицерское звание – и именно это довело Ушакова до официального дела на подчинённого. Что именно спасло будущего вице-адмирала, неизвестно. Может, отходчивый и добрый нрав Фёдора Фёдоровича, может – защита от князя Потёмкина. В любом случае, не смотря на конфликты и ссоры (всё продолжавшиеся) Ушаков Сенявина терпеть не мог как человека, но ценил как моряка и флотоводца, и пророчил ему большое будущее. 27 сентября 1804 года уже в чине контр-адмирала Д.Н. Сенявин был назначен начальником Ревельской флотилии.
Начало Второй Архипелагской экспедиции.
16 августа 1805 года Дмитрий Николаевич Сенявин был произведён в чин вице-адмирала и назначен главнокомандующим морскими и сухопутными силами, находящимися в Средиземном Море. 31 августа на имя Сенявина от императора Александра последовал рескрипт.
Приняв Республику семи соединенных островов под особенное покровительство мое и желая изъявить новый опыт моего к ней благопризрения, почел и за нужное при настоящем положении дел Европы усугубить средства к обеспечению ее пределов. Поелику же республика сия по приморскому местоположению своему не может надежнее ограждаема быть как единственно, так сказать, под щитом морских сил и военных действий оных, то по сему уважению повелел я отправить туда дивизию, состоящую из пяти кораблей и одного фрегата, и тем усилить ныне там пребывающее морское ополчение наше. Вверяя все сии военные, как морские, так и сухопутные силы вашему главному начальству для руководства вашего, признал я за нужное снабдить вас следующими предписаниями: Снявшись с якоря и следуя по пути, вам предлежащему, употребите все меры, морским искусством преподаваемые и от благоразумной и опытной предусмотрительности зависящие, к безопасности плавания вашего и к поспешному достижению в Корфу.»
Состав эскадры:Линейный корабль «Уриил», 84ор. Линейные корабли «Ярослав», «Святой Петр» и «Москва» – 74 ор. Фрегат «Кильдюин», 32ор.
10 сентября эскадра Сенявина вышла в море, начав Вторую Архипелагскую Экспедицию. 25 октября (с.с.) моряки русской эскадры засвидетельствовали реакцию англичан на победу в Трафальгарской битве. По словам Владимира Броневского, пальба и крики радости продолжались весь день и всю ночь. 16 ноября русские корабли вышли из Портсмута. Флот увеличился на два брига, купленных в Англии – «Феникс» и «Аргус». 14 декабря эскадра Сенявина зашла в Гибралтар, а 18 января 1806 года подошла к острову Корфу, объединившись с эскадрами Грейга и Сорокина. Долгий путь был окончен. Помпезное приветствие от кораблей и береговых батарей, торжественный переход под флаг Сенявина всех русских кораблей на рейде Корфу были омрачены новостями с полей. Пока эскадра Сенявина добиралась до Корфу, а британцы продолжали праздновать победу в Трафальгарской битве, Андрей Болконский уже пялился в небо под Аустерлицем, а император Александр бежал в Россию после сокрушительного поражения.
Боко-ди-Катторо
В 1797м году, по условиям Кампо-Формийского мира Австрия получала балканские владения бывшей Венецианской республики. Вся Далмация, историческая область на северо-западном побережье Балканского полуострова стала частью Австрийской империи. После разгрома под Аустерлицем император Франц II уступил Далмацию Наполеону. Французский генерал Лористон получил приказ занять Рагузскую республику и Боко-ди-Катторо. Местное население, пользуясь обширной автономией, эту идею не одобрило, и обратились к Петру Негошу. Пётр Петрович Негош был избранным правителем Черногории. В самом начале правления он уже пытался наладить дипломатические связи с Россией, но потерпел фиаско – то ли не с тем фаворитом Екатерины Великой поговорил, то ли спалился на переговорах с Австрийцами. Тем не менее, отношение Петра Негоша к Российской империи ёмко описывает его цитата: «Тот, кто против России, тот против всех славян». Владыка Черногории (это официальный титул) быстро смекнул, что к чему. Которский залив был крайне выгоден как торговая бухта и защищённая база для флота, но самым важным было обретение Черногорией выхода к морю. Как не странно, на первом месте стояли не экономические и не политические интересы. Побережье Которского залива населяли далматинские славяне – православные хорваты и сербы. Сама же Черногория окончательно освободилась от власти османской империи только в 1796 году. Французы, в то время сотрудничали с Турцией, и для балканских народов переход под власть союзника извечного врага был невообразим. 15 февраля 1806 года Пётр I Негош созвал местный аналог думы, «скупщину». Черногорцы единогласно решили поддержать бокезцев (жителей побережья Боко-ди-Катторо), и отправить вооружённый отряд на помощь братьям-славянам. Представитель Российской империи, дипломат Степан Андреевич Санковский, пообещал уведомить Сенявина о происходящем и гарантировал поддержку русского флота и армии. Вряд ли Сенявин успел получить вести от Санковского – скорее к нему прибыли гонцы из Которского залива, потому что уже на следующий день, 16 февраля, русские войска под руководством капитана Белли высадились на берег. Вскоре русский отряд соединился с черногорским двухтысячным войском прямо под стенами Кастельново (ныне Херцег-Нови). После высадки случилось первое столкновение с французами. Шебека «Азард» подошла к крепости Кастельново с моря, чтобы сообщить о передаче земель Франции. Не смотря на то, что австрийцы были готовы сдать укрепления и уйти на родину, местное население на лодках отогнало шебеку в море. Ночью с 16 на 17 февраля, под проливным дождём абордажная команда под руководством лейтенанта Сытина на пяти лодках подошла к шебеке. Темнота и шум дождя позволили сделать это незаметно, и французская шебека была взята на абордаж без единого выстрела. Петр Негош был не только главой государства – он являлся ещё и духовным лидером как для черногорцев, так и для всех далматинских славян. Лидер недавно освободившегося от турок государства, он же православный митрополит, и капитан Белли, офицер русского флота (не важно, что по происхождению шотландец), возглавили объединённое русско-черногорское войско. Командовать возможными боевыми действиями был назначен капитан первого ранга Белли. То ли просто наглый от природы, то ли истосковавшийся по драке в море, «русский шотландец» дал жару.
Григорий Григорьевич Белли, русский морской офицер шотландского происхождения. На тот момент был уже в чине капитана первого ранга, кавалер орденов Святого Владимира 4й степени, святого Иоанна Иерусалимского и святой Анны 2й и 1й степени. Последнее, к слову, было слишком высокой наградой для чина Белли, что говорит о незаурядности этого шотландца. 21 февраля Григорий (Генрих) Белли в очередной раз за свою карьеру решил устроить шоу «Смотри, как я умею», и предъявил маркизу де Газильери, губернатору области Бока-ди-Катторо, ультиматум. Австрийцы должны были сдать за 15 минут восемь крепостей. Де Газильери не был дураком, да и как многие русские и австрийские офицеры был подавлен поражением при Аустерлице и результатами Пресбургского мира. Не отдавать такой лакомый кусок, как Которский залив французам – расклад более чем соблазнительный, но ради «сохранения чести» маркиз попросил дать хотя бы один выстрел из пушки – что бы не сдавать крепости без боя. Белли ответил, что если пушки заговорят, то сразу все. Маркиз, видимо, много что подумал про оборзевших шотландцев и наглых русских, но ничего не сказал. Крепости были сданы. Кроме наглости, можно заметить важный момент. Так как крепости были сданы без боя, то не было повода для войны между Австрией и Россией – а лишняя дипломатическая напряжённость никому не была нужна. После быстрой и бескровной победы у монастыря Савино собралась огромная толпа людей (по словам Броневского около десяти тысяч человек). Православный митрополит выступил с речью перед объединённым войском: «Самые горячие пожелания исполнились! Наши русские братья соединяются с нами в братской общности. Пусть никогда эта великая минута не исчезнет из вашей памяти! Раньше, чем я освящу эти знамена, клянитесь защищать их до последней капли крови!». Речь была длиннее (не буду приводить её полностью). Восторженные бокезцы и черногорцы присягнули на верность Александру I. Сенявин побывал в Кастельново и Которе, общаясь с местным населением и укрепляя связь с новой провинцией Российской империи. Имея на море республику Ионических островов, а на суше Которский залив, Сенявин фактически перерезал французам морские поставки через Адриатику и сильно обломал радостные планы Наполеона. Д.Н. Сенявин направил Белли с большей частью эскадры блокировать побережье Далмации, а сам отправился на Корфу за подкреплением. Вся радость побед была стёрта одним письмом от императора Александра.
«По переменившимся ныне обстоятельствам пребывание на Средиземном море состоящей под начальством вашим эскадры соделалось ненужным, и для того соизволяю, чтобы вы при первом удобном случае отправились к черноморским портам нашим со всеми военными и транспортными судами, отдаленными как от Балтийского так и Черноморского флота, и по прибытии к оным, явясь к главному там командиру адмиралу маркизу де-Траверсе, состояли под его начальством…»
Письмо это было отправлено ещё в декабре 1805 года, после Аустерлица, и добиралось до Корфу три месяца. Дмитрий Николаевич прочёл, опешил. Расстроился. Да и забил на распоряжение государя, решив доложить о своих успехах и дождаться повторного приказа.
Триестский ультиматум
При отсутствии быстрых каналов связи информация из Корфу в Санкт-Петербург добиралась долго, и пока вице-адмирал ждал гонца, что доберётся в обе стороны, военные действия продолжались. Белли, отправленный блокировать занятое французами побережье, не хотел просто так торчать в море. 30 марта его корабли, не открывая огонь, подошли к береговым укреплениям на острове Корчула на расстояние пистолетного выстрела (а те времена это около пятидесяти метров, и то с такой натяжкой, что не каждая сова выживет) – и открыл огонь из пушек. Французы спустили флаг ещё до высадки русского десанта. 5 апреля десант с захваченной у французов шебеки захватил остров Лисса (Вис), что позволило контролировать проход любых судов по Адриатическому морю. Ситуация выходила довольно странная. Австрия должна была отдать Далмацию Наполеону. Которский залив должен был стать важнейшей базой Франции в Адриатике. Но отдать то, чего у тебя нет нельзя – а Которский залив и Далмация внезапно оказались сначала в руках местного населения, а потом и вовсе присягнули на верность Российской Империи. Австрия, сильно потрёпанная после Аустерлица, опасалась вторжения взбешённого потерей выгодных земель Наполеона и принуждения к лягушковой диете; Александр I периодически играл роль «Я не я, эскадра не моя», а вице-адмирал Сенявин продолжал портить кровь французам. Господство русского флота в Адриатике не позволяло франции перекинуть войска морем. По суше переброска войск была долгой и сложной. Сенявину противостоял шеститысячный французский корпус и католическое население Рагузской республики – хорваты, венецианцы и итальянцы. Дипломатическая война и давление на Франца II со стороны Наполеона привело к тому, что в мае, в Триесте, оказались арестованы несколько бокезских торговых кораблей. С одной стороны, вроде ничего страшного. С другой – нейтральная страна (Австрия) проявила агрессию (арестовала) к русскому торговому флоту (бокезцы присягнули на верность Александру и уже считали себя частью Российской Империи). 21 мая к Триесту подошли четыре русских военных корабля – линкоры «Селафаил», «Святой Петр», «Москва» и фрегат «Венус». Комендант Триестского форта потребовал у Сенявина отвести корабли на пушечный выстрел. Дмитрий Николаевич ответил – ну, пальните из пушки. Я посмотрю, куда мне встать. Своеобразный прикол. Может, русский вице-адмирал и правда просил показать ему «границы дозволеного». Но скорее брал австрияка «на слабо» – выстрел из орудия в сторону русского военного корабля стал бы поводом для ответного залпа. Так же Сенявин потребовал отпустить все задержанные русские суда. Комендантом в Триесте тогда был австрийский фельдмаршал Цах, которого ещё Суворов хвалил, но при этом с иронией называл «унтеркунфтом». По сути, это можно перевести как «уютный уголок». В общем, Суворов называл Цаха «генералом диванных войск». Австриец не стал стрелять, и попытался объяснить – мол, тут толпа французов. Не можем мы ваши корабли отпустить. Страшно.
«Положение ваше затруднительно…– отвечал Сенявин,– а мое не оставляет мне ни малейшего повода колебаться в выборе. Поступок ваш, мне как генералу, а не политику, кажется, не соответствует дружеству и союзу, в которых вы меня уверяете. С долгом моим и с силою, какую вы здесь видите, не сообразно допустить вас унижать флаг, за что ответственность моя слишком велика, ибо сие касается чести и должного уважения к моему Отечеству».
Во время этих очень неприятных переговоров на рейд экстренно прибыл фрегат русской эскадры с известием, что французы заняли Рагузу и собираются напасть на Боко-ди-Каттаро. Сенявин решил идти к угрожаемому месту. Но так как под давлением французов комендант Триеста Цах задержал некоторые суда русской эскадры (желая этим напугать Сенявина и ускорить его уход из порта), то русский адмирал начал вести тонкую дипломатическую игру, пытаясь договориться об освобождении арестованных кораблей, не спровоцировав при этом войну с Австрией.
Переговоры затягивались. Во время очередного обмена письмами к эскадре Сенявина подошёл один из русских фрегатов с новостями – фразцузы заняли Рагузскую республику, и готовятся выйти в сторону Боко-ди-Катторо. Дмитрий Николаевич встал перед нелегким выбором: бросить суда, находящиеся под австрийским арестом, и выдвигаться в сторону Которского залива, или оставить недавно присягнувший народ с малой поддержкой оставшихся в Кастельново сил. Вице-адмирал написал письмо, в котором в очередной раз жаловался на обстоятельства и подчёркивал искреннее дружелюбие мощной эскадры. Отправляя письмо, Сенявин добавил на словах австрийским офицерам:
«Теперь нет времени продолжать бесполезные переговоры. Вам должно избрать одно из двух: или действовать по внушению французских генералов, или держаться точного смысла прав нейтралитета. Мой выбор сделан, и вот последнее моё требование: если час спустя не возвращены будут суда, вами задержанные, то силою возьму не только свои, но и все ваши сколько их есть в гавани и в море. Уверяю вас, что 20 000 французов не защитят Триеста. Надеюсь, однако ж, что через час мы будем друзьями, я только и прошу, чтобы не было ни малейшего вида, к оскорблению чести российского флага клонящегося, и, собственно, для вашей же пользы, чтобы не осталось и следов неудовольствия. Скажите генералу Цаху, что теперь от него зависит сохранить дружбу августейших наших монархов, которая столько раз была вам полезна, и впредь пригодиться может. Уверьте его, что через час я начну военные действия»
После этих слов была отдана команда готовиться к бою. Австрийские посыльные в спешке отправились к фельдмаршалу Цаху, наблюдая как из крюйс-камеры к орудиям несут картузы с порохом. Через час (ну, или около того) русские торговые корабли были освобождены, и под прикрытием эскадры Сенявина отправились в Которский залив.
Война порохом и словом
21 мая Петр Негош повел отряд из черногорских и русских солдат и разбил авангард французов и рагузцев, заставив тех отступить из Старой Рагузы (ныне Цавтат). Французский генерал Лористон после того боя жаловался Сенявину на жестокость бокезцев, которые защищали свою страну. Как отмечал Е.В.Тарле, позже этот же генерал жаловался в 1812 году Кутузову на охреневших русских, которые с «особой жестокостью сражались» и защищали свою землю от всяких лягушатников. 27 мая Сенявин вернулся в Кастельново. Проведя пару советов и оценив ситуацию, вице-адмирал морем перебросил войска к Старой Рагузе, занятой войском Петра Негоша и князя Вяземского. 4 июня Сенявин получил очередное письмо от императора Александра, и в очередной раз не выполняет приказ – более того, не сообщает о нём своим офицерам и в первую очередь черногорцам. 5 июня в 4 утра пять крупных боевых кораблей начали верповку (завоз якоря на шлюпке и подтягивание корабля к якорю) в сторону укреплений Новой Рагузы. Шебека «Азард» и пять канонерок шли на вёслах. Контр-адмирал Сорокин открыл пушечный огонь по укреплениям на острове Санто Марко, а отряд черногорцев при поддержке трёх рот егерей князя Вяземского начал штурмовать Багратские высоты. К семи часам вечера 5 июня французы отступают в Новую Рагузу, потеряв около четырёх сотен человек и 13 орудий. С 7 июня началась блокада Новой Рагузы черногорцами и отрядом вяземского. Она продолжалась до 24 июня, пока к Новой Рагузе не подошло французское подкрепление. Пока Сенявин воевал на северо-западе Балкан, за столами переговоров шла своя война. Наполеон уже в ультимативной форме требовал от австрийского императора Франца II обещанную Далмацию и Которский залив. Франц разводил руками и истерично писал Александру – мол, если корсиканцу не дать землю, то он меня откорсиканит и отаустерлицит ещё раз. А ты, Шурик, не собираешься меня прикрывать. Письмо, на которое столь показательно 4 июня положил (кипу бумаг) Дмитрий Николаевич Сенявин, было приказом отдать Которский залив австрийцам для дальнейшей передачи французам. У австрияков знатно подгорало со страха, у французов от нетерпения, а у Сенявина – от приказов Александра. У Александра что подгорало неизвестно, но вскоре начались переговоры о мире между Францией и Российской империей. Поддерживали болтозабивательское настроение вице-адмирала и черногорцы, готовые сжечь свои города и уйти вместе с русским флотом с родной земли, лишь бы не быть очередными поддаными Наполеона. В начале июля русский посол Пётр Яковлевич Убри подписал с Францией мирный договор. Сенявин крутился как уж на сковородке. То он отказывал выполнять переданный приказ из-за не соблюдённого австрийцами церемониала, то прямо заявлял, что не верит французскому посланнику. На приказы русских чиновников Сенявин отвечал, что запросит подтверждения у императора Александра. Когда Сенявину показали мирный договор Убри-Кларка, он невозмутимо ответил: «Когда оба императора ратифицируют договор, тогда и уйду». Всё это время Сенявин слал в Петербург письма и доклады о том, как хотят черногорцы и бокезцы жить под русским флагом, и как не хотят они питаться мерзким французским луковым супом. Итог у войны дипломатов был один. Сенявин не ушёл из Котора. Мирный договор не был ратифицирован Александром. Убри, составивший и подписавший этот договор, был отправлен в отставку. 31 июля на палубу «Селафаила» поднялся гонец с очередным посланием от императора. Все прежние послания и приказы отменить, французов бить дальше. Французский генерал Мармон, знавший об отказе в ратификации и пытавшийся хитростью и дипломатией сковырнуть русских с удобных позиций, 14 сентября (ст.ст.) наблюдал пренеприятнейшую картину. С моря по его лагерю открыл огонь русский флот, а на суше к нему приближалась толпа злых черногорцев. Его же войска скоропостижно и крайне неорганизованно ретировались с поля боя. Попытка навести порядок в строю и дать отпор русско-черногорскому войску на следующий день привела к тому же результату. Флот стреляет, французы бегут, русские и черногорцы наступают. При бегстве с Пунто-д’Остро генерал Мармон теряет все свои орудия, выставленные на этом форпосте. По его словам – топит их в море, а на самом же деле вся крупнокалиберная артиллерия была захвачена отрядом Вяземского. Французы засели в Старой Рагузе. В начале октября Мармон попытался повести войска в контр-наступление, но был нещадно бит, и снова укрылся в городе. Сенявин понимал, что взять Старую Рагузу теми силами, что у него есть, он не сможет. Мармон же понимал, что не сможет выбить Сенявина из Далмации. На суше началась позиционная война. На Адриатическом море же господствовал русский флот. Французская и итальянская торговля была парализована. Сенявин просил из Петербурга прислать подкрепление и усилить корпус, стоящий в Черногории – на случай, если Турция закроет Босфор и Дарданеллы. Неизвестно, хотел император Александр отправить подкрепление или нет – но дойти из России до Сенявина через Чёрное море оно бы не смогло. 18 декабря 1806 года Турция объявила войну Российской Империи.
Экспедиция Сенявина (1805-1807). Часть 2. Блокада Дарданелл
Турецкий флюгер и английский облом.
Русско-турецкая война. Очередная.
В 1798 году в средиземноморье можно воочию увидеть немыслимое: русские и турецкие корабли стояли в одном строю. Вечные враги, всего несколько лет назад закончившие очередную войну, объединились против общего врага. Объединённый русско-турецкий флот сражался за освобождение Ионических островов, и султан Селим III наставлял своего адмирала Кадыр-бея – «Относись к Ушак-паше как к учителю!». Фактически, союзный договор закончился с выходом России из второй антифранцузской коалиции. 11 сентября 1805 года (ст.ст.) был подписан новый союзный договор. По сути, он продлевал старый договор (1798 года) на девять лет, и одним из главных его пунктов был свободный проход русского флота через Босфор и Дарданеллы. Этот договор продержался куда меньше. После Аустерлица и краха Третьей Коалиции Турция засомневалась в своих союзниках. Усугубили сомнения факт поддержки Российской Империей сербов в их стремлении к автономии. После всё того же Аустерлица в Константинополь был направлен Орас Франсуа Бастьен Себастьяни де Ла Порта. Этот дивизионный генерал, чаще называемый просто Орас Себастьяни, уже отличился в дипломатической службе после заключения Амьенского мира, и теперь был послан к Селиму III с конкретной задачей – предотвратить сближение Турции с Англией и Россией. Орас очень не любил русских после того, как огрёб от Суворова и побывал у него в плену. Султан Селим тоже не любил русских – череда поражений XVIII века и явное стремление Российской Империи шастать туда-сюда из Чёрного моря в Средиземноморье эту нелюбовь только усиливали. Вкупе с недавным поражением третьей коалиции и хорошим советником в виде Ораса Себастьяни эта нелюбовь повернула политический флюгер высокой Порты в противоположную сторону. Укрепило положение помощь Себастьяни (да и вообще французами) в реформах, проводимых султаном. В общем, в 1805 году Селим III признаёт Наполеона Бонапарта Императором французов, что тут же портит отношения Турции с Россией. В августе 1806 года султан Селим отстраняет от власти правителей Валахии и Молдавии, что являлось нарушением мирного договора с Россией, и закрыла проход русским судам из Черного Моря в Средиземноморье. В конце концов, взаимное накаливание ситуации и бряцание оружием привело к тому, что в декабре 1806 года Турция объявила войну России. Русские войска в то время уже занимали Валашские и Молдавские княжества и поддержали сербское восстание.
О том, как англичане от турок отхватили
В январе 1807 года Англия объявила войну Турции. Адмирал Сенявин прибыл на базу русского флота на острове Корфу, и получив подкрепление, 10 февраля 1807 двинулся к Дарданеллам. На Адриатике осталась малая часть эскадры под командованием Баратынского. Адмирал Сенявин мог требовать от союзников-англичан совместных боевых действий, и планировал совместно с британской эскадрой Дакворта атаковать Константинополь, при этом ожидая подхода эскадры Пустошкина с Чёрного моря. 23 февраля эскадра Сенявина подошла к острову Тенедос, где встретила целую эскадру. Был отдан приказ готовиться к бою, но на сильно потрёпанных кораблях подняли английский флаг. Турецкий комендант не стрелял ни по англичанам, ни по проходящему русскому флоту. Владимир Броневский назвал его «великодушный турок», хотя скорее коменданта можно было назвать турком разумным – две эскадры превратили бы крепость в руины. При встрече Сенявин узнал от Дакворта историю неудавшейся Дарданелльской операции. По неизвестной причине вице-адмирал Дакворт не стал дожидаться флота Сенявина и решил своими силами пугнуть султана Селима III. Уже 7 февраля (ст.ст.) эскадра Дакворта с подкреплениями из эскадры Луиса и мальтийской эскадры Смита вошли в Дарданеллы. Примерно на середине пути в Мраморное море англичане одержали прекрасную победу в битве при Абидосе. Их восемь линейных кораблей, два фрегата и три малых корабля сначала отметелили турецкий линкор и двенадцать малых судов, после чего взяли турецкие береговые укрепления и заклепали турецкие пушки. 9 февраля эскадра Дакворта встала на якорь в Мраморном море, и вместо того, чтобы взять «голый» Константинополь и принудить Турцию к выходу из войны, боевой адмирал решил поиграть в дипломата. Пока десять дней велись переговоры, турецкий флот готовился к бою, а на обоих берегах Дарданелл возводились береговые укрепления. Константинополь тоже готовился к обороне.
«Мы развлекали англичан переговорами в столько времени, сколько было необходимо, чтобы подготовить Константинополь к обороне. Как только работы были окончены, Порта уведомила адмирала Дакворта, что она не может согласиться ни на одно из его требований и что она не боится увидеть его суда перед Константинополем. Пока мы укрепляли столицу, так же отправили подкрепление на Галлипольский полуостров, и наш инженер, г. Гутильо получил задание, воздвигнуть батареи, способные сделать очень опасным возвращение Дакворта» «Если бы английский адмирал на другой или на третий день после своего появления попытался войти в порт, мы не могли бы оказать ему никакого сопротивления, и его успех был бы полным. Мы бы получили квартиры в Семибашенном замке (тюрьма в Константинополе). Эта перспектива нас не испугала, и наша твердость увенчалась успехом»– из письма Себастьяни генералу Мармону.
До Дакворта допёрло, что его буквально поматросили и бросили, и его корабли подошли вплотную к Константинополю. Походив туда-сюда, показав, какие у него красивые линкоры и посмотрев на готовый к обороне город, расстроенный вице-адмирал развернул флот и вошёл обратно в Дарданеллы. Там недодипломат решил её раз проявить гонор, и потребовал от захваченных ранее укреплений формального «салюта почтения». Вместо него английской эскадре устроили двойное проникновение, обстреливая корабли с обоих берегов. Выслушав историю неудачной попытки англичан самостоятельно решить «турецкий вопрос» – либо повернуть флюгер турецкой политики, либо захватить Константинополь – Дмитрий Николаевич Сенявин предложил нанести новый удар. Уже совместный. По его мнению, две эскадры вполне могли пройти через укреплённые Дарданеллы, а с поддержкой эскадры Пустошкина из Чёрного моря – взять турок за самые стамбулы. Но «подкрепленье не пришло, и подмогу не прислали». Дакворт, совсем не трус и не слабак, отказался от совместной операции. Мало того, он даже отказался поддержать Сенявина кораблями, и увёл свою эскадру в Египет, сославшись на приказ. Отказать Сенявину Дакворт мог – в звании они были равны. Что стало причиной отказа – нежелание англичан терять «турецкий волнолом» против России, или же желание прихватить себе ещё что-то, пока прочие члены коалиции держат французов – неизвестно. 2 марта 1807 года Дакворт увёл английскую эскадру, бросив союзников у острова Тенедос.
Блокада Дарданелл
Захват Тенедоса (8-10 марта 1807)
Если союзники и могли взять и уйти куда-то по своим делам, то враги так поступают редко. Ближайшие к Сенявину турки так и вовсе не могли никуда уплыть на своём острове, и 3 марта контр-адмирал Грейг предложил гарнизону Тенедоса сдать остров. Безрезультатно. 8 марта почти вся эскадра Сенявина подошла к острову, и открыла огонь по крепости. Во время обстрела на берег был отправлен десант, которым командовал всё тот же А.С. Грейг. Турки укрылись в большем из укреплений, и приготовились к обороне. Под руководством А.С. Грейга и Д.Н. Сенявина морские пехотинцы возвели две батареи для обстрела укреплений с суши. Перед решающим штурмом Сенявин ещё раз предложил туркам почётную капитуляцию – и комендант сдал крепость и остров. Более 1600 человек (1200 бойцов гарнизона и 400 укрывшихся в крепости гражданских_ русский флот перевёз на берег Анатолии. Остров Тенедос был взят. Эскадра Сенявина получила прекрасную морскую базу в четырнадцати милях от входа в Дарданеллы, весь порох и провиант с острова, а также источник пресной воды. Блокада Дарданелл началась.
Оборона Тенедоса (7-11 мая 1807)
Морская блокада – штука очень неприятная. Мало того, что бьёт по репутации, так ещё и мешает торговле. А если у тебя большой город, который зависит от поставок продовольствия по морю – всё ещё печальнее. Особенно печально то, что там, за блокирующим флотом, не верные вассалы, а греки. Такие же православные, как и блокирующий пролив адмирал, как восставшие сербы. И теперь блокирующий Дарданеллы Сенявин и его матросы вкусно и сыто едят, греки подумывают послать султана, союзники-французы смотрят на тебя как на то самое, что дурно пахнет. И вообще всё как-то грустно – на тебя даже твои янычары смотрят как французы. В мае 1807 года Сеид-Али, капудан-паша османского флота, был направлен на прорыв блокады. Поначалу туркам, как казалось, везло. 8 мая их флот подошёл к острову Тенедос, и в четырёх километрах севернее Тенедской крепости высадили десант. Радостную встречу османам устроил майор Гедеонов с двумя ротами солдат. После короткой перестрелки турки были в буквальном смысле отброшены назад, в море. Перегруппировавшись и получив подкрепление, десантные группы дождались подхода гребной флотилии. По двум ротам Гедеонова был открыт шквальный картечный огонь – и это позволило туркам снова выйти на берег. Две роты тут же бросились в рукопашный бой, и отбили атаку. За вечер было сброшено в море несколько волн турецкого десанта. «Прикрывающий огонь» картечью почти не трогал русских солдат, прятавшихся до начала рукопашной – но изрядно косил отступавших турок. По словам Броневского, турки потеряли от 200 до 300 убитыми, несколько лодок были потоплены огнём с берега. Потери в отряде Гедеонова не превысили пяти человек.
Дарданелльское сражение (10-11 мая)
Неудачная высадка изрядно попортила настроение туркам, и несмотря на преимущество в количестве кораблей и в ветре, Сеид-Али не атаковал. Видимо, «ждал знак». Знак был явлен. 10 мая, после полудня, благоприятный для турок ветер NE сменился на полностью противоположный SW. Дмитрий Николаевич в других знаках не нуждался, выстроил свою эскадру в две боевые линии и двинулся в атаку. В эскадре Сенявина было десять линейных кораблей и фрегат «Венусъ», у Сеид-Али восемь линейных кораблей, шесть фрегатов и более пятидесяти пяти вспомогательных мелких корыт. Сенявин ожидал, что Сеид-Али примет бой на якоре, но турки кое-как развернулись, и дали дёру в пролив, под прикрытие береговых батарей. Около шести вечера начался бой в устье залива. Корабли перемешались. Линейный корабль «Селафаил» пристроился бортом к корме турецкого флагмана, и разряжал в него залп за залпом, не давая турку повернуться для ответного огня. Второму флагману (флагману вице-адмирала) линейный корабль «Уриил» сломал утлегарь, когда отрезал корабль противника от общего строя. «Твёрдый», флагман русской эскадры, шёл меж турецких кораблей, обстреливая их с обоих бортов. Сеид-Али прекрасно понимал преимущество береговых батарей, и пытался заманить корабли Сенявина под их огонь. Около восьми вечера стемнело, и корабли начали медленно расходиться. Ветер стих, и к полуночи течение отвело русскую эскадру от Дарданелл. Сенявин приказал бросить якорь. Наутро три турецких линейных корабля, которые не смогли проскочить в пролив да темноты, попытались снова уйти от русской эскадры. Два из них буксировались гребными судами вдоль европейского берега, корабль вице-адмирала шёл под парусами вдоль азиатского. Спасаясь от возобновивших погоню русских кораблей, турки выбросили линкоры на мель в зоне досягаемости береговых орудий. Расстреляв сидящие на мели корабли, эскадра Сенявина вернулась к Тенедосу уже на следующий день, 12 мая (ст.ст.). В бою русская эскадра потеряла 26 человек убитыми, в том числе и командир линейного корабля «Сильный» И.А.Игнатьев. Турки потеряли три линейных корабля. Количество погибших неизвестно, В. Броневский оценивал потери противника (вряд ли верно) примерно в две тысячи. Во время боя произошли два инцидента. Флагман русской эскадры подошёл опасно близко к береговым укреплениям. Во время боя, уже в темноте, Сенявин приказал потушить фонари на «Твёрдом», чтобы затруднить прицеливание противнику, и распорядился отбуксировать линейный корабль шлюпками. Отношение русских моряков к вице-адмиралу можно понять по тому, что и они прекратили огонь – сначала не могли понять, что случилось с адмиральским кораблём, а потом боялись ненароком попасть по флагману. На следующий день на линейном корабле «Сильный» приспустили флаг: в бою погиб капитан корабля. На «Твёрдом» после боя и обстрела даже ружейным огнём из Европейской крепости (той, что на европейском берегу пролива), отсутствовал адмиральский флаг. Уныние и страх охватили эскадру. В нарушение протокола и приказа, фрегат «Венусъ» подошел к корме флагманского линкора, и без рапорта и доклада потребовали ответа – где адмирал, и что случилось. Не смотря на ответ, что с Сенявиным все в порядке, матросы не успокоились, пока на галерею не вышел сонный Дмитрий Николаевич, а на стеньге снова взвился адмиральский флаг. Вице-адмирал хотел обратиться к матросам с речью, но радостный гомон и крики матросов «Венуса», а постом и с остальных кораблей эскадры, не позволили Сенявину сказать ни слова. Вице-адмирал поклонился, и с улыбкой ушёл в каюту.
Последствия сражения
Навтыкать туркам основательно так и не получилось. Две эскадры были похожи на очень осторожных дуэлянтов – пытались поймать друг друга на ошибке. Сеид-Али пытался заманить Сенявина под орудия береговых батарей, русский вице-адмирал пытался выманить османа в открытое море и лишить противника преимущества. Осторожные «танцы» продолжались до середины июня. И если у Дмитрия Николаевича Сенявина хватало выдержки и понимания ситуации, то у Сеид-Али с этим было сложнее. 29 мая 1807 года в Константинополе янычары свергли султана Селима III. Недовольство реформами, усугублённое потерей Тенедоса, подступающим голодом из-за блокады Дарданелл и поражением 12 мая, вылилось в мятеж. На престол быстренько был посажен родственник Селима, который потребовал от Сеид-Али решительных действий.
Какие выводы из сражения сделал Дмитрий Николаевич Сенявин, можно понять по его обращению к командирам кораблей перед следующей битвой.
Обстоятельства обязывают нас дать решительное сражение, но покуда флагманы неприятельские не будут разбиты сильно, до тех пор ожидать должно сражения весьма упорного, посему вделать нападение следующим образом: по числу неприятельских адмиралов, чтобы каждого атаковать двумя нашими, назначаются корабли: «Рафаил» с «Сильным», «Селафаил» с «Уриилом» и «Мощный» с «Ярославом». По сигналу № 3 при французском гюйсе немедленно спускаться сим кораблям на флагманов неприятельских и атаковать их со всевозможною решительностью, как можно ближе, отнюдь не боясь, чтобы неприятель пожелал зажечь себя. Прошедшее сражение 10 мая показало, чем ближе к нему, тем от него менее вреда, следовательно, если бы кому случилось и свалиться на абордаж, то и тогда можно ожидать вящшего успеха. Продошедшим на картечный выстрел, начинать стрелять. Если неприятель под парусами, то бить по мачтам, если же на якоре, то по корпусу. Нападать двум, с одной стороны, но не с обоих бортов, если случится дать место другому кораблю, то ни в каком случае не отходить далее картечного выстрела. С кем начато сражение, с тем и кончить или потоплением или покорением неприятельского корабля. Как по множеству непредвидимых случаев невозможно сделать на каждый положительных наставлений, я не распространю оных более; надеюсь, что каждый сын отечества почтится выполнить долг свой славным образом. Корабль «Твёрдый». Дмитрий Сенявин
Экспедиция Сенявина (1805-1807). Часть 3. Триумф и падение.
Афонское сражение
Осада Тенедоса
15 июня Сенявинские корабли оказались у острова Имброс. Пользуясь попутным ветром, османская эскадра тут же вышла из пролива и атаковала Тенедос. Сеид-Али рассчитывал ослабить русскую эскадру, лишив Сенявина опорной точки и базы.Во второй половине дня турки одержали небольшую победу. Около Тенедоса два фрегата напали с выигранным ветром на союзный России каперский корабль. Греческий корсар отбивался как мог, но в результате выбросил корабль на мель. Израсходовав весь боезапас, греки выбросили пушки за борт, подожгли корабль и на лодках двинулись к побережью.На следующий день турки высадили десант на остров. Их ожидал всё тот же майор Гедеонов.Две сотни солдат сначала обратили в бегство более тысячи турок, загнав противника между своим ружейным огнём и картечью с турецких судов, но постом отступили к крепости и заняли оборону.Перестрелка шла два дня. Турки не решались идти на приступ – проще было дождаться, когда у гарнизона закончатся порох и ядра. И ведь почти дождались.17 июня израненные бойцы осаждённой крепости, почти без пороха и патронов, выдали османам такое нелюбимое на западе громовое «ура» – к острову приближались корабли Сенявина. Эскадра Сеид-Али снялась с якоря, оставив высаженный десант без поддержки, и дала дёру. Осада Тенедоса не закончилась – но положение осаждённых значительно улучшилось. Под прикрытием русских кораблей в крепость пошла вереница лодок и баркасов с порохом, провизией и медикаментами.
Простите за столь шакальную карту. Карты – не моя сильная сторона.
Не смотря на желание как можно скорее продолжить преследование турецкого флота, сначала Сенявин приказал оказать поддержку осаждённым. На следующий день эскадра двинулась к Дарданеллам, ожидая, что Сеид-Али снова скрылся в проливе – но получил известие (скорее всего – от греческих корсаров), что турки не показывались у Дарданелльских крепостей.Если турки не бежали в пролив, то по одной причине – боялись не успеть уйти под прикрытие береговых батарей. Поняв, что османский флот просто ушёл оптимальным курсом (тем, при котором скорость кораблей будет максимальной), Дмитрий Николаевич сделал вывод: Сеид-Али ушел в сторону острова Лемнос.Русские корабли двинулись на север, к острову Имброс, и оттуда – спустились к Лемносу. Этот манёвр преследовал две цели – обойти арьергардные корабли османов и не потерять преимущество в ветре.
Бой при Афоне
Лучшая схема Афонского сражения. Сперто из инета
19 июня между островом Лемнос и побережьем Греции русская эскадра обнаружила противника.Сенявин дал своим командирам чёткий приказ – сократить дистанцию, и на «пистолетном выстреле» открыть огонь.Основными целями были обозначены флагманские корабли – «Мессудие» (сто или сто двадцать орудий, в зависимости от источника), и «Седд-аль-Бахр», второй флагман, корабль Берир-бея. Русские офицеры знали, что если уничтожить или захватить флагманы турок, то остальные корабли побегут. А бегущие всегда были лёгкой добычей.
Две линии русских кораблей ворвались в строй турок.Османы не были великими флотоводцами, да и с тактикой у них было грустно. Французские «независимые специалисты» не сильно выручали.Первые залпы турецких кораблей пришлись на линейный корабль «Рафаил». Идущий первым, этот корабль был крупнейшим в сенявинской эскадре. Сильно потрёпанный, со сбитыми парусами, «Рафаил» не смог маневрировать и прошёл через линию турецких линкоров. Но, проходя мимо «Мессудие», канониры «Рафаила» разрядили в него весь бортовой залп, с двумя ядрами на пушку. Этот приём хорош на малых дистанциях, и фактически увеличивает силу залпа вдвое. Этот залп выбил второй флагман из линии, серьёзно нарушив боевые порядки турок.Остальные корабли русской эскадры вышли на своё место, согласно плану.«Рафаил» оказался в невыгодном положении – с одной стороны от остальных русских кораблей его отделяла линия османского флота.С другой стороны его ожидала «вторая линия» – турецкие фрегаты и малые корабли. На повреждённый русский линейный корабль с кормы надвигался флагман османского флота, «Мессудие». «Рафаил» уже готовился к обороне в абордаже, но быстрый ремонт и слаженная работа экипажа позволили русскому кораблю отойти, продолжая обстреливать противника. В том бою капитана Рафаила, Д.А. Лукина, убило попаданием ядра. Не растерявшиеся офицеры продолжили бой под командованием капитан-лейтенанта Быченского. Через некоторое время, продолжая вести бой, «Рафаил» вышел сквозь линию турок к русским кораблям.Пока «Рафаил», пролетев строй турецких кораблей, устраивал «Мессудие» двойные ядерные пробития, флагман русской эскадры встал поперёк хода линии турок, заставив тех сменить курс и сломать строй.Ещё ярким одним моментом той битвы было окружение линейного корабля «Скорый». Где-то на втором часу боя «Скорый» оказался под перекрёстным огнём трёх турецких кораблей. Дистанция была мала, «Скорый» одинок – и турки приготовились к абордажу. Как раз в тот момент пушки скорого прекратили пальбу – кончился порох. На палубе стояла потрёпанная немногочисленная абордажная команда русских моряков.Радостные османы уже размахивали ятаганами на палубах, когда со «Скорого» быстрым и прицельным картечным огнём начали чистить палубы противника от всяких людей, готовых к абордажу.Бой шел с 9.30 до 12 часов дня 19 июня 1807 года (ст.ст). Сильно потрёпанный турецкий флот бежал от эскадры Сенявина к Афону.На следующий день был обнаружен некогда самый быстрый корабль турецкого флота – «Седд-аль-Бахр». Второй флагман буксировали в сторону острова Тасос несколько гребных судов.При виде приближающегося «Селафаила» гребные суда бросились наутёк, отцепив «Седд-аль-Бахр», вскоре взятый на абордаж без особых потерь «Селафаилом».На следующий день Дмитрий Николаевич Сенявин приказал А.С.Грейгу начать преследование турецкого флота малыми силами. Основные силы же Сенявин направил на Тенедос, для спасения осажденного острова.Алексей Самуилович Грейг, преследуя османские корабли, сначала заставил выброситься на берег линкор и два фрегата, после чего у острова Самотраки, увидев приближение русских кораблей, турки взорвали ещё один линкор, фрегат и корвет.26 июня к Тенедосу, на котором турки всё так же держали крепость в осаде, подошли русские корабли. Артиллерийский огонь и вид плененного турецкого корабля сделали своё дело. Осада была завершена.
Тильзит!.. при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс
Далеко не всегда победы флота обозначают победы в войне. Ещё до Афонского сражения недалеко от современного Правдинска Наполеон разгромил русское войско. Император Александр тут же приказал начать переговоры о мире, и за день до прибытия русского флота с трофейным турецким линкором к Тенедосу был подписан в Тильзите был заключен мир с Наполеоновской Францией.Согласно этому мирному договору, Россия должна была отдать Каттаро, присягнувшее на верность России, французам. Та же судьба ожидала и Республику Семи Соединённых Островов в Ионическом море. Россия разом лишалась трёх баз в средиземном море – Корфу, Каттаро и Тенедоса. И если Тенедос был, по сути, временно захваченной территорией и довольно проблемной базой, то Каттаро и Корфу были довольно хорошими базами с лояльным населением. Все достижения Ушакова и Сенявина били зачёркнуты Александром I.7 августа 1807 года Сенявин встречал первых французов на Корфу. Местные жители были подавлены. Сенявин и его офицеры – тоже. Вице-адмирал получил приказ «усмирить местных и поспособствовать передаче острова».И бокезцы, и корфиоты чувствовали себя преданными. Чувствовал ли себя преданным Дмитрий Николаевич Сенявин? Возможно. За подвиги во время экспедиции вице-адмирал был награждён орденом Александра Невского.В октябре 1807 года эскадра Сенявина, сильно потрёпанная штормом, встала на рейд Лиссабона.Вице-адмирал Сенявин был предупреждён о возможном начале войны с Англией. Ни известия о печальной судьбе датской столицы, ни новости о начале войны, ни прямой приказ императора подчиниться воле Наполеона и «всячески помогать ему супротив англичан» не убедили Сенявина. Строптивый адмирал снова не послушался монарха.Рассказы о дальнейших событиях… Рознятся. Как и оценочное мнение о том, что именно произошло.
Ошибка, предательство или героизм?
Французы утверждали, что генерал Жюно оказал помощь Сенявину в починке кораблей. В принципе, с учётом того, что корабли Сенявина простояли у Лиссабона почти год и потом смогли выйти в море – похоже на правду.А вот Дмитрий Николаевич свою часть союзных обязательств не выполнил. И когда Жюно просил его о помощи – прикрыть с моря пушками или высадить часть матросов для сопротивления англичанам – отказался.Английский адмирал, блокировавший эскадру Сенявина, Коттон, рискнул переманить Дмитрия Николаевича на сторону Англии. Как и большинство офицеров, проходивших стажировку в английском флоте, Сенявин был ярым англофилом. Но недостаточно ярым, чтобы настолько предавать родину. Он отказался.Англичане прекрасно понимали, что такое русский флот – они помнили Ушакова. Помнили, как Нельсон оценивал русского адмирала – и ненавидел его.Хвалёный Королевский Флот не рискнул нападать ни на Сенявина, стоящего в Лиссабоне, ни на корабли Салтанова, стоящие в Триесте – даже при численном превосходстве.Корабли Салтанова были переданы бывшим врагам, а теперь союзникам, согласно приказу императора.А Сенявин получил приказ «содействовать союзнику». После – «корабли сжечь, но англичанам не сдавать».А в августе 1808 года Дмитрий Николаевич Сенявин подписал «конвенцию» с врагом. Согласно этому договору, русский вице-адмирал сдавал корабли «на хранение» врагу.По отечественной историографии русские корабли дошли до Портсмута во всеоружии, под Андреевским флагом – и так и стояли на главной базе британского флота.В британских источниках есть упоминания о том, что орудия с кораблей были сняты.В Портсмуте Дмитрий Николаевич продолжил наслаждаться английской честностью. Его моряки получали отвратительное питание, и почти не получали медицинской помощи.В ноябре 1808 года до Англичан допёрло, что Сенявин хоть и англофил, но не тридвараз, и не собирается сдавать корабли. Часть русских матросов была переведена на плавучую тюрьму – бывший французский корабль «Пегас». Порох и пушки были конфискованы.Сенявин долгое время пытался вести бюрократическую войну, ссылаясь на «конвенцию», которую признали недействительной после показного «трибунала» над Коттоном.За время «стоянки» в Портсмуте от болезней умерло более двухсот моряков. 9 августа 1809 года моряков эскадры Сенявина отправили из Портсмута в Ригу транспортными кораблями.Была ли сдача кораблей англичанам предательством?Однозначно – да. Сенявин получил точный приказ – помогать наполеоновским солдатам и генералу Жюно. Свои союзные обязательства, как и очередной приказ императора, он не выполнил в силу личной неприязни к французам и симпатии к англичанам. Вице-адмирал заключил с английским адмиралом Коттоном «Синтрийскую конвенцию», имея на это крайне сомнительные полномочия – и был изгнан с собственных кораблей, которые до этого были разоружены. А на самих кораблях не поднимался русский флаг.Да, англичане вернули часть стоимости кораблей. Некоторые источники громко утверждают, что вернули полную стоимость, но при этом не приводят ни одного документа о том, как и чем вернули. После заключения Эребрусского мира Англия пыталась всячески «умаслить» Александра как союзника и экономического партнёра. Из эскадры, арестованной в Портсмуте вернулись два корабля – «Сильный» и «Мощный», с частью орудий. Стоимость остальных кораблей англичане «компенсировали».За годы службы Дмитрий Николаевич Сенявин неоднократно показывал свой строптивый нрав. Он не слушался Ушакова и перечил ему, игнорировал приказы Александра I.Тем не менее, вице-адмирал искренне служил Родине. Как мог.Участие в средиземноморских походах в конце XVIII века под началом Ушакова. Вторая Архипелагская Экспедиция. Присоединение Которского залива и Афонское Сражение… Дмитрий Николаевич покрыл себя славой великого флотоводца и истинного патриота.Из дневников Броневского и прочих офицеров, из отзывов современников можно сделать вывод: Сенявина любили. Для матросов он был отцом-командиром, союзники (греки, черногорцы и бокезцы) восторгались им.
Мог ли такой человек предать? Да. Ради благих побуждений, ради любви к Родине. Из-за несогласия с императором, который не вызывал ни любви, ни уважения у адмирала.Фактически, неповиновение Сенявина, неоказание поддержки союзникам и передача кораблей врагу – предательство. И не важно, что было его причиной – прагматизм, дальновидность, любовь к Англии или банальная обида на слабовольного императора, который предал людей, поклявшихся в верности ему и России и одним росчерком пера стёр результаты многолетней работы русского флота.Не важно, почему именно Александр так отреагировал на Лиссабонский инцидент. Может, его в край достало неповиновение вице-адмирала. Может, разозлил факт передачи кораблей врагу. Может, разозлил тот факт, что Сенявин побеждал, а Александр – проигрывал.Факт остается фактом. Сенявин в очередной раз ослушался высочайшего распоряжения, нарушил приказ и отдал корабли русского флота врагу.Дмитрий Николаевич был понижен в должности и «прогнан» на гражданскую службу, после чего вообще уволен с половинной пенсией. За Вторую Арихипелагскую экспедицию Сенявин и его матросы не получили призовых. Ни за корабли, ни за присоединённые (но утраченные императором) провинции.Сенявина любили не только моряки. Уже позже декабристы думали назначить его одним из членов временного правительства. Виктор Кочубей, министр внутренних дел, вызывал к себе Дмитрия Николаевича, чтобы понять – есть ли связь у вице-адмирала в отставке со всякими там сообществами.Сенявина любили и уважали.Тему его предательства (ну, или ошибки – как хотите) историки замалчивают по разному, пытаясь дать субъективную оценку его действиям. «Не признавший мир с врагом», «не желавший воевать с союзником», «дальновидный политик и стратег», «Откровенный англофил» – это основные ярлыки, которые вешали на Сенявина. Все они – правильные.Сенявин был англофилом, как и большинство офицеров, проходивших стажировку в английском флоте. Сенявин был дальновидным политиком и стратегом, он не желал воевать с тем, кого он считал другом России и не хотел мириться со старым врагом.Но всё перечисленное не оправдывает того, что сначала он вопреки приказу отказался помогать союзнику (Жюно), а потом, когда обиженный союзник отказался решать проблемы русской эскадры, сдал корабли врагу.Последнее неповиновение Сенявина император Александр не оценил. Боевой вице-адмирал был назначен начальником гражданского порта и Ревельской флотилии.Начало Отечественной войны побудило многих патриотов вернуться в строй. Дмитрий Николаевич Сенявин с Ревельской эскадрой был направлен на патрулирование к берегами Англии, которая вновь стала союзником Российской империи. На назначение Сенявина начальником союзной эскадры настояло британское адмиралтейство.Фактически, сосланный к берегам Англии и обречённый на бездействие, Сенявин направил императору просьбу о возвращении на Родину. В ответ на что вице-адмирал получил от императора оскорбительное «Где? в каком роде службы? и каким образом?». Александр не забыл поступок Дмитрия Николаевича, и не считал того «надёжным» человеком.В апреле 1813 года Сенявина уволили из флота с половинной пенсией начальника гражданского порта.При этом Сенявина не казнили за «предательство». Не лишили дворянства, не отправили в ссылку как предателя. Наказание вышло жестоким, но тихим. Несколько лет в нищете на мелкой должности. Бездействие во время Отечественной Войны, и отставка с половинной пенсией.Персональный ад для строптивого адмирала.
Поздняя награда
После того, как на престол взошёл Николай Первый, адмирал был реабилитирован. Последний рыцарь Европы назначил Дмитрия Николаевича генерал-адьютантом в декабре 1825 года, спустя несколько дней после восхождения на престол, а в августе следующего года Дмитрий Николаевич Сенявин стал полным адмиралом.В 1827 году Дмитрий Николаевич был направлен в Портсмут с третьей Архипелагской экспедицией. Политические и стратегические нюансы не позволили старому адмиралу возглавить совместную эскадру трёх держав в Наваринском сражении, но советы Дмитрия Николаевича очень помогли командующему русской эскадрой, Логину Петровичу Гейдену.Немало внимания Сенявин в своих заметках и советах уделял черногорцам и их преданности России. За советы, помощь и участие в Третьей Архипелагской экспедиции Д.Н.Сенявин был награждён алмазными знаками к ордену Александра Невского.Дмитрий Николаевич так и не смог снова попасть в места, где ковалась его слава. В 1830 году старый адмирал тяжело заболел, и спустя год скончался.Почётным караулом на похоронах Сенявина командовал сам император.Уже под конец жизни, после наказания за ослушание императора и предательство, Дмитрий Николаевич обрёл признание и награды за свои победы. От другого императора – воина, а не демагога. Патриота, а не ксенофила.
На этом я заканчиваю историю Второй Архипелагской экспедиции и её руководителя – Дмитрия Николаевича Сенявина. Адмирала почти забытого в наше время. Человека, чьи и подвиги, и падение были проявлением его любви к Родине и служении ей.
Пепел Копенгагена
Если вдруг в войне сосед
Флотом отказал делиться,
То спали ему столицу
Будет знать «нейтралитет».
Если он при всем при этом
Не даёт доставить лес,
Смело бей его ракетой
И устрой большой замес.
Как англичане ракету изобретали
Лень – двигатель прогресса. И если тебе лень что-то добывать и осваивать новые территории, то неплохо было бы придумать новый способ убивать тех, у кого есть нужные ресурсы, а их самих заставить возделывать твои новые владения. И не важно, что раньше они были не твоими. Заодно в музей можно всякого притащить. Правда, иногда всякие «дикари» и прочие оказывались смышлёнее носителей света цивилизации.В 1780 году британцы знатно огребли от княжества Майсур на юге Индостана. Причинами звонкого леща оказались помощь французов в организации майсурийской армии и ракеты от местного производителя.Майсурийцы модернизировали известные уже несколько веков китайские фейерверки, плотно запихнув «ракетное топливо» в металлический цилиндр и добавив взрывающуюся часть. К новой разработке прилагалась книжка под названием «Фатхул-муджахидин», которая по факту была инструкцией по применению для этих «салютов». Не будь дураками, майсурийцы тут же скрафтили первые системы залпового огня, и так успешно отсалютовали британцам, что заключили мир, диктуя условия людям в красных мундирах.Майсурийская ракета была металлическим цилиндром, плотно привязанным к небольшому бамбуковому шесту. От полутора до трех дюймов диаметром, около десяти дюймов длиной, эта ракетка отличалась неплохой убойной силой за счет взрывающейся части. Иногда, для «закрепления» ракеты на солдате противника или на цели к снаряду вязали длинное «шило».Дальность полета этих ракет составляла около двух километров, что, по сути, делало их довольно серьёзным преимуществом на поле боя. Точность, правда, подводила. Но если стрелять много, куда-нибудь да попадёшь. Естественно, такой прикольной вундервафлей заинтересовались отхватившие англичане. Уильям Конгрив (не тот, который поэт) с майсурийской ракетой наперевес побежал изобретать новое оружие. Злые языки утверждали, что часть наработок он спёр у ирландского националиста Роберта Эммета. Тот факт, что он спер идею индусской ракеты никого не смущал.В принципе, Конгрив не сильно изменил суть майсурийских ракет. За неимением бамбука к ракете крепился деревянный шест, из-за которого ракета сильно уходила вбок, и крепилась к шесту она с помощью кронштейнов на корпусе, а не привязывалась, как у примитивных жителей Майсура. Да и корпус ракеты англичане делали из листового металла, а не отливали трубочки. Со временем появились разные модификации, усовершенствования и прочее. Но изначально «разработка Конгрива» почти не отличалась от индусских изделий.
Первый блин Булонью
После торжественной презентации ракеты, наш «изобретатель» получил добро на испытания нового оружия в бою. Собственно, с кем чаще всего бодались эти любители ракет? Правильно – с любителями лягушек. В те времена за Каналом обосновался один очень амбициозный корсиканец. Потом этот корсиканец умрёт на Святой Елене, и в честь него назовут тортик – но в тот период Наполеон Бонапарт потихоньку загребал в свои руки Европу. Англичане были недовольны, войны с небольшими перерывами шли уже несколько лет. В ноябре 1805 года англичане решили испытать новое оружие на извечном противнике, и направили Конгрива с его ракетами за Канал, к городу Булонь.В те два дня удача улыбалась французам. Сильный шторм и попытка запустить ракеты под холодным дождиком не увенчались успехом. Думаю, французы долго смеялись над несколькими лодочками в море.Спустя одиннадцать месяцев в Булони было не до смеха. С двадцати четырёх лодок город полчаса обстреливали 32хфунтовыми ракетами Конгрива. Как выяснилось позже, обстрел вызвал серию пожаров в городе. Насколько успешно было применение, англичане не поняли. Вроде обстреляли, вроде город горел – но точной информации нет. А раз результат испытаний неясен, то их надо повторить.
Немного о политике
К 1800 году отношения Российской империи и Великобритании откровенно портятся. Император Павел, человек неоднозначный, остался не в восторге от Нидерландской компании и захвата Мальты англичанами. Господство уроженцев Альбиона на море изрядно допекло «Русского Гамлета», и он начал торговую войну против «Владычицы морей». Уже в начале декабря, всего через пару недель, был сформирован союзный договор между Россией, Пруссией, Данией и Швецией. Союзные страны возвращались к вооруженному нейтралитету. Грубо говоря, это обозначало «Мы нейтральны, нас не трогать. А тронешь – огребешь», и относилось в первую очередь к морской торговле. С учетом торговых ограничений, введенных в ноябре, Англия оказалась в неприятном положении.Во-первых, кончилась сытая жизнь. Экспорт пшеницы из России в Англию оказался, мягко говоря, затруднен. С голоду на островах бы не померли, но приятного мало.Во-вторых, крупнейший поставщик конопли – Россия. А в то время конопля, а точнее пеньковые канаты, из нее производившиеся, были стратегически важным для флота ресурсом. Примерно, как ГСМ в наше время или около того.В третьих…Да можно долго перечислять. Общая картина британцев не порадовала. Крупный блок, который откровенно мешал торговле, полностью перекрывал Балтийское море и создавал перспективу угрозы на Северном Море. Да ещё и престижем Великой Морской Державы будто подтёрлись.Собственно, в апреле 1801 года британцы вломили датчанам, и те вышли из союза. Император Павел погиб в результате заговора, и идея вооруженного нейтралитета накрылась медным тазом. Примерно тем же самым накрылась и зарождающаяся дружба между Российской Империей и наполеоновской Францией.В 1807 году после заключения Тильзитского мирного договора Россия присоединилась к континентальной блокаде. Что касается Дании…Не всё так просто было в Датском королевстве.Во-первых, на тот момент Норвегия находилась под властью Дании, да и называлось всё это Датско-Норвежской унией. Фактически, проливы Каттегат, Зунд, Малый и Большой Бельты оказывались внутренними водами Дании.Во-вторых, как раз на берегу Зунда (или Эресунн, как его ещё называют) располагался Копенгаген, столица Датско-норвежской Унии. В столице стоял датский флот. Кстати, довольно мощный. И этот флот в случае союза Дании с Францией становился реальной проблемой для Англии.В-третьих, отношения Дании и России ещё со времен Северного союза были довольно теплыми. Подогревало их наличие общего «врага» – Швеции. Были периоды охлаждения пылкой дружбы (готторопский вопрос), но к началу девятнадцатого века дружба вновь окрепла. А Россия на тот момент заключила с Францией Тильзитский мир, чему в Англии были не рады.Ну и в-четвертых, неприятно, когда к твоим берегам приходят охреневшие наглосаксы и нападают на твой флот. Датчане не забыли о нападении 1801 года, и особой любви к Англии не питали.Итак, 1807 год. Дания присоединилась к континентальной блокаде. По большому счету, разборки англичан и французов Дании в Зунд не упёрлись, и выступать на той или иной стороне принц-регент Фредерик не собирался. Его желания мало кого волновали – одному корсиканцу нужен был флот для высадки в Северную Ирландию. Ещё Наполеон изрядно напрягался, имея под боком государство, не определившееся со стороной в войне.Примерно так же напрягались и в Лондоне. Англичанам тоже нужен был датский флот, и не нужен датский нейтралитет, от которого неизвестно чего ждать.«Светочи науки и культуры» с туманного Альбиона с января 1807 пытались понять, что им делать дальше и как себя вести с датским принцем-регентом. Были подковерные интриги с письмами, свидетельствующими о подготовке Дании и Португалии к союзу с Наполеоном, утверждение лорда Пемброка о том, что датский флот готов к выходу в море и ведению войны… В общем, пробирки со стиральным порошком тогда ещё не придумали, но концепция уже была разработана. После заключения Тильзитского мира и присоединении Дании к континентальной блокаде было принято решение отправить к Копенгагену экспедиционный корпус. 22 линейных корабля и до 30ти кораблей поменьше, 30 тысяч солдат. Командовал эскадрой адмирал Гамбье.Где-то там, в этой вот орде «носителей культуры» затерялись шестнадцать гражданских специалистов под руководством Уильяма Конгрива. С учетом того, что расчёт одного наземного станка для пуска ракеты составлял четыре человека, можно сделать вывод и о количестве пусковых установок.
Высадка английских войск
Датская армия в то время стояла на южной границе королевства, ожидая возможного вторжения Наполеона. Прикрываясь опасениями, что датчане с оружием хотят радостно встретить французов, уже 3го августа британский флот занял Большой Бельт и Зунд, отрезав остров Зеландия от континента и заблокировав столицу. 8го августа в Киль, где на тот момент находился принц-регент Фредерик, прибыли английские дипломаты. По мнению англичан, могло быть два развития событий:1.Дания присоединяются к союзу Англии и Швеции и выступили против Наполеона.2.Дания сохраняет нейтралитет, но в залог передает «в депозит» Англии весь свой флот, основные морские порты и крепость Кроненбург.Кронпринц, фактически правящий Данией вместо спятившего отца, изрядно опешил от такого расклада. Тем не менее дураком он не был, и затягивал переговоры, пользуясь каждым выигранным днём. Он эвакуировал недееспособного родителя из Копенгагена, что бы тот не подписал ничего лишнего, и отдал приказ готовить столицу к обороне. Англичане расстроились, и высадили десант в ночь с 15 на 16 августа.Примерно в те дни впервые ракеты Конгрива были использованы в сражениях между кораблями. Под шутки и хохот английских моряков расчёты безуспешно пытались попасть в датские канонерки.К концу августа англичане осадили Копенгаген. Гамбье и Кэткарт (командующий наземными силами) распространяли агитки, в которых объясняли, что англичане пришли причинять любовь и насаждать мир. Не прокатило, и 29 августа у города Кёге состоялась наземная битва. Датчане были разбиты, англичане сочли факт избиения датских крестьян своей профессиональной армией за великую победу, а сам факт нападения ополченцев – нарушением нейтралитета.1 сентября командующему обороной Копенгагена, генералу Пейману, был направлен ультиматум.2 сентября, разобравшись с тем, куда именно они были посланы, англичане начали обстрел города.
Бомбардировка Копенгагена
Красными кругами помечены позиции «новых батарей» Конгрива, в легенде подчеркнута расшифровка.Бомбардировка началась в 19.30 2 сентября 1807 года.Три дня по Копенгагену шмаляли со всего, что подходило под определение «артиллерия». А ночами небо рассекали огненные хвосты невиданного оружия.Уходить в подробное описание бомбардировки не буду. Важен тот факт, что не менее трети города лежало в руинах. Рухнула башня городского собора.Сложно оценить долю разрушений, нанесённых ракетами Конгрива. Некоторые авторы указывают, что выпущено было 25000 или даже 40000 ракет. Сам же Конгрив в отчёте об испытаниях указывал вполне скромную цифру в 300 пусков.Эти триста ракет полностью выполнили свою задачу. Резкий звук летящего снаряда, росчерк и огненных хвостов в ночном небе. И пожары. Сложно защищать родной город, видя, как он полыхает за твоей спиной, правда?За три дня бомбардировки было выпущено более 14000 пушечных снарядов, и около 300 ракет. И именно ракетам Конгрива приписывают главную заслугу в столь «блистательной победе».7 сентября раненый генерал Пейман сдал город. Приказ кронпринца Фредерика «флот сжечь, но англичанам не сдавать» либо не был вовремя доставлен, либо был проигнорирован.
Реакция и последствия
В те благословенные для Англии времена ещё не существовало понятия «военное преступление». В правительстве радостно звучали призывы лорда Калсри оккупировать остров Зеландия. Некоторые тяжело больные гуманизмом члены Парламента выступали с осуждением благородного нападения на нейтральную державу и блистательных побед над крестьянским ополчением в «Битве Деревянных Башмаков» при Кёге и сожжении трети столицы нейтральной державы.Естественно, подобный акт «причинения добра по-британски» вызвал бурную реакцию и у других держав. И Париж и Санкт-Петербург выразили своё возмущение. В Лондоне заявили, что всё это пропагандистская шумиха, и вообще – сами хотели захватить. Но не успели, вот и беситесь. А добрые британцы спасли Данию от злых захватчиков.Вся эта политическая возня привела к началу Англо-Русской войны 1807–1812 годов и Англо-Датской войны, названной Войной канонерских лодок – другого флота у датчан не осталось.Пока недовольные страны выражали обеспокоенность и возмущались, англичане забрали себе датский флот – 18 линейных кораблей и 16 фрегатов, плюс более сорока кораблей меньшего размера.Уильям Конгрив уже в декабре 1807 года предоставил отчёт, в котором восхвалял свои ракеты и сетовал на то, что под Копенгагеном у него их было слишком мало. Английская пропагандистская машина раскрутила свой маховик, и вся Европа знала, что у англичан есть суперстрашная вундервафля, которой они могут сжигать города.Недолго ракеты были ноу-хау британской армии. В 1809 году они уже появились у Дании (не все ракеты в Копенгагене сгорели), в 1808 году – в Австрии. Как показала история, играть в «изобретения» можно толпой.