Экспериментальный подход к исследованию ономастической лексики
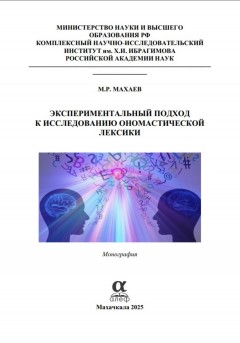
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ им. Х.И. ИБРАГИМОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
––
М.Р. МАХАЕВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЮ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
Монография
Махачкала
2025
УДК 001.12
ББК 70
С-23
Рекомендовано к печати Ученым советом КНИИ РАН (протокол №3 от 26.03.2025)
Рецензенты: д-р фил. наук, проф. Е.Ю. Мягкова
д-р фил. наук, доц. А.В. Рудакова
Махаев М.Р.
М-36 Экспериментальный подход к исследованию ономастической лексики. – Махачкала: «Алеф», 2025. – 400 с.
ISBN 978-5-00212-683-5
Монография посвящена изложению результатов экспериментальных исследований семантики ономастической лексики, проведенных автором под руководством профессора Иосифа Абрамовича Стернина. В список лексем-стимулов для эксперимента были включены топонимы русского языка, отобранные методом случайной выборки. Эксперимент проводился на Северном Кавказе и в Центральной России. Общий контингент испытуемых составили 730 студентов местных высших учебных заведений.
В процессе обработки полученного экспериментального материала использовалась методика дифференциального психолингвистического описания семантической структуры лексических единиц, разработанная воронежской психолингвистической школой.
По итогам экспериментов подтверждена гипотеза, согласно которой семантика онимов изоморфна структуре и содержанию сознания носителей языка (гипотеза конгруэнтности).
Книга представляет интерес для ученых-специалистов, студентов и аспирантов, занимающихся проблемами общей и теоретической лингвистики, философии языка, психологии, этнологии, культурологии.
ISBN 978-5-00212-683-5
© Махаев М.Р., 2025
© Издательство АЛЕФ, 2025
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ. ПАМЯТИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ –
ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА И ГЕНИАЛЬНОГО
УЧЕНОГО
ИОСИФА АБРАМОВИЧА СТЕРНИНА 5
ВВЕДЕНИЕ 8
ГЛАВА 1. ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 12
1.1. Место и роль ономастической лексики
в системе языка 12
1.2. Топоним как специфический разряд онимов.
Семантический статус топонимов 19
1.3. Психолингвистическое значение
как феномен языкового сознания 30
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМАНТИКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 40
2.1. Методики лингвистического интервьюирования 40
2.2. Методики психолингвистического эксперимента 55
2.3. Опыт применения экспериментальных методик
в современных исследованиях семантики
имен собственных 66
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ (на материале топонимов) 86
3.1. Предварительные замечания к проведению
ассоциативного эксперимента 86
3.2. Описание плана экспериментального исследования.
Обработка данных 92
3.3. Интерпретация результатов экспериментального
исследования 96
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 159
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 161
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ассоциативные поля
стимулов-топонимов (грозненский эксперимент, Grz) 174
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ассоциативные поля
стимулов-топонимов (дербентский эксперимент, Drb) 204
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ассоциативные поля
стимулов-топонимов (воронежский эксперимент, Vrz) 217
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Статьи автора на английском языке,
переведенные на русский язык 224
4.1. Экспериментальные методы выявления
психолингвистических значений топонимов 224
4.2. Теоретико-методологические
основания экспериментальных исследований
семантики имен собственных и языкового сознания 232
4.3. Обзор экспериментальных методов
исследования семантики имен собственных 243
4.4. Ассоциативный эксперимент как эффективный
метод исследования языкового сознания студентов 252
4.5. Способы выявления и описания психолингвистических значений топонимов (по результатам
психолингвистических экспериментов) 263
4.6. Коэффициент лексического разнообразия
ассоциативного поля в различных условиях вычисления 275
4.7. Региональная специфика семантики топонимов:
психолингвистическое исследование 288
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПАМЯТИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ –
ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА
И
ГЕНИАЛЬНОГО УЧЕНОГО
ИОСИФА АБРАМОВИЧА СТЕРНИНА
Фото: https://bbr.yamaha-motor.ru/about/experts/sternin-iosif/
Экспериментальные исследования, результаты которых изложены в настоящей книге, проводились мною под руководством доктора филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, руководителя воронежской психолингвистической школы Иосифа Абрамовича Стернина.
5 марта 2022 года жизнь Иосифа Абрамовича оборвалась…
Год спустя, к его 75-летию, в издательстве «Истоки» вышла книга воспоминаний студентов, аспирантов, докторантов, коллег, друзей и родных Иосифа Абрамовича. Редактор-составитель книги – сестра Иосифа Абрамовича доктор филологических наук, профессор М.А. Стернина отмечала: «… Судьба распорядилась так, что этот юбилей его коллеги, друзья и ученики отмечают без него. Но у всех нас остались воспоминания о нем – у каждого свои, но неизменно искренние и
благодарные» [3].1
Иосиф Абрамович Стернин остался в моей памяти не только отзывчивым, мягким и добродушным человеком, но и гениальным ученым, который внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой лингвистики.
До знакомства с научными работами Иосифа Абрамовича я был убежден, что в лингвистике есть только один тип значения, достойный научного изучения; речь идет о системном (лексикографическом) значении.
Однако многочисленные экспериментальные исследования
показывали, что лексические единицы обладают еще одним типом значения, который «обнаруживается» в процессе обращения к носителям языка в рамках экспериментальных сессий. В воронежской школе этот феномен получил название «психолингвистическое значение». В отличие от системного значения, которое представлено в толковых словарях, психолингвистическое значение функционирует в языковом сознании носителей языка.
Изучив множество работ Иосифа Абрамовича, я убедился,
что открытие и описание значения такого типа дает мощный импульс к дальнейшему развитию отечественной и мировой лингвистики в целом. Я решил присоединиться к экспериментальным проектам И.А.Стернина.
В 2018 году нами была поставлена задача экспериментально проверить гипотезу, согласно которой семантическая структура имен собственных изоморфна структуре языкового сознания носителей языка2. Эксперименты проводились на Северном Кавказе и в Центральной России. Общий контингент испытуемых составили 730 студентов местных высших учебных заведений.
Данная монография является окончательным итогом наших исследований, и я посвящаю ее Иосифу Абрамовичу Стернину, память о котором навсегда останется в сердцах его учеников.
М.Р. Махаев
ВВЕДЕНИЕ
Исследование языковых феноменов в рамках антропоцентрической парадигмы (anthropocentric paradigm) является одной из главных тенденций в современной лингвистике, свидетельствующей о смещении исследовательской активности «от лингвистики “имманентной” с ее установкой рассматривать язык “в самом себе и для себя” к лингвистике антропологической, предполагающей изучать язык в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью» [66, с.92].
Истоки антропоцентрической парадигмы восходят к работам В. фон Гумбольдта, Х. Штейнталя, А. Потебни и др.
Как отмечал Р. Павиленис, человек не является пассивным референтом языковых высказываний; он – активный интерпретатор речевых высказваний и носитель концептуальных систем, позволяющих ему познавать и понимать язык, мир, а также коммуницировать с другими людьми [59].
В рамках антропоцентрической парадигмы в лингвистике появился новый объект исследования – языковое сознание как совокупность взаимосвязанных психических механизмов порождения и интерпретации речи, обеспечивающих речевую деятельность.
В связи с этим в современной лингвистике возникла устойчивая тенденция активного применения экспериментальных методов, предполагающая непосредственное обращение к языковому сознанию носителей языка. Обработка и интерпретация экспериментальных данных позволяют выстраивать простые модели (ассоциативные поля) и сложные модели (психолингвистические значения) языкового сознания и получать достоверные сведения о значениях лексических единиц, реально функционирующих в сознании носителей языка.
Экспериментальные методы исследования также стали активно проникать в ономастику и успешно применяться в исследованиях значений имен собственных.
Несмотря на то, что главная функция имен собственных состоит в обозначении единичных предметов реального или воображаемого мира, их номинативная функция по своей сути антропоцентрична.
Как верно заметил В. Супрун, «всё, что существует в мире, окружающем человека, и возникает в его фантазиях, получает наименование только потому, что имеет значение для человека, оказывается в центре его дел, интересов, мечтаний» [71, с.100].
На сегодняшний день создан крепкий теоретический фундамент для дальнейшего изучения (в том числе экспериментальными методами) семантики ономастической лексики. В течении XX века отечественные и зарубежные лингвисты внесли значительный вклад в развитие теории имен собственных: А. Суперанская, В. Супрун, В. Бондалетов, В. Никонов, Н. Бирилло, А. Бах, А. Гардинер, К. Хандке, В. Сталтмане, Н. Подольская, Ю. Карпенко, Л. Климкова, Е. Березович, В. Топоров, Е. Курилович, А. Белецкий, А. Алейникова, И. Стернин, А. Рудакова, Т. Егорова, В. Нерознак, А. Живоглядов, В. Бланар, Е. Пулгрэм, В. Нимчук и др.
Экспериментальные методы сегодня применяются в исследованиях топонимов, антропонимов, ойконимов и др. разрядов имен собственных [9, 21, 53, 60, 71, 76].
Несмотря на значительное количество работ, в лингвистической литературе недостаточно фундаментально изучена реальная семантическая структура имен собственных.
Исследования, результаты которых изложены в настоящей монографии, проводились с целью описания реальной семантической структуры ономастической лексики (на материале топонимов).
Для достижения данной цели ставились следующие задачи:
─
Обзор и критический анализ проблемы описания семантики имен собственных (и топонимов, в частности).
─
Формулировка и адаптация
принципов экспериментального исследования и описания семантики имен собственных на базе семной семасиологии.
─
Проведение ассоциативных лингвистических экспериментов с отобранными стимулами; построение ассоциативных полей стимулов.
─
Интеграция и семантическая интерпретация ассоциативных полей.
─
Формулировка психолингвистических значений имен собственных в виде словарных статей. Описание полевой организации семантики – выявление ядра и периферии в структуре значения (распределение сем в структуре значения в соответствии с их индексами яркости).
─
Контрастивный анализ психолингвистических значений.
Гипотеза исследования состояла в том, что семантическая структура имен собственных изоморфна структуре и содержанию языкового сознания носителей языка. Данная гипотеза была названа «гипотезой конгруэнтности».
Гипотеза конгруэнтности раскрывается в трех следующих тезисах:
1. Онимы обладают специфической семантикой, имеют определенный смысловой объем. Реальное значение онимов функционирует в языковом сознании носителей языка. Следовательно, выявление значений онимов предполагает лексикографирование языкового сознания.
2. Онимы понимаются и употребляются в речи не в объеме словарных статей, а в широком смысловом объеме, который варьируется в зависимости от различных (в частности, территориальных) параметров.
3. Семантическая структура онимов дифференцируется в языковом сознании и различается у определенных категорий носителей языка.
Для подтверждения гипотезы конгруэнтности был использован комплекс экспериментальных методик, позволяющий получить оперативный доступ к языковому сознанию современных носителей языка.
Моделирование языкового сознания по результатам обработки и интерпретации экспериментальных данных позволяет получить достоверные сведения о реальной семантической структуре имен собственных.
Теоретико-методологической базой исследования являются теоретические положения воронежской психолингвистической школы, опубликованные в соответствующих научных трудах [13, 45, 77, 78, 79, 80].
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в получении новых научных данных о семантической структуре ономастической лексики, которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях природы и функций имен собственных.
Результаты исследований также создают теоретическую и методологическую базу для дальнейшего развития нового раздела в лингвистике – экспериментальной ономастики.
Практическая значимость работы состоит в том, что изучающим русский язык, как иностранный, результаты исследований помогут усовершенствовать знания изучаемого языка. Лингвокультурологи получат сведения, необходимые для анализа мировоззренческих установок и культурных стереотипов тех или иных этно-территориальных групп.
ГЛАВА 1. ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
.1.
Место и роль ономастической лексики в системе
языка
Ономастическая лексика является неотъемлемой частью словарного состава любого естественного языка.
Имена собственные встречаются практически во всех функциональных стилях и сферах употребления языка.
Номинируя конкретный объект, имя собственное соединяет внеязыковую реальность с языком и приобретает тем самым статус полноправной лексической единицы, которая функционирует в соответствии с языковыми законами (специфически преломляя их) и вместе с тем порождает собственные закономерности, отсутствующие в языке.
Онимы образуют в языковой системе специфическую подсистему, имеющую двойственную природу: с одной стороны, онимы обращены к системе языка, а с другой – к системе предметных знаний.
Важным свойством онимов является повышенная предметность, т.е. наличие более тесной связи с обозначаемым объектом по сравнению с апеллятивами, для понимания которых бывает достаточным абстрактной и неопределенной предметности.
Онимы, как и любые иные полноценные лексические единицы, выполняют широкий спектр базовых функций (номинативная, дейктическая, коммуникативная, дифференцирующая, фатическая, эстетическая и др.).
Сопоставительные исследования онимов разных типов, обнаружение их специфических свойств и закономерностей развития приводят ученых к важному выводу: ономастические универсалии основываются на таких общих свойствах мышления, как отбор и закрепление типовых явлений экстралингвистического характера [81].
Исследование имен собственных имеет достаточно давнюю историю [52, 56].
Выделение онимов в качестве специфического подкласса в классе имен было осуществлено в европейской науке представителями стоической философии еще в III веке до н.э.
Долгое время проблематикой имен собственных в основном занимались философы и логики (Платон, Аристотель, Милль, Рассел и др.).
Только во второй половине XX века оформляется ономастика, как отдельная лингвистическая дисциплина, изучающая генезис имен собственных, их развитие, природу, состав и функции.
В современных ономастических исследованиях активно изучаются проблемы функционирования антропонимов в художественных произведениях [1, 6, 71, 72], этнолингвистические, культурологические и семиотические аспекты в ономастике [7, 10, 32, 37, 51], механизмы двойной референции в возникновении антропонимов и топонимов [27], отличительные особенности онимов и апеллятивов [38, 96], морфологическая и фонологическая структура имен собственных [73] и т.д.
В настоящее время разработаны различные теории имен собственных, даны многочисленные их определения [3, 98, 110].
А. Суперанская определяла онимы в качестве индивидуальных обозначений, имеющих ряд отличительных признаков:
а) индивидуальность (обозначается не класс объектов, а индивидуальные объекты);
б) четкая определенность, отграниченность и очерченность обозначаемого объекта;
в) внепонятийность (отсутствие непосредственной связи с понятием и однозначной коннотации) [74].
Н. Подольская в своем определении подчеркивает, что в качестве имени собственного могут выступать не только отдельные слова, но и словосочетания и даже предложения, предназначенные для выделения обозначаемых ими предметов среди множества других предметов, их идентификации и индивидуализации [61].
Кроме того, Н. Подольская указывает, что все имена собственные в национальном языке образуют ономастическое пространство, как непрерывный ряд сменяющихся типов, которые формируют в конечном счете взаимосвязанные ономастические поля.
В работе [39] отмечается, что ономастическое пространство является динамично развивающимся явлением. Динамика ономастического пространства обеспечивается рядом языковых процессов, таких как онимизация апеллятивов, искусственного создания онимов на базе лексической системы языка, заимствования из иностранных языков и др.
О. Фонякова относит онимы к функционально-семантической категории имен существительных, предназначенных для идентификации одушевленных и неодушевленных единичных предметов и отражающих общие представления о них в культуре того или иного народа, а также единичные понятия [90].
И. Алексеева определяет имена собственные в качестве группы лексики, которая обладает свойством однозначной соотнесенности с объектами действительности; следовательно, оним может репрезентировать свой денотат как исключительный, никак не обобщаемый феномен действительности [2].
В «Русской академической грамматике» имена собственные рассматриваются в качестве лексически ограниченной группы слов, обозначающих индивидуальные предметы из класса однородных; при этом онимы сами не указывают на этот класс. В «Русской академической грамматике» также подчеркивается, что граница между онимами и апеллятивами является непостоянной и изменчивой, поскольку апеллятивы со временем могут становиться собственными наименованиями, а онимы использоваться для обозначения однородных объектов и переходить в разряд апеллятивной лексики.
Одним из распространенных на современном этапе развития ономастики является лингвокультурологический подход, в соответствии с которым оним трактуется как ценностно-культурный феномен, отражающий исторический и социокультурный опыт носителей языка.
В языке и речи (например, в прецедентных текстах и фразеологических оборотах) имена собственные функционируют в качестве этнокультурных компонентов.
Лингвокультурологический анализ таких текстов позволяет выявить особенности того или иного этноса, характерные черты языковой личности, изучить состояние и динамику национального сознания [39, 50].
Настоящее исследование проводится на основе оригинального определения имени собственного, как языкового знака, обозначающего уникальные объекты реальной и фиктивной действительности, семантическая структура которого детерминируется состоянием и динамикой развития языкового сознания носителей языка. Семантика имен собственных изоморфна языковому сознанию.
В заключении дадим обзор классификаций имен собственных.
В современной лингвистике выделяются различные типы классификации ономастической лексики: предметно-номинативная (по связи имен с обозначаемыми объектами), структурная, хронологическая, стилистическая, эстетическая и др. [74].
Алан Гардинер разделял имена собственные в зависимости от их привязки к реальным объектам на «воплощенные» (или «телесные») и «развоплощенные» (или «бестелесные») [98].
Разница между ними состоит в том, что «телесные» имена привязаны к конкретным лицам, территориям и т.п. (например, А.С. Пушкин, река Волга), а «бестелесные» такой привязанности не имеют (например, Александр, как личное имя).
О. Фонякова выделила 8 групп имен собственных [90]:
1.Антропонимы, которые обозначают личные имена, прозвища, псевдонимы, имена известных лиц.
2.Топонимы, обозначающие географические объекты.
3.Космонимы, обозначающие космические объекты.
4.Зоонимы (клички животных).
5.Хромонимы, обозначающие исторические события и периоды.
6.Теонимы, мифонимы, отражающие имена божеств и мифических персонажей.
7.Имена, обозначающие литературные (художественные) объекты.
8.Хрематонимы – обозначение объектов духовной и материальной культуры народов.
В классификации А. Баха имена собственные распределены в 7 классов:
1) Имена, обозначающие живые существа или существа, считающиеся живыми.
2) Имена, обозначающие вещи (транспорт, наименование космических объектов, наименование территорий и т.д.).
3)Имена, обозначающие учреждения, общества.
4) Имена, обозначающие действия (игры, танцы и т.п.)
5) Имена, обозначающие идеи (планы, произведения литературы и т.п.).
6) Имена, обозначающие музыкальные мотивы и музыкальные произведения [74].
С. Влахов в работе «Непереводимое в переводе» заметил важную деталь: если референты онимов рассматривать по свойству одушевленности, то все имена собственные можно распределить на два больших класса: имена, обозначающие одушевленные объекты (антропонимы, зоонимы) и имена, обозначающие неодушевленные объекты (топонимы, астронимы и др.) [15].
Такой универсальный критерий лег в основу классификации онимов, разработанной А. Суперанской.
Она выделила три группы имен собственных, каждую из которых разбила на несколько подгрупп:
1.Имена живых существ и имена существ, которые воспринимаются как живые.
1.1.Индивидуальные и групповые антропонимы (фамилии, имена, отчества, псевдонимы).
1.2.Индвидуальные и групповые зоонимы (клички животных).
1.3.Мифонимы (имена собственные вымышленных объектов).
2.Обозначение неодушевленных объектов.
2.1.Топонимы (обозначение географических объектов).
2.2.Хрематонимы (обозначение объектов материальной культуры).
2.3.Фитонимы (обозначение растений).
2.4.Космонимы и астронимы (обозначение созвездий и небесных тел).
2.5.Фирменные наименования.
2.6.Наименование средств передвижения.
3.Обозначение комплексных объектов.
3.1.Наименование учреждений, объединений, фирм.
3.2.Хрононимы (обозначение исторических отрезков времени).
3.3.Наименование органов печати.
3.4.Наименование стихийных бедствий.
3.5.Наименование юбилеев, праздников.
3.6.Наименовение произведений искусства.
3.7.Фалеронимы (обозначение орденов, медалей).
3.8.Документонимы.
3.9.Наименование мероприятий, военных кампаний.
Настоящее исследование ориентируется на классификацию имен собственных, предложенную Международным советом ономастических наук (International Council of Onomastic Sciences (ICOS).
Anthroponym (антропоним) – имя человека, имя личное, прозвище, псевдоним.
Аstronym (астроним) – обозначение звезд, созвездий и иных небесных тел.
Сharactonym (характоним) – обозначение героев художественных произведений.
Chrematonym (хрематоним) – обозначение неодушевленных объектов (напр., учреждений культуры и др. организаций).
Endonym (эндоним) – обозначение, которое используется местными жителями по отношению к определенной местности.
Ergonym (эргоним) – обозначение деловых объединений (напр., коммерческих предприятий, союзов и т.п.).
Ethnonym (этноним) – обозначение народов, народностей, племен.
Exonym (экзоним) – имя, которое употребляется жителями одной местности по отношению к жителям другой местности.
Hodonym (одоним) – обозначение улиц и дорог.
Hydronym (гидроним) – обозначение озер, рек, морей и иных водоемов.
Hypocoristic (гипокористика) – обозначение разговорных (неофициальных) имен.
Metronym (метроним) – родовые имена, присваиваемые ребенку по имени матери.
Oikonym or oeconym (ойконим) – обозначение городских (астионимы), сельских (комонимы) и иных поселений.
Oronym (ороним) – обозначение объектов рельефа земной поверхности.
Patronym (патроним) – родовое имя, присваиваемое ребенку по имени отца.
Teknonym (тектоним) – имя взрослого человека, которое присваивается по имени ребенка.
Theonym (теоним) – обозначение Бога.
Toponym (топоним) – обозначение географических объектов.
Zoonym (зооним) – обозначение кличек животных [86].
Итак, в настоящее время можно фиксировать, что ономастика, как научная лингвистическая дисциплина, сформирована и продолжает развиваться.
Ее проблемное поле включает в себя достаточно широкий круг вопросов: границы ономастической номинации, этапы и природа ономизации апеллятивов и апеллятивизации онимов (феномен деонимизации), объем и содержание ономастического пространства, классификация имен собственных и др.
Не менее актуальным и важным в современной ономастике является вопрос о семантическом статусе имен собственных.
Экспозиция данной проблемы представлена в следующем параграфе монографии.
1.2. Топоним как специфический разряд онимов.
Семантический статус топонимов
Экспериментальное исследование семантики имен собственных проводилось нами на материале топонимов. Поэтому следует дать характеристику этому специфическому разряду ономастической лексики.
Топонимы (от др.-греч. τόπος – место и ὄνυμα – имя, название) составляют значительную долю в ономастической системе того или иного языка и изучаются в рамках топонимики – одного из разделов ономастики.
В работе [4] топоним рассматривается в качестве символа естественного языка, который обозначает топологический объект на планете Земля.
В «Энциклопедическом словаре-справочнике лингвистических терминов и понятий» топоним определяется, как слово или словосочетание, используемое для обозначения географического объекта и применяемое в качестве имени собственного с учетом этнокультурной специфики (языка, традиций, письменности народов) [95].
Более широкое и комплексное определение дает В. Подольская.
Она определяет топоним в качестве разряда имен собственных, который обозначает собственное наименование как природных, так и искусственно созданных объектов [61]. Возьмем данную дефиницию за основу.
Существуют различные классификации топонимов, которые различаются теми или иными принципами и критериями, положенными в их основу (словообразовательные, морфологические, лексико-семантические) [46].
Наиболее ценной представляется лексико-семантическая классификация топонимической лексики. См., классификации А. Селищева, В. Жучкевича, К. Лысенко, И. Королевой [там же].
Как было отмечено ранее, одной из центральных в современной ономастике является проблема наличия у имен собственных лексического значения.
Лексическое значение слова, как соотнесенность между ее звуковым комплексом, денотатом и представлениями об объекте, является ее ключевым отличительным признаком.
Имена собственные так же имеют звуковую оболочку, соотносимую с обозначаемым объектом (денотатом).
Проблема заключается в наличии в структуре имен собственных понятийного содержания.
Относительно данного вопроса в современной лингвистике до сих пор не выработана единая точка зрения.
Не претендуя на исчерпывающий анализ истории вопроса о семантике топонимов, дадим обзор некоторых концепций, репрезентирующих основные точки зрения относительно обсуждаемой проблемы и позволяющих получить общие представления о ней.
Традиционно считалось, что природа имен собственных находится вне понятийной сферы, и никаким особым лексическим значением онимы не обладают.
Например, английский философ Джон Милль (1806-1873) полагал, что онимы являются метками, ярлыками, которые позволяют узнавать и различать обозначаемые объекты, но не описывать (не характеризовать) их; то есть онимы не обладают значением (не передают какой-либо информации об объекте).
Таким образом, согласно взглядам Милля, имена собственные исключительно «денотируют» объекты, а не коннотируют их, как апеллятивы.
Такой точки зрения придерживался и английский лингвист А. Гардинер, изложивший свою концепцию в работе «Теория имен собственных» [98].
Основной функцией онима Гардинер называл отождествление. Осуществляется отождествление благодаря различительному звуку (т.е. звуковой оболочки имени собственного), при этом независимо от того значения, которое присуще этой звуковой оболочки.
Е.М. Галкина-Федорук полагала, что онимы являются исключительно различающими знаками, и они никак не связаны с понятийной системой и не имеют лексического значения [91].
А. Реформатский в своих исследованиях пришел к выводу, что значение онимов исчерпывается их номинативной функцией, т.е. их отношением к обозначаемому объекту (классу объектов), при этом никаких понятий онимы не выражают [64].
Существует и противоположная интерпретация данного вопроса.
Так, О. Есперсен полагал, что имена собственные «коннотируют» большое число признаков (больше даже, чем апеллятивы).
В качестве примера Есперсен приводит случаи первого знакомства с объектом, когда ничего кроме имени о нем неизвестно; по мере дальнейшего знакомства с объектом его имя наполняется конкретным содержанием.
О. Есперсен указывал, что аналогичные процессы имеют место и в отношении апеллятивов: по мере роста знаний об объекте, обозначаемым именем нарицательным, происходит и рост его коннотаций (значений).
О. Есперсен пришел к выводу об отсутствии четкой границы между онимами и апеллятивами, поскольку различие между ними носит количественный, а не качественный характер [33].
На современном этапе развития ономастики представлены различные подходы, опирающиеся на разные теоретические платформы и научные парадигмы [40, 41, 49].
Г. Сызранова полагает, что в отношении к онимам целесообразно говорить не о семантике, а о разных типах информации, которые содержатся в них: речевой, языковой и энциклопедической [81].
Ономастическая лексика отличается от апеллятивной объемом и характером заложенной в ней информации.
Н. Подольская подчеркивала, что онимы не имеют непосредственной связи с понятием, а их основное значение находится в связях с денотатом [62].
Сходная позиция была изложена в «Русской грамматике»: поскольку имя собственное обозначает индивидуальный объект, который входит в класс однородных объектов, но при этом никак не указывает на этот класс, оно (имя собственное) не имеет какого-либо лексического значения, а тем или иным образом соотносится с референтом.
М. Голомидова указывает на высокий прагматический коэффициент имен собственных ввиду их знаковой природы. Прагматическая ценность привносится во многом благодаря индивидуализирующей функции именного знака. М. Голомидова сравнивает онимы с этикетками, которые приклеиваются человеком избирательно.
Функциональную языковую семантику онима она сводит к знаку-выделителю, посредством которого маркируются некоторые классы реалий.
Такие свойства именных знаков, как притяжение дополнительных смыслов, прирост созначений обуславливают специфику их семантической структуры. М. Голомидова признает, что понятийное ядро имен собственных является скромным, их содержание обогащается посредством предметного содержания, известного участникам коммуникации, а также фоновой культурной информации, коннотативного элемента и семантического потенциала внутренней формы [18].
Таким образом, прагматически окрашенная семантика прирастает к языковому ядру именного знака.
Н. Васильева в своих исследованиях природы имен собственных обнаружила важную составляющую. Дело в том, что имена, будучи языковыми ярлыками, в то же время в речевых актах способны передавать адресату дополнительную информацию (например, знания о национальной принадлежности или социальном статусе именуемого объекта).
Кроме того, в процессе своего развития онимы накапливают различные ассоциативные ряды, концентрирующие вокруг себя фоновые знания [11].
Ранее мы подчеркивали, что в последние десятилетия в лингвистике широкое распространение получил антропоцентрический подход к исследованию языковых феноменов.
Эта тенденция свидетельствует о смещении исследовательской активности «от лингвистики «имманентной» с ее установкой рассматривать язык «в самом себе и для себя» к лингвистике антропологической, предполагающей изучать язык в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью» [66, с.92].
В рамках антропоцентрического подхода наметились две основные теоретико-методологические линии исследования семантики имен собственных: лингвокультурологическая и психолингвистическая.
С позиций лингвокультурологии семантика онима рассматривается в качестве культурно обусловленного феномена и интерпретируется в терминах культурных кодов, культурных символов и стереотипов.
Так, в работе [39] все имена собственные рассматриваются в триаде «язык-нация-культура», отражающая тесную связь культуры и языка, а также единство лингвистического и экстралингвистического содержания.
На материале анализа антропонимов делается вывод о том, что они (т.е. антропонимы) являются знаками культуры в составе текстов семиотического пространства.
Авторами выделяется специфический класс лексики, имеющего как денотативные, так и сигнификативные (а также структурно-языковые) отношения – энциклопедический оним.
Энциклопедический оним представляет собой знак, функционирующий в особом этнокультурном пространстве, которое задает определенные аксиологические параметры (ценностные смыслы).
Подобные выводы делаются и относительно семантики топонимов.
С точки зрения лингвокультурологической функция топонимов не ограничивается именованием или идентификацией географических объектов [42]. Семантика топонимов содержит этно-культурную компоненту, которая отличается страноведческой репрезентативностью и является вместилищем культурно-исторических ассоциаций [84].
То, что топонимы имеют достаточно высокую национально-культурную маркированность, было показано в экспериментах ученых из Югорского государственного университета и Российского университета дружбы народов, которые были проведены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра [4]. Они рассматривали эксперимент, как один из способов определения специфики восприятия имен собственных представителями различных народов.
Испытуемые – студенты 1-3 курсов Югорского государственного университета должны были в течение одной минуты записать первые пришедшие в голову слова (ассоциации) на стимул-гидроним «Манья».3 Количество реакций не ограничивалось.
В эксперименте участвовали граждане Российской Федерации, для которых русский язык является родным (72 человека), а также граждане Российской Федерации, для которых русский язык не является родным (49 человек) – представители народов ханты и манси.
Как показали результаты эксперимента, ассоциативные реакции русских коренным образом отличались от ассоциативных реакций народов ханты и манси.
Представители ханты и манси выбирали синтагматический тип ассоциирования. Первой ассоциацией на стимул «Манья» был гидроним (Манья – река) или ойконим – в общей сложности 80 % всех ассоциативных реакций.
У русских испытуемых «на формальные звуковые сходства онима-стимула и его ассоциацией приходится 72% от всех единичных (периферийных) «моя, имя, мантия, молния, мания» (5%) по скользящей шкале до «манки (манной крупы)» (5 реакций – 7%) через трансформации антропонима «Маша (Маня, Манька)» (13 единиц – 19%) к центру поля, представленного значительным количеством ассоциаций со словом «маньяк» (29 реакций – 41%)» [4, с.610].
По итогам эксперимента коллеги пришли к следующим выводам (приводим цитату из статьи):
«1. Студенты – ханты и манси – знакомы с топообъектом и либо ассоциируют географическое наименование с самим объектом (бывали в тех местах, видели на карте, слышали, читали…), либо, владея родным языком, предлагают в качестве ассоциации дословный перевод онима. Следовательно, при ассоциировании
для респондентов ханты и манси характерно неразличение топоназвания и топообъекта – срабатывает поиск немедленной аналогии между предметом и словом, вместо различения
деталей. Видимо, той же стратегией пользуются 14% русских по национальности участников фокус-группы, которым либо знаком топообъект или его наименование, либо знакомы основы мансийского языка, накладывающие отпечаток на сознание.
2. Русские участники эксперимента (71%),
вероятно, никогда не слышали ни о географическом объекте, ни о топониме. При идентификации, осмыслении незнакомого топонима, оформленного по правилам родного (русского) языка, используют такую стратегию сходства звукобуквенного комплекса, благодаря которой пытаются установить смысловые связи между
сходными по звучанию словами, функционирующими в их речи, значения которых им известны… <…> предположим, что испытуемые выделяют некоторые опорные звуки, сочетания
звуков, ассоциируя их с известными лексемами
в родном языке. То есть, малоизвестный (неизвестный) топоним при истолковании его значения рассматривается как слово родного языка: например, в случае с реакцией «Маня» исчезает «ь», в случае с «маньяк» – добавляется «к».
3. С точки зрения формально-грамматических особенностей ответы респондентов представлены в наших материалах реакциями-предложениями, словосочетаниями и словоформами. Причём реакции предложения встречаются только у представителей коренных народов (13
из 49 – 27%). У ханты – сложноподчинённые
конструкции, содержащие элемент сомнения, предположения: «Это река, которая, наверное, несёт очень много пользы»; «Думаю, что это
мансийское название реки, так как «мань» –это, наверное, «манси», я – «река»».
У манси – сложноподчинённые предложения утвердительного характера: «Маленькая деревня, которая сейчас уже не существует»; «Аманья в переводе с мансийского обозначает «маленькая река»», а также предложения с разными видами связи: «Манья в переводе с мансийского языка означает «маленькая река», раньше была деревня Аманья, которая сейчас не существует» [4, сс. 610-611].
В этом отношении топоним действительно является частью культурной среды того или иного этноса, отражающий его мироощущение и мироконструирование.
В настоящее время во многих работах преобладает мысль о природе топонима как свернутого кода культуры [12].
И. Королева пишет, что в процессе декодирования происходит раскрытие информационного поля топонима, которое содержит информацию разного типа (языковую, социальную, историческую, культурологическую и др.) [46].
И. Бубнова полагает, что наиболее эффективным способом декодирования информации в содержании топонимических единиц является анализ их ассоциативно-культурного фона [9].
Ассоциативно-культурный фон формируется множеством вербальных ассоциаций, связанных с именем собственным в составе фоновых знаний региональной языковой личности.
Региональная языковая личность представляет собой обобщенный образ носителя языка в том или ином регионе, обладающим определенным набором фоновых знаний, одной из основных единиц которых и является имя собственное (в частности, топоним).
Д. Ермолович рассматривает топонимы в качестве своеобразных символических памятников, влияющих на память нации [34].
Топонимы не только идентифицируют и номинируют, но также отражают и сохраняют социальный и исторический опыт народов. В этом отношении верными являются слова А. Суперанской о том, что топонимия является зеркалом истории [74].
Топонимы представляют собой результаты познавательной деятельности человека, осмысленного процесса номинации, приводящей к созданию этноязыковой картины мира [75].
Н. Глазачева выделяет в топонимике каждого этноса уникальные культурные сведения, которые отражают часть его концептосферы [16].
Концептосфера топонимов является вместилищем двух типов знания: она передает знания о мире (внеязыковые знания) и собственно знания о языке (т.е. знания о лингвистических категориях и значениях).
Анализу топонимов в качестве частей концептуальных систем («топонимические концепты») посвящена работа [35].
Л. Иванова пришла к выводу, что топонимические концепты не являются свернутыми знаниями о мире и не обладают набором смыслов, которыми оперирует носитель языка.
Топонимические концепты связаны с ключевыми словами культуры, обладающими 5 признаками: смысловая нагруженность; высокая частотность; известность для носителей культуры; способность порождать ассоциативные ряды; способность к метафорическому употреблению в речи [36].
Топонимические концепты неоднородны. В зависимости от различных критериев они могут идентифицироваться и как ключевые слова культуры, и как культурные концепты или прецедентные феномены.
Л. Иванова полагает, что прежде чем стать ключевым словом культуры или концептом, топоним должен в ходе своего функционирования обогатиться различными коннотациями (периферийными, понятийными, эмоционально-экспрессивными).
В каждой национальной культуре есть ключевые слова, специфичные только для нее. Л. Иванова в своих исследованиях выявила ключевые слова культуры (топонимические концепты) для русских.
В связи с обозначенными выше факторами Л. Дмитриева пришла к выводу о существовании топонимической личности, отражающей проявление человеческого фактора и языкового коллектива в топонимической системе [22].
Культурологический подход к описанию значения топонимов был использован создателями мультимедийного лингвострановедческого словаря «Россия».
Авторы обозначили цель словаря, как попытку оказать содействие изучающим русский язык в усвоении лексических единиц и языковых выражений, которые обладают этнокультурным компонентом семантики и сформировать у них культуроведческие компетенции [50].
Еще одним мейнстримным направлением в исследовании семантики имен собственных в рамках антропоцентрической парадигмы является психолингвистика.
В психолингвистике значение топонимов интерпретируется как особый тип значения, который представлен в языковом сознании носителей языка, реально функционирует в нем (например, в виде образов сознания, овеществленных языковыми средствами) и претерпевает определенные трансформации в ходе развития общества. В рамках такого подхода исследованы значения различных топонимов [25, 94].
Наше исследование так же проведено в рамках психолингвистического подхода; подробнее о теоретических и методологических основаниях наших исследований будет сказано позже.
Таким образом, в рамках второго параграфа была дана экспозиция одной из центральных проблем в современной ономастике, связанной с семантическим статусом имен собственных.
На сегодняшний день предложены разнообразные теории и гипотезы относительно семантики онимов, однако какой-либо единой точки зрения на данную проблему лингвисты не выработали.
Мы согласны с позицией профессора Уральского федерального университета М. Голомидовой, согласно которой в условиях новейшего этапа изучения ономастической лексики необходим поиск новых подходов, которые позволили бы расширить наши знания о специфике имен собственных [18].
Также мы солидарны с Т. Доржиевой, которая подчеркивает необходимость поиска частных методов анализа семантики имен собственных, одним из которых является ассоциативный эксперимент [21]. Ассоциация, как психологическая реакция, является наиболее подходящим инструментом, позволяющим обнаружить и упорядочить семантическое наполнение онимов.
Убеждены, что к единой точке зрения в вопросе о значении имен собственных лингвисты придут благодаря результатам экспериментальных исследований.
Дело в том, что важными индикаторами наличия потенциальной понятийности у имен собственных является возможность выделения ядерных и периферийных, интегральных и дифференциальных семантических компонентов, а также их связь с такими языковыми явлениями, как полисемия, синонимия, омонимия и антонимия.
Поскольку эти явления связаны с понятийной стороной слов, у имен собственных, претендующих на потенциальную понятийность, они должны так или иначе проявляться [86].
Эмпирические методы исследования имен собственных – прежде всего, эксперименты, должны дать ответы на поставленные вопросы. Полагаем, что для обнаружения сигнификативного элемента у имен собственных необходим доступ к языковому сознанию носителей языка, комплексный анализ полученного экспериментального материала, а также применение комбинированных методов исследования и интерпретации данных.
1.3. Психолингвистическое значение как феномен языкового сознания
Как было отмечено во введении, антропоцентрическая парадигма является одной из центральных научных парадигм в современной лингвистике.
Истоки данной парадигмы восходят к работам В. фон Гумбольдта, Х. Штейнталя, А. Потебни и др.
В. фон Гумбольдт отмечал, что язык является посредником между внутренним миром человека, с одной стороны, и миром вещей, с другой. Язык выступает средством формирования его мировоззрения и развития духовных сил.
В. фон Гумбольдт подчеркивал также, что «разные языки по своей сути, по своему влиянию на разные чувства являются в действительности различными мировидениями», а также «своеобразие языка влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка должно включать все, что история и философия связывают с внутренним миром человека» [цит. по 100].
Э. Бенвенист, говоря о неразрывной связи человека и языка, отмечал, что в мире существует только человек, который говорит с другим человеком, и язык тем самым является основой определения самого человека [8].
Э. Бенвенист пишет: «Язык предоставляет в некотором роде “пустые” формы, которые каждый говорящий в процессе речи присваивает себе и применяет к своему собственному “лицу”, определяя одновременно самого себя как я, а партнера как ты. Акт речи в каждый данный момент, таким образом, является производной от всех координат, определяющих субъект» [цит. раб. 8, с.297].
Развивая идеи Бенвениста, Ю.С. Степанов писал, что язык сконструирован по лекалам человека и это отражается в его структуре (т.е. в структуре языка). Следовательно, языковые феномены должны изучаться в соответствии с этими обстоятельствами, и лингвистика всегда будет наукой о человеке в языке и языке в человеке [8].
Традиционно лексикологи описывают значения лексических единиц (онимов, в частности), опираясь на словарные дефиниции. Таким образом, они ставят знак тождества между семантикой лексемы в языке и ее словарным описанием.
Однако в многочисленных и разнообразных контекстах употребления слов, а также в психолингвистических экспериментах обнаруживаются семантические компоненты, не представленные в словарных толкованиях.
Как показывают эксперименты (в частности, наши – см. главу III), значения имен собственных оказываются глубже и объемнее тех, что представлены в традиционных словарях. Эксперимент позволяет выявить множество разнородных сем, семем и семантем.
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что на современном этапе развития лингвистики имеются, по меньшей мере, две крупные лексикографические парадигмы, которые предлагают два типа описания значений лексических единиц.
С одной стороны, это традиционная парадигма, в которой значения лексем описываются в соответствии с принципами редукционизма (т.е. сводятся к основным, ядерным признакам).
Значения лексем, сформулированные в соответствии с принципом редукционизма, являются их лексикографическими (или системными) значениями. Такой классический тип значения формулируется специально для толковых словарей.
Однако лексикографическое значение является искусственным конструктом, созданным специально для толковых словарей на основе минимального количества признаков.
Проблема в том, что представленные в толковых словарях дефиниции лексем не существуют в языке в данном семантическом объеме. Носитель языка понимает и использует лексемы в более широком смысле, что подтверждается, как уже было отмечено выше, экспериментальными исследованиями.
Альтернативный способ описания значений лексем используется в рамках антропоцентрической парадигмы с ее аппаратом углубленного и комплексного описания лексической семантики в опоре на экспериментальные данные.
Экспериментальный подход рассматривает содержание лексем в качестве психологической реальности и позволяет «…установить, ЧТО лежит за словом в индивидуальном сознании и подсознании, какие параметры значения актуальны для пользователя словом» [28, с.8].
Российские психолингвисты в своих исследованиях широко используют термин «языковое сознание» [43, 82, 13, 45, 87, 88].
Ряд ученых справедливо констатируют, что частое использование данного термина в разных контекстах снизило его терминологическую строгость [5].
В то же время в разных работах предпринимается попытка дать его точное и ясное определение.
Е.Ф. Тарасов под языковым сознанием понимает совокупность образов сознания, которые формируются и проявляются посредством лексических единиц [85].
С.Е. Никитина определяет языковое сознание как специфическую структуру, где язык и мысль существуют в виде целостного развивающегося образования [54].
Детальный обзор и анализ определений понятия языкового сознания, а также теоретических и методологических проблем его исследования см. в работах [5, 57].
В воронежской психолингвистической школе принято следующее определение языкового сознания.
Языковое сознание – это совокупность психических механизмов, отвечающих за порождение речи, ее толкование, хранение и обеспечивающих речевую деятельность человека.
Возможно построение двух вариантов моделей языкового сознания: простой и сложной.
В качестве простой модели языкового сознания выступают ассоциативные поля лексических единиц.
Ассоциативное поле лексической единицы – это упорядоченное множество ассоциативных реакций (R), возникающих на вербальные стимулы (S) в процессе ассоциативного эксперимента и расположенных по убыванию частотности (Rn) в ассоциативных словарных статьях.
Воронежская школа не ограничивается построением простых моделей. В результате семантической интерпретации ассоциативных реакций создаются сложные модели языкового сознания.
Сложные модели позволяют получить более объемное и глубинное описание языкового сознания.
Сложной моделью языкового сознания является психолингвистическое значение лексических единиц.
Изучению состава и строения психолингвистического значения посвящены работы [77,78,79,80].
В воронежской психолингвистической школе психолингвистическое значение лексических единиц определяется, как значение, реально функционирующее в языковом сознании носителей языка и представляющее собой упорядоченное множество ядерных и периферийных, интегральных и дифференциальных семантических компонентов (сем).
Итак, в отличие от системного значения, представленного в традиционных толковых словарях, психолингвистическое значение представлено в языковом сознании носителей языка.
Такое разграничение поддерживает И. Г. Овчинникова, определяя лексикографическое значение в качестве словарного толкования, а психолингвистическое в качестве толкования экспериментальных данных, которое позволяет выявить смысловые связи между словами в языковом сознании носителей языка [58].
Мы считаем, что структура и содержание языкового сознания детерминируют семантическую структуру лексем – в частности, имен собственных; структура и содержание языкового сознания изоморфны семантической структуре имен собственных. Эта гипотеза верифицировалась в ходе описанного далее экспериментального исследования, результаты которого представлены в главе 3.
Приведем далее общетеоретические принципы, которыми руководствуется воронежская школа в психолингвистических исследованиях, а также алгоритмы моделирования языкового сознания и описания психолингвистического значения.
Проводимый нами семантический анализ экспериментально полученного материала опирается на теоретико-методологический аппарат семной семасиологии.
Базовым термином семной семасиологии является термин «сема», введенный в научный оборот чешским лингвистом В. Скаличке в контексте открытия членимости значений лексических единиц на отдельные семы в середине XX века [80].
Сема – это компонент значения, который выражает отличительный признак обозначаемого объекта (денотата).
Семы являются микрокомпонентами значения, дифференцирующие или интегрирующие отдельные значения (семемы) исследуемых лексем. В большинстве случаев семы – это предельные (мельчайшие) единицы семантического анализа, хотя встречаются случаи, когда и семы могут дифференцироваться [79, 80].
Семный анализ экспериментально полученного материала предполагает выделение в нем семантических компонент, а также описание значения в качестве упорядоченной по определенному критерию совокупности сем [80].
Кроме того, в структуре психолингвистического значения (семемы) выделяются три макрокомпонента – денотативный, коннотативный и метаязыковой, каждый из которых состоит из микрокомпонентов (т.е. сем).
Денотативный макрокомпонент является базовой семантической единицей лексического значения, выражающей признаки и свойства денотатов.
Семы, входящие в ее состав, указывают на понятийные или эмпирические (чувственно-образные) признаки номинируемых объектов.
Коннотативный макрокомпонент значения состоит из сем, выражающих эмоционально-оценочное отношение к денотату (т.е. коннотативных сем). В словарных дефинициях такие семы помечаются специальными (коннотативными) пометами (например, одобр., неодобр.).
Метаязыковой макрокомпонент значения отражает рефлексию носителей языка относительно тех или иных слов. Составляющие ее компоненты указывают на отношение к самому слову (означающему), знание контекстов его употребления, прецедентных текстов или фразеологических оборотах, в состав которых оно входит и т.п.
Психолингвистическое значение структурировано по полевому принципу [80]:
Семантические микрокомпоненты, входящие в состав значения, ранжируются по индексам яркости (ИЯ) в соответствии со шкалой полевой принадлежности семантических компонентов. Это важный показатель в описании структуры значения, поскольку «…он позволяет ранжировать семантические компоненты по яркости, установить их относительную иерархию в структуре семемы, осуществить качественное сравнение разных сем как в пределах одного значения, так и при сопоставлении разных значений, а также в межъязыковом плане» [45, c. 96].
Индекс яркости семантических компонентов лексем вычисляется по следующей формуле:
𝑛/𝑁,
в которой: 𝑛 – количество испытуемых, актуализировавших сему в эксперименте; 𝑁 – общее число испытуемых.
Семантические микрокомпоненты с индексами яркости 0,12 и выше относятся к ядру поля.
Индекс яркости семы в диапазоне от 0,11 до 0,04 означает, что она находится на ближней периферии, а индекс яркости в диапазоне от 0,03 до 0,02 распределяет ее на дальнюю периферию.
Крайнюю периферию поля заполняют семы с индексами яркости 0,01 и ниже.
Кроме того, посредством суммирования индексов яркости сем вычисляются и совокупные индексы яркости психолингвистических значений (СИЯ).
По индексу яркости ранжируются и отдельные семемы в рамках семантемы многозначного слова.
Таким образом, семантические компоненты подразделяются на макрокомпоненты и микрокомпоненты (семы).
Макрокомпоненты структурируют значение по типам передаваемой информации, а микрокомпоненты являются составляющими единицами (своего рода лингвистическими «атомами») значения.
Макрокомпоненты значения отражают ее горизонтальную организацию, а микрокомпоненты – вертикальную (поскольку семы ранжируются по индексам яркости, т.е. образуют иерархию в составе семемы).
Полевая принадлежность (или зонная организация) семем в структуре семантемы определяется по следующей шкале:
СИЯ более 0,50 – ядро;
СИЯ 0,49–0,20 – ближняя периферия;
СИЯ 0,19–0,03 – дальняя периферия;
СИЯ 0,02–0,01 – крайняя периферия.
Следующим важным этапом в семантическом анализе экспериментального материала является контрастивный анализ выявленных психолингвистических значений.
Контрастивный анализ предполагает сопоставление сем и семем по различным параметрам (например, региональному, возрастному, профессиональному и т.п.).
Сопоставление осуществляется по следующей шкале сходств/различий:
отсутствие различий (0);
несущественный уровень различий (1-4 %);
низкий уровень различий (5-10 %);
заметный уровень различий (11-25%);
существенный уровень различий (26-50%);
высокий уровень различий (51-70%);
крайне высокий уровень различий (71 и выше).
Психолингвистические значения описываются в виде словарных статей.
Словарные статьи имеют следующую структуру:
1.Левая часть статьи – заголовочное слово, выделенное полужирным начертанием (рядом указывается количество испытуемых, которые участвовали в эксперименте).
2.Правая часть статьи – словарная дефиниция, в которой вначале указывается интегральная сема (выражающая родовой признак объекта номинации), а затем – дифференциальные семы, отражающие видовые отличительные признаки и упорядоченные по индексам яркости (цифра напротив каждой семы).
Затем приводятся сведения о коннотативной макрокомпоненте значения в виде эмоционально-экспрессивных помет (ОДОБР./НЕОДОБР.) вместе с индексами их яркости.
В конце статьи указываются сведения о степени актуальности значения для языкового сознания посредством обобщения «нулевых» реакций в эксперименте (т.е. отказов).
В заключение следует упомянуть о метаязыке семного описания значений, используемом в ходе изложения результатов исследования.
Процесс лексикографирования семантических единиц требует определенного метаязыка. Наиболее оптимальным и распространенным в лексикографии метаязыком описания является естественный метаязык, допускающий возможность разнообразных метаязыковых обозначений одних и тех же смыслов [78].
Такой подход основывается на принципе множественности метаязыкового описания ментальных (в частности, семантических) единиц. В соответствии с данным принципом любые ментальные единицы могут быть исследованы в рамках естественного метаязыка различными (в том числе и несовпадающими у разных лингвистов и в разных парадигмах) формулировками [там же].
Лингвисты зачастую интерпретируют одни и те же факты по-разному ввиду определенных обстоятельств (разные исходные теоретические посылки, разная используемая терминология и т.п.). Из этого не следует, что одни формулировки являются истинными, а другие ложными. Формулировки могут оцениваться с позиции полноты (более полная-менее полная) или стилистической успешности (более успешная-менее успешная). Критерий истинности здесь не применим.
Таким образом, множественность метаязыкового описания является реальностью научного исследования ментальных единиц, ее имманентным признаком.
При этом вопрос о создании единого метаязыка описания не снимается с повестки лингвистической науки. Представляется, что в перспективе такая попытка будет предпринята и приведет к положительным результатам.
Итак, традиционно при составлении словарей используется системный метод, предполагающий исследование языковых феноменов в пределах системы языка (т.е. в рамках установленных парадигм). Результатом такой работы является формулировка лексикографических значений, составленная на базе существенных признаков, в которых отражается основное содержание.
Системный метод к исследованию семантики языка не позволяет выявить множество семантических компонентов и значений лексем, которые являются актуальными и значимыми для носителей языка.
Альтернативой системному методу является психолингвистический, позволяющий дать более объемное (комплексное) описание семантики лексических единиц (с учетом дополнительных, несущественных семантических компонент).
Психолингвистическое значение – это значение, которое реально представлено и функционирует в сознании носителей языка (в отличие от системного значения, представленного только в традиционных толковых словарях.
Компоненты, представленные в лексикографическом значении, могут входить целиком или частично в состав его психолингвистического значения, но занимать в ее составе разное место в зависимости от степени актуальности и значимости для носителей языка (ядро или периферии), определяемое по индексам яркости (более яркие – менее яркие).
Психолингвистическое значение является сложной моделью языкового сознания.
Необходимо понимать, что психолингвистическое значение – это теоретическое допущение, предполагающее, что оно (т.е. психолингвистическое значение) является отражением обыденного языкового сознания в большей степени, чем лексикографическое значение.
Для выявления психолингвистических значений часто используются эмпирические методы исследования – в частности, ассоциативные эксперименты. Они позволяют получить доступ к языковому сознанию носителей языка и собрать необходимый для ее моделирования эмпирический материал.
Экспериментальные данные дают множество новых сведений о составе и специфике психолингвистических значений (присутствие противоположных оценочных компонентов в одном и том же значении, наличие сугубо индивидуальных и ложных сем, а также сем, отсылающих к прецедентным текстам, личному опыту носителя языка; региональные и возрастные особенности значений и др.). Обзору эмпирических методов исследования посвящена следующая глава монографии.
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМАНТИКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Традиционно в лингвистике основными методами исследования являются системные методы, с помощью которых языковые феномены анализируются в рамках системы языка с опорой на данные словарей. В психолингвистике используются эмпирические (антропометрические) методы, которые направлены на получение данных от самих носителей языка и позволяют вскрыть реальные языковые механизмы.
Психолингвистика, в рамках которой язык исследуется в качестве феномена языкового сознания, является по большей части эмпирической (экспериментальной) наукой, о чем неоднократно подчеркивалось в работах ведущих ученых-лингвистов [67, 69, 92].
Эмпирические методы исследования подразделяются на две группы: методы лингвистического интервьюирования и методы лингвистического эксперимента [13].
2.1. Методы лингвистического интервьюирования
В рамках первого параграфа дадим обзор методов лингвистического интервьюирования.
Лингвистическое интервьюирование предполагает непосредственное обращение к носителям языка с прямыми вопросами – напр., «Что означает данное слово (словосочетание)»? «Совпадают ли эти слова по значению»? «Можно ли данное слово использовать в таком контексте?» и т.д.
В ходе интервьюирования проявляется рефлексия носителей языка относительно содержания предъявленных лексических единиц.
Методы лингвистического интервьюирования направлены «…на выявление непосредственного знания носителя языка о значениях слов, и в связи с этим данный прием достаточно достоверно вскрывает «семантическую реальность» [45, с. 94].
Лингвистическое интервьюирование чаще всего проводится в письменной форме. Встречаются также случаи проведения лингвистического интервьюирования в устной форме или комбинированные варианты (устная и письменная формы).
Прежде чем перейти к описанию методов, следует подчеркнуть, что полученный таким путем языковой материал представляет собой лишь совокупность предварительных семантических величин4 (т.е. смысловых признаков слова), которые имеют неопределенный семантический статус. Это касается как ответов, полученных в ходе лингвистического интервьюирования, так и ассоциативных вербальных реакций в ассоциативных экспериментах.
Из предварительных семантических величин мы можем строить простую модель языкового сознания, позволяющую продиагностировать ее состояние, структуру и динамику на поверхностном уровне.
Процедура семантической интерпретации методами семной семасиологии позволяет из языкового материала, полученного в ходе применения эмпирических методов, выявить картину глубинной организации языкового сознания. Поэтому полученные в ходе лингвистического интервьюирования ответы обобщаются и интерпретируются в соответствии с поставленными целями и задачами.
Проведение лингвистического интервьюирования включает в себя 5 этапов:
1.Предъявление интервьюируемым опросника.
2.Обобщение полученных ответов: сходные по содержанию, но различающиеся по форме ответы сводятся к одному ответу.
3.Семантическая интерпретация полученных ответов, выявление семантических компонентов и их дальнейшее ранжирование по частоте встречаемости.
4. Формулировка связной дефиниции значения.
В рамках лингвистического интервьюирования используются следующие методики.
1)
Направленная атрибуция заданных признаков значению лексической единицы
Суть метода заключается в контролируемом распределении испытуемыми семантических признаков предъявленных лексем.
Исходный список семантических признаков составляется на основе частотных словарей или словарей сочетаемости и состоит из единиц, с которыми исследуемая лексема может потенциально сочетаться.
Продемонстрируем применение методики направленной атрибуции заданных признаков значению на материале проведенного нами предварительного исследования семантики лексем студент и профессор.
В качестве испытуемых выступили 8 студентов Социально-педагогического института г. Дербента.
Интервьюирование проходило в письменной форме в лекционной аудитории.
Список потенциальных сем состоял из прилагательных, которые способны сочетаться с исследуемыми лексемами и являются наиболее частотными в русском языке.
Перед началом интервьюирования испытуемые получили два бланка, на каждом из которых была вначале указана лексема (профессор или студент), а затем приводилась таблица со списком ее потенциальных сем.
Список состоял из 80 прилагательных для лексемы «студент» и 120 прилагательных для лексемы профессор, расположенных в алфавитном порядке в 5 столбцах.
Проводился следующий инструктаж: «Ознакомьтесь с таблицей со списком признаков. Поставьте напротив каждой строки с обозначенным признаком знак «+», если считаете, что данный признак характерен для типичного профессора (студента). Просим не использовать знак «+» слишком часто.
Время для заполнения бланков было ограничено 15 минутами.
Обработка результатов интервьюирования заключалась в суммировании реакций по всем выделенным семам, вычислении их индексов яркости (цифра после семы) и дальнейшему ранжированию в соответствии со значениями индексов яркости.
Профессор – опытный 0,91, знаменитый 0,82, умный 0,79, важный 0,76, видный 0,71, богатый 0,71, веселый 0,50, живой 0,29, боевой 0,15, быстрый 0,15, бедный 0,12.
Студент – живой 0,91, быстрый 0,82, веселый 0,80, боевой 0,71, умный 0,71, опытный 0,71, бедный 0,62, знаменитый 0,12, видный 0,12, богатый 0,09, важный 0,06.
Полученные данные четко согласуются с представлениями лингвистов о составе и структуре периферии значений лексических единиц.
Также обращает на себя внимание оценочный характер выделенных сем, что свидетельствует о высокой доле коннотативной составляющей в исследуемых лексемах. Это значит, что актуализация периферийных компонентов их значений обуславливает их оценочность.
Для сравнения далее будем приводить результаты исследований, приведенных в работе [45] – интервьюирование проводилось коллегами в Воронеже. 5
Результаты в Воронеже
Исходный список состоял из 110 слов-прилагательных, взятых из словаря «Лексическая основа русского языка». Приведем список: активный, бедный, благородный, богатый, боевой, больной, большой, быстрый, важный, веселый, видный, высокий, глупый, гордый, городской, горячий, громкий, грубый, грустный, грязный, демократичный, дикий, добрый, довольный, дружественный, жалкий, живой, заботливый, здоровый, злой, знаменитый, известный, красивый, крепкий, крупный, культурный, ласковый, любопытный, маленький, милый, мирный, молодой, мягкий, нежный, неожиданный, непонятный, неприятный, обаятельный, общественный, объективный, опытный, ответственный, открытый, партийный, передовой, печальный, пожилой, положительный, постоянный, правильный, практичный, прекрасный, приятный, принципиальный, прогрессивный, простой, прямой, пунктуальный, пустой, пьяный, решительный, радостный, седой, сельский, сердитый, серьезный, сильный, скромный, скучный, слабый, славный, способный, смелый, современный, спокойный, спортивный, справедливый, старый, странный, строгий, субъективный, суровый, сухой, счастливый, твердый, творческий, тихий, толстый, тонкий, точный, трудовой, уверенный, умный, упорный, хозяйственный, холодный, честный, чистый, энергичный, юный [45, с. 107].
В интервьюировании приняли участие 35 студентов-первокурсников Воронежского государственного университета и Воронежского педагогического института.
Приведем результаты интервьюирования:6
Профессор – опытный 0,91, культурный 0,88, справедливый 0,85, знаменитый, известный 0,82, пожилой, умный 0,79, важный, городской, уверенный, пунктуальный 0,76, объективный, ответственный, партийный, седой, строгий, творческий 0,74, благородный, богатый, видный, демократичный, прогрессивный, спокойный, честный 0,71
Студент – веселый 1,00, живой 0,91, современный, спортивный, энергичный 0,98, активный, молодой 0,85, быстрый, способный 0,82, любопытный, общественный, творческий 0,76, дружественный, радостный, упорный, решительный 0,74, боевой 0,71.
И. Стернин и В. Левицкий также приходят к выводам, что «полученные признаки хорошо согласуются с интуитивными представлениями о структуре периферийной части значений исследуемых слов» [45, с.108].
Таким образом, метод атрибуции признаков значению позволяет получить достаточно четкие результаты с высокими показателями индексов яркости, т.е. выявить наиболее яркие и релевантные для значения семантические компоненты, а также определить состав периферийных семантических компонент в ее структуре.
Следует также обратить внимание на то, что данный метод позволяет выявить и антонимические семы в значениях слов (напр., богатый – бедный).
2)
Свободная атрибуция признаков значению
Суть метода свободной атрибуции признаков значению заключается в том, что испытуемым предлагается указать типичные признаки денотата исследуемого слова.
Испытуемым предъявляются индивидуальные бланки, в которых формулируются наводящие вопросы, имеющие следующую структуру: Х что делает? (типичное поведение); Х какой? (типичная внешность) и т.п., где Х является денотатом исследуемой лексемы.
Данный метод близок к направленному ассоциативному эксперименту, но отличается тем, что испытуемый должен указать не первое пришедшее в голову слово (как это требуется в ассоциативном эксперименте), а выделить типичный признак, характерный для денотата исследуемого слова.
Методом свободной атрибуции признаков значению нами была проанализирована семантика лексем философ и профессор.
В качестве испытуемых выступили 8 студентов Социально-педагогического института г. Дербента.
Интервьюирование проходило в письменной форме в лекционной аудитории.
Проводился следующий инструктаж: «Мы исследуем типичные представления людей о профессиях. Просим Вам ответить на вопрос, какие типичные черты характерны для философа и профессора?
Время для заполнения бланков было ограничено 15 минутами.
Обработка результатов интервьюирования заключалась в суммировании одних и тех же ответов, а также обобщении сходных по содержанию ответов и вычислении индексов яркости каждого из отмеченных признаков.
Результаты обработки и интерпретации данных приводятся в таблице 21 (табл. 1).
Признаки указаны по убыванию их индексов яркости.
Таблица 1. Результаты обработки и интерпретации ответов, полученных по методике свободной атрибуции признаков значению.
Лексема /Вопросы
Какой?
Что делает?
Философ
Аккуратный 0,25
Элегантный 0,25
Неинтересный 0,1
Толстый 0,1
Серьезный 0,1
Отказ от ответов – 0,3
Изучает философию 0,1
Много любит беседовать 0,1
Много читает 0,1
Мало разговаривает 0,1
Отказ от ответов – 0,5
Профессор
Высокий 0,5
Умный 0,25
Скромный 0,25
Тихий 0,25
Мудрый 0,25
Строгий 0,25
Элегантный 0,3
Худой 0,1
Шустрый 0,1
Спокойный 0,1
Коммуникабельный 0,1
Учит 0,5
Умничает 0,1
Результаты в Воронеже
Методом свободной атрибуции были исследованы такие лексемы, как учитель, студент, профессор, спортсмен и др.
В интервьюировании принимали участие учащиеся Воронежского государственного университета – 55 стажеров из Германской Демократической Республики, 20 стажеров из Великобритании и 41 студент-филолог. Интервьюирование проводилось на трех языках –немецком, английском и русском.
Приведем результаты по лексеме профессор7 [45, с.103].
ПРОФЕССОР
Русский язык Немецкий язык Английский язык
в очках 0,55 в очках 0,71 в очках 0,80
старый 0,30 в костюме 0,51 с бородой 0,20
умный 0,25 старый 0,21 неопрятный 0,20
строгий 0,25 умный 0,71 лысый 0,20
читает лекции 0,48 рассеянный 0,55 седой 0,20
Метод свободной атрибуции так же выявляет преимущественно периферийные компоненты значения, хотя в некоторых случаях позволяет получить сведения о ядерных семантических компонентах (например, профессор – преподает; студент – учится).
Метод свободной атрибуции является «…достаточно эффективным средством выявления эмпирического компонента значения (хорошо описываются внешние признаки денотата, его типичное функционирование)» [45, с. 106].
3)
Метод дополнения тестовой фразы
Метод дополнения тестовой фразы предполагает заполнение испытуемыми незавершенных вербальных конструкций с исследуемыми лексемами (т.е. испытуемые должны самостоятельно восстановить заведомо деформированную конструкцию).
Типовая инструкция имеет следующую формулировку: «Просим Вас дополнить данную фразу любыми словами, чтобы в итоге получилось законченное по смыслу предложение».
Данным методом была исследована семантика лексемы мальчик.
В интервьюировании приняли участие 9 студентов Социально-педагогического колледжа г. Дербента обеих полов разных специальностей.
Испытуемым были предъявлены две незаполненные конструкции: «Мальчик, а…», «Был бы мальчиком…».
При обработке результатов содержательно близкие ответы обобщались, а также вычислялись индексы яркости каждой семы.
Время для заполнения бланков было ограничено 15 минутами.
Результаты обработки и интерпретации данных приводятся в таблице 2 (табл. 2).
Семы располагаются по убыванию их индексов яркости (указаны семы с индексами яркости не менее 0,22).
Таблица 2. Результаты обработки и интерпретации ответов, полученных по методике дополнения тестовой фразы.
Индекс яркости
Мальчик, а не…
Индекс яркости
Был бы он мальчиком…
1
Девочка
1
Занимался бы спортом
1
Сильный
0,33
Купил бы шоколадку
0,33
Красивый
0,33
Был бы сильным
0,22
Золото
0,22
Уважал бы девочек
0,22
Лох
0,22
Стал бы хорошим
0,22
Стал бы боксером
Результаты в Воронеже
В Воронеже методом дополнения тестовой фразы исследовались лексемы студент, девочка, мужчина, старый, женщина, городской, деревенский, спортсмен.
На первом этапе «с перечисленными словами было
составлено пять типов тестовых фраз:
1) Студент, а…;
2)Эх, ты! Студент, а…;
3)Был бы он студент, так…;
4)Ну и ну!… А еще студент;
5) Эх, ты!… А еще студент! [45, с. 128]
Предлагалась следующая инструкция: «Дополните данную фразу любыми словами так, чтобы фраза стала законченной по смыслу. Просим написать не менее 15 вариантов фразы. Время выполнения задания не ограничивается» [45, с. 128].
Каждый интервьюируемый – всего 90 студентов и слушателей подготовительного отделения ВГУ – заполнял анкеты с одним типом тестовой фразы.
Результаты первого этапа:
1. Студент, а… – 10,2 ответов на анкету, 64% адекватных ответов.
2. Эх, ты! Студент, а … – 11,8 ответов на анкету, 74% адекватных ответов.
3. Был бы он студент, так … – 12,7 ответов на анкету, 80% адекватных ответов.
4. Ну и ну! … А еще студент! – 12,8 ответов на анкету, 80% адекватных ответов.
5. Эх, ты!… А еще студент – 13,8 ответов на анкету, 75% адекватных ответов.
По итогам были отобраны наиболее работоспособные конструкции – ими оказались конструкции 1 и 3. Они были использованы на втором этапе интервьюирования, в котором принимало участие 52 студента Воронежского государственного университета.
Результаты:
Студент – учится 0,82, слушает лекции 0,39, читает книги 0,26, активный 0,23, плохо обеспечен материально 0,21, воспитанный, общительный, веселый, молодой, неглупый 0,19 [45, с. 130].
Данный метод позволяет выявлять преимущественно периферийные семы; в то же время они имеют значимость (актуальность) для носителей языка, а значит их необходимо учитывать при анализе языкового сознания.
4)
Метод заполнения сравнительной
конструкции
Метод заполнения сравнительной конструкции обладает некоторыми чертами сходства с методом дополнения тестовой фразы.
Интервьюирование по этому методу предполагает заполнение испытуемыми сравнительных конструкций, подбирая последовательно такие лексемы, которые могли бы быть основанием для требуемого сопоставления.
Данный метод позволяет выявить группу лексем, в значении которых была четко выражена исследуемая семантическая компонента.
Отметим, что «выявленный по каждому признаку круг слов должен рассматриваться как совокупность единиц, в значениях которых данный признак является ярким, а само слово выступает как эталон данного признака в языке» [45, с.142].
Метод заполнения сравнительной конструкции нами были исследованы такие прилагательные, как высокий, низкий, сильный, слабый и толстый.
В качестве испытуемых выступили 8 студентов Социально-педагогического института г. Дербента обеих полов и разных специальностей.
Интервьюирование проходило в письменной форме в лекционной аудитории Социально-педагогического института.
Испытуемым были выданы бланки со следующей инструкцией: «Просим Вас заполнить пропуски в приведенных сравнительных фразах: Высокий, как… Низкий, как… Сильный, как… слабый, как… Толстый как…»
Время для заполнения бланков было ограничено 15 минутами.
Обработка результатов интервьюирования также предполагало вычисление индексов яркости каждого из отмеченных признаков.
Получены следующие результаты (признаки приводятся в таблице 3 по убыванию их индексов яркости; указаны семы с индексами яркости не менее 0,3).
Таблица 3. Результаты обработки и интерпретации ответов, полученных по методу заполнения сравнительной
конструкции.
Высокий, как…
Низкий, как…
Сильный, как…
Слабый, как…
Толстый, как…
Дерево 0,5
Амир 0,5
Тополь 0,4
Человек 0,4
Столб 0,4
Баскетболист 0,3
Швабра 0,3
Азиз 0,3
Гном 0,8
Муравей 0,7
Ангелина 0,5
Гюльназ 0,3
Зайчик 0,3
Ребенок 0,3
Папа 0,3
Ребенок 0,5
Девочка 0,4
Мышь 0,4
Слон 0,5
Помидор 0,4
Халил 0,4
Проверяющий 0,3
Заира 0,3
Арбуз 0,3
Обращает на себя внимание использование в качестве ответов конкретных имен (Заира, Амир, Азиз). Это говорит о том, что в качестве эталона исследуемых признаков могут выступать и конкретные лица.
Результаты в Воронеже
Интервьюирование в Воронеже проводилось среди девятиклассников местных школ (всего – 36 чел.).
Инструкция была сформулирована следующим образом: «Заполните пропуски во фразе – Высокий, как …, (Маленький, как …, Сильный, как…,
Слабый, как…, Толстый, как…, Худой, как…). Дайте не менее пяти вариантов ответа по каждой фразе» [45, с.124].
Результаты:
Высокий – дерево 0,80, башня 0,72, столб 0,53, жираф 0,39, многоэтажный дом 0,28, баскетболист
0,22, подъемный кран 0,19, гора 0,14
Сильный – слон, бык 0,39, медведь 0,36, танк 0,28, трактор 0,25, лошадь 0,17, лев 0,14
Слабый – дистрофик 0,17, ребенок 0,17, заяц 0,14
Толстый – бочка 0,67, свинья 0,36, слон 0,32, бегемот 0,22, пончик, поросенок 0,14
5)
Метод направленного комментирования словоупотребления
Суть метода состоит в том, что испытуемым предъявляется тестовая фраза с пробелом и список исследуемых лексем. Задача испытуемого – заполнять пробел в тестовой фразе лексемами из предложенного списка, а затем давать комментарии реализованных значений.
Метод направленного комментирования словоупотребления позволяет выявить, какие семантические компоненты исследуемой лексемы актуализируются в процессе его использования в языковом сознании носителей языка.
Данным методом была исследована семантика слов танк, ракета, комиссар и партизан.
В качестве испытуемых выступили 10 студентов Социально-педагогического колледжа г. Дербента обеих полов и разных специальностей.
Интервьюирование проходило в письменной форме в лекционной аудитории Социально-педагогического колледжа.
Испытуемым были выданы бланки с тестовой фразой, списком исследуемых слов и инструкцией: «Просим Вас заполнить пробел в приведенной фразе «__, а не девочка» словами из приведенного списка. Прокомментируйте значения полученных фраз».
Список состоял из исследуемых лексем танк, ракета, комиссар, партизан.
Количество ответов не ограничивалось.
Время для заполнения бланков было ограничено 15 минутами.
Ответы, сходные по содержанию, обобщались, полученные семы ранжировались по индексу яркости.
Полученные результаты приведены в таблице 4.
Семы приводятся в таблице по убыванию их индексов яркости; указаны семы с индексами яркости не менее 0,2.
Таблица 4. Результаты обработки и интерпретации ответов, полученных по методу направленного комментирования
словоупотребления.
Танк, а не девочка
Ракета, а не девочка
Комиссар, а не девочка
Партизан, а не девочка
Сильная 0,8
Большая 0,4
Тяжелая 0,4
Грубая 0,3
Толстая 0,3
Смелая 0,2
Быстрая 0,8
Резкая 0,6
Активная 0,3
Дерзкая 0,2
Алина 0,2
Деловая 0,5
Строгая 0,4
Полицейский 0,4
Гульназ 0,3
Дисциплинированная 0,2
Эмилия 0,2
Шустрая 0,3
Хитрая 0,3
Бесстрашная 0,2
Веселая 0,2
Алина 0,2
В результате семной интерпретации полученных результатов в семантике исследуемых лексем выявлены конкретные семантические параметры. Например, в слове ракета – большая скорость (быстрая 0,8), неудержимость в движении (резкая 0,6); в слове танк – большой вес (тяжелая 0,4), большой размер (большая 0,4) и т.д.
Отметим, что некоторые семы выражают значения исследуемых лексем в их метафорическом использовании (например, танк – толстая 0,3, смелая 0,2). Поскольку в таком виде эти семы не могут быть отнесены к структуре прямого значения лексем, требуется их переформулировка. Например, сему «толстая 0,3» в слове танк следует переформулировать в сему «крупный».
Результаты в Воронеже
30 студентам Воронежского государственного университета предъявлялась тестовая фраза, список исследуемых слов и инструкция: «Заполните пробел в тестовой фразе первым словом из списка. Прочитайте полученную фразу и подумайте, какие признаки девчонки подчеркиваются в данном случае. Письменно прокомментируйте эти признаки, ответив на вопрос: какая? [45, с. 115]
Танк – крупный 0,42, тяжелый 0,15, мощный 0,12, неповоротливый 0,07
Ракета – быстрая 0,68, подвижная 0,16, активная 0,08
Комиссар – общественник 0,22, умный 0,10, инициативный 0,10, серьезный 0,10, волевой, спокойный, инициативный, душевный, смелый, веселый 0,06
Партизан – скрытный, хитрый 0,16, умный 0,12 [45, с.115].
Авторы исследования так же подчеркивают, что «…ряд полученных признаков не может быть отнесен непосредственно к структуре значения исследуемых слов: танк – бесцеремонность, упорство, невозмутимость; пулемет – быстрота речи и некоторые другие. Такие признаки требуют интерпретации, то есть переформулирования, например: танк – «неподверженность внешним воздействиям» [45, с.115].
Таким образом, метод лингвистического интервьюирования позволяет, прежде всего, четко выявить семную структуру лексем с ярко выраженной экспрессивностью, а также периферийные компоненты значения.
Метод лингвистического интервьюирования позволяют также получить семы с достаточно высокими индексами яркости, что помогает четко смоделировать полевую организацию значения (ее ядро и периферию), как отражение состояния и динамики языкового сознания носителей языка.
Подробный обзор и описание методик лингвистического интервьюирования представлены в работе [45].
.1.
Методы психолингвистического эксперимента
Дадим краткий обзор основных экспериментальных методов исследования семантики лексем, как феноменов языкового сознания.
1)
Метод семантического шкалирования
Метод семантического шкалирования (или измерения значения) была разработана Ч. Осгудом [111].
В ходе эксперимента испытуемым предъявляется бланк с прописанными шкалами, в качества полюсов которых выступают те или иные лексические единицы. Шкалы могут быть представлены в разных формах (например, в графической, вербальной или числовой).
Методика семантического шкалирования позволяет выявить субъективное семантическое пространство и измерить коннотативное значение символов (в частности, лексем).
Полюса шкал задаются посредством антонимических пар. Оценки символов по некоторым шкалам коррелируют друг с другом и факторный анализ позволяет сгруппировать высокоррелирующие шкалы в факторы, определяя тем самым переход от описания символов посредством признаков к их более короткому (емкому) описанию.
Факторы представляют собой способ обобщения антонимических пар, на базе которых и выстраивается семантический дифференциал.
Ч. Осгуд в своих исследованиях выделил три базовых фактора: Активность, Сила, Оценка.
Эти факторы являются универсальными, что было доказано в исследованиях на материале графических оппозиций, использованных в качестве полюсов для построения шкал семантического дифференциала.
Наиболее эффективными и продуктивными методами экспериментального исследования значений лексем являются перцептивный эксперимент, свободный ассоциативный эксперимент, цепочечный эксперимент и направленный ассоциативный эксперимент.
2)
Перцептивный эксперимент
Метод перцептивного эксперимента позволяет выявить наглядный образ, связанный в языковом сознании с той или иной лексической единицей. Испытуемым предлагается описать наглядный образ, который приходит в голову после прочтения того или иного слова.
Методикой перцептивного эксперимента М. Розенфельд и И. Стернин исследовали семантику ряда лексических единиц [80].
Они провели групповой эксперимент с 300 школьниками и студентами вузов, в котором испытуемые должны были описать все, что они видят, слышат и чувствуют во время звучания каждой лексемы из экспериментального списка.
Полученные реакции упорядочивались по частотности.
Приведем ассоциативную статью с описанием реакций на лексему дверь (приводятся реакции с частотностью не менее 5; в конце статьи указано количество участников эксперимента и количество «нулевых» реакций, т.е. отказов).
Дверь 300 – деревянная 99; белая 30; ручка круглая; железная 23; большая; с замком 20; ручка золотая 18; коричневая 15; с ручкой 13; ручка деревянная 12; ручка железная 11; резная; дубовая 10; скрипит; открывается-закрывается 8; закрыта; дверь с надписью; с глазком 7; открыта; замок; открывается в мою комнату 6; барьер; входная; ручка витая 5 …
300. Отказы – 1.
Применение данного метода имеет определенные ограничения.
Например, респонденты могут испытывать словесный дефицит для полного описания возникших у них наглядных образов. Может показаться, что эта проблема должна решиться, если испытуемым предоставить возможность выразить возникший образ с помощью рисунка. Однако испытуемые могут не уметь рисовать.
Кроме того, перцептивный эксперимент не позволяет отчетливо и ярко выразить понятийную составляющую денотативной макрокомпоненты значения, а также не позволяет охарактеризовать ее коннотативную и метаязыковую макрокомпоненты.
Перцептивный эксперимент является, скорее, узкоспециальной методикой, позволяющей выявить исключительно образную составляющую денотативной макрокомпоненты значения лексем. См., например, работу М. Розенфельда «Методы выявления перцептивного образа в структуре лексического значения (на материале существительного глаза) [65].
3)
Свободный ассоциативный эксперимент
Ассоциативный эксперимент по праву считается одним из наиболее эффективных и продуктивных методик эмпирического исследования семантики лексических единиц [48].
Проведение ассоциативных экспериментов имеет давнюю традицию. Можно выделить пять этапов генезиса свободного ассоциативного эксперимента [105].
Первый этап (1879-1910) приходится на конец 1870-х гг. и связан с экспериментальной деятельностью английского психолога Ф. Гальтона.
Ф. Гальтон использовал ассоциативный эксперимент в качестве психодиагностической методики, которая позволяла ему изучать индивидуальные способности человека.
В. Вундт измерял в ассоциативных экспериментах скорость словесных ассоциаций.
Э. Крепелин с помощью ассоциативных экспериментов изучал деятельность умственно больных, а Дж. Кэттел замерял интеллектуальные способности людей.
Второй этап датируется 1910-1954 годами. За этот период были созданы первые списки ассоциативных норм (Г. Кент, А. Розанов), а также введен в научный обиход термин «ассоциативное поле» (Ш. Балли). Также впервые ассоциативный эксперимент был использован для изучения бессознательной компоненты структуры психики человека (Карл Юнг) и выявления мотивов его поведения.
На третьем этапе (1950-е – нач. 1970-х гг.) ассоциативный эксперимент активно проникает в новую научную дисциплину – психолингвистику и становится одним из ее базовых методов.
В этот период выходит в свет монография Дж. Диза «Структура ассоциаций в языке и мышлении», в которой предпринимается попытка объединить лингвистический и психологический анализ ассоциаций и описывается новая методика исследования ассоциативных структур [97].
Четвертый этап (1970-е-1980-е годы) связан с развитием психолингвистических исследований в СССР в рамках теории речевой деятельности. Ассоциативные реакции изучаются в качестве специфических (ассоциативных) значений слов. Создаются словари ассоциативных норм национальных языков (русского, казахского, украинского и др.).
Пятый этап начинается с конца 1980-х годов и продолжается по настоящее время.
Е.Н. Гуц определяет ассоциативный эксперимент в качестве приема, позволяющего выявлять у индивидов сформировавшиеся в предшествующем опыте ассоциативные ряды [17].
Е.Ф. Тарасов считает, что ассоциативное поле, как совокупность полученных экспериментальным путем реакций на вербальные стимулы, представляет собой внешнюю форму существования образов сознания [82, 83].
Ассоциативный эксперимент дает «богатый материал для выявления структуры значения лексической единицы» [45, с. 146].
Классическая схема ассоциативного эксперимента может быть представлена следующим образом:
S→█→R, где
S – стимул.
R – реакция, в качестве которой выступает либо лексическая единица («ненулевая» реакция), либо отказ («нулевая» реакция).
█ – условное обозначение языкового сознания, которое можно представить как «черный ящик».
Стимул, по Ю.Караулову, является импульсом, который активирует ассоциативно-вербальную сеть и приводит в предречевую готовность ее базовые узлы. Реакция – это акт вербализации одного из узлов этой сети.
Относительно методики ассоциативного эксперимента отметим ряд моментов.
1.Стратегии ассоциирования во многом носят спонтанный и неосознанный характер.
Механизм возникновения большинства ассоциативных реакций имеет предикатную природу (в соответствии с гипотезой Дж. Миллера).
2.Ассоциативная связь между S и R имеет вероятностный характер. Вероятность (или предсказуемость) появления определенной реакции на предъявленный стимул отражается в ее количественной характеристике, в виде индексов частотности.
Вероятностный характер имеет и процесс распределения реакций на стимул; степень предсказуемости распределения реакций может выявляться через сопоставление ассоциативных полей.
3.Ассоциативный эксперимент представляет собой прием, позволяющий в заданных экспериментальных условиях выявить силу связи одних лексем с другими лексемами через построение ассоциативных полей.
4.Ассоциативный эксперимент направлен на исследование субъективного содержания знаков. В то же время субъективное содержание является реально существующим феноменом и в этом отношении «форма представленности значения в эксперименте (индивидуальная семантическая компетенция) не противоречит объективности значения, так как общее (системное) значение существует в виде индивидуальных языковых компетенций, и только они могут стать предметом экспериментального исследования» [45].
5. Ассоциативная реакция – это вербальная актуализация семантической компоненты стимульной лексемы, которая является значимой для языкового сознания и отражает ее актуальное состояние.
А.Н. Леонтьев подчеркивал, что формальная обработка экспериментальных данных позволяет в конечном счете получить материал, который может интерпретироваться в качестве семантических компонентов экспериментально исследуемых лексем [44].
Актуализация испытуемыми семантических компонентов значения лексемы-стимула осуществляется благодаря механизмам семантической импликации в процессе ассоциирования.
А.А. Залевская выделял два типа ассоциативных импликаций: семантическую и лексическую [30].
Семантическая импликация отражает субъективную идентификацию значения стимульной лексемы со стороны испытуемых.
Лексическая импликация представляет собой реакцию испытуемых на звуковую форму стимульной лексемы.8
Различаются 8 видов семантической импликации:
1)
Импликация, отражающая идентификацию значения посредством синонимии (
Родина-Отчизна
).
2)
Импликация, отражающая идентификацию значения через противоположности (
свет-тьма
).
3)
Импликация, отражающая идентификацию значения через отнесение к классу (
планета-небесное тело
).
4)
Импликация, отражающая идентификацию значения через конверсию (
покупать-продавать
).
5)
Импликация, отражающая идентификацию значения по назначению (
кувшин-вода
).
6)
Импликация, отражающая идентификацию значения по принадлежности (
вымя-корова
).
7)
Импликация, отражающая идентификацию значения через указание на единицу данного класса (
хищник-волк
).
8)
Импликация, отражающая комплементарную идентификацию (
супруг-супруга
).
А.А. Залевская подчеркивала, что в сознании носителей языка такие импликации протекают в виде глубинной предикации по схемам типа «Х означает Y», «Х принадлежит Y», «Х есть Y» и т.д. [30].
Те ассоциативные реакции, которые ввиду различных причин не получили предикативной интерпретации в ходе обработки экспериментальных данных, исключаются из семантического описания.
Таким образом, именно механизм семантической импликации, в конечном счете, позволяет интерпретировать ассоциативные реакции в качестве семантических компонентов значения лексемы-стимула. Кроме того, набор выявленных сем позволяет определять и лексему-стимул (например, учит, воспитывает, объясняет – учитель; исследует, пишет, экспериментирует – ученый).
А.А. Залевская считает релевантной для значения лексемы-стимула семантическую импликацию, которая имеет индекс частотности не менее 50 %.
На наш взгляд, такой порог является чрезвычайно большим, поскольку за пределами значения останутся многие периферийные, но достаточно яркие семы. Убеждены, что семантическая периферия лексемы-стимула также должна получить теоретическое описание в структуре ее значения, поскольку отражает реальность языкового сознания.
Напомним, что в соответствии со шкалой полевой организации значения лексем, принятой в воронежской школе, семантические микрокомпоненты с индексами яркости 0,12 и выше относятся к ядру поля. Индекс яркости семы в диапазоне с 0,11 до 0,04 означает, что она находится на ближней периферии, а индекс яркости 0,03-0,02 распределяет ее на дальнюю периферию. Крайнюю периферию поля заполняют семы с индексами яркости 0,01 и ниже.
Индекс яркости семы в диапазоне от 0,05 до 0,10 является, на наш взгляд, достаточным для идентификации семы в качестве релевантной и дальнейшего ее включения в состав психолингвистического значения.
В современной литературе предложены различные классификации ассоциативных экспериментов.
В большинстве случаев исследователи выделяют три вида ассоциативных экспериментов: свободный, направленный и цепной.
Свободный ассоциативный эксперимент является разновидностью ассоциативного эксперимента, наиболее распространенного в современных исследованиях [19, 20, 26, 47, 48].
В соответствии с методикой свободного ассоциативного эксперимента от испытуемого требуется ответить первым пришедшим в голову словом на предъявленный стимул, при этом формальные или семантические особенности реакций не ограничиваются.
Наиболее распространенной в психолингвистической традиции является письменная форма регистрации реакций. В этом случае испытуемые получают специальные бланки, содержащие стимульный материал (лексемы) и после предварительного инструктажа от экспериментатора заполняют их.
Свободные ассоциативные эксперименты могут проводиться в группах (групповой эксперимент), либо индивидуально.
По результатам экспериментов исследователь получает материал в виде различных типов ассоциативных реакций.
Ассоциативные эксперименты позволяют выявлять и коннотации слов (посредством моделирования коннотативной макрокомпоненты значения после интерпретации коннотативных сем). Здесь следует подчеркнуть, что в большинстве случаев «хорошо выявляется оценочность, свойственная для периферии значения слова, так как слово может быть оценочным только по периферийным семам, оставаясь неоценочным по ядерным» [45, с.150]. Это позволяет, в частности, вычислять индексы пейоративности (как отношение отрицательно-ассоциативных ассоциатов к их общему количеству) и мелиоративности (как отношение положительно-оценочных ассоциатов к их общему количеству) значения.
4) Направленный ассоциативный эксперимент
В отличии от свободного ассоциативного эксперимента в направленном эксперименте на реакции накладываются определенные ограничения, которые могут касаться:
а) синтаксической формы ассоциативной реакции (например, экспериментатор просит ответить на заранее сформулированные вопросы: Х где находится? Х чем известен? Х какой?)
б) части речи (когда экспериментатор просит отвечать только глаголами или прилагательными и т.п.).
в) количество ассоциативных реакций (например, экспериментатор просит дать не менее 5 ассоциаций).
Вводимые в направленном эксперименте ограничения связаны с характером стимульной лексемы, и с целями эксперимента.
Например, если поставлена цель выявить многочисленные и наиболее яркие дифференциальные признаки денотата лексемы или ее коннотативные семы, целесообразно ограничить ассоциативные реакции синтаксической формой. Таким образом, ассоциативный процесс направляется в необходимое для целей эксперимента русло.
Направленные ассоциативные эксперименты также могут проводиться в письменной или устной формах, в группах или индивидуально.
5) Цепной ассоциативный эксперимент
Цепной ассоциативный эксперимент нередко рассматривается в качестве вида свободного ассоциативного эксперимента с регистрацией всех реакций, а не только первой. А.Клименко и В. Супрун называли его экспериментом с порождающейся реакцией [70].
Цепочный ассоциативный эксперимент выявляет спонтанное и неуправляемое протекание ассоциативного процесса. От испытуемых требуется в течение ограниченного промежутка времени ответить неограниченным количеством слов на каждый предъявленный стимул.
Время может не ограничиваться, но фиксироваться экспериментатором для дополнительного контроля.
Каждый из перечисленных видов ассоциативного эксперимента имеет достоинства и недостатки.
Если свободный эксперимент позволяет выявлять наиболее яркие семы значения, с помощью направленного эксперимента можно четко вычленять периферийные и коннотативные семы.
В то же время ограничения, накладываемые на процесс ассоциирования в направленном эксперименте, могут негативно влиять на надежность и валидность результатов. Вводимые рамки носят несколько искусственный характер, они могут существенно искажать информацию о протекании ассоциативного процесса, который носит спонтанный, бессознательный характер и является тем самым естественным состоянием психики.
С другой стороны, как отмечал Л. Сахарный, направленный эксперимент дает больше возможностей для реконструкции глубинных ассоциативных связей, поскольку направляет процесс ассоциирования в самые разные русла [67, 68].
Как показывает практика, «…в экспериментах, в которых информантам предлагается выбор признаков из подготовленного исследователем списка, яркость полученных признаков приблизительно в 2—3 раза выше, чем в экспериментах, где информантам предоставлена возможность свободного выбора признака» [45, с. 153]. То есть при свободном эксперименте индексы яркости полученных сем обычно ниже, чем в направленном эксперименте, что, «однако, не
отражает реальной яркости семы, так как в условиях выбора у информантов проявляется тенденция «подчинения списку», что и дает завышенные результаты» [там же].
Цепочный ассоциативный эксперимент позволяет выявить такие компоненты, которые не выявляются в свободном и направленном экспериментах, а также дает ясную картину иерархической организации значения лексем. Однако он является трудоемким для семантической интерпретации.
Еще один недостаток цепного ассоциативного эксперимента –существенная зависимость между рядами ассоциативных реакций. Зачастую следующая за первой реакцией на стимул вторая реакция оказывается реакцией не на сам стимул, а на предыдущую (т.е. первую) реакцию.
Перечисленные факты говорят о том, что для получения достоверных результатов необходимо использовать не одну, а несколько (как минимум две) методики. Поэтому в наших экспериментальных исследованиях были применены методика свободных ассоциаций и методика направленного ассоциативного эксперимента.
Подчеркнем, что «экспериментальные приемы выявления семантических компонентов не рассматриваются в целом как некая альтернатива компонентному или логическому анализу значения, исследованию его методом обратного перевода и другим методам анализа структуры значения, давно и плодотворно применяющимся в лингвистике. Экспериментальные приемы выступают как дополнение традиционных методов в тех случаях, когда традиционные методы трудно применимы, а также как средство проверки выделенных разными методами и приемами семантических компонентов на их действительную реальность как фактов психики носителей языка» [45, с. 152-153].
Итак, экспериментальные методики анализа структуры значения слов позволяют:
«1) выявить семантические компоненты, не обнаружимые другими приемами анализа (преимущественно периферийные семы);
2) проверить те или иные семантические компоненты на их психологическую релевантность для значения;
3) установить яркость отдельных семантических компонентов и ранжировать их по относительной яркости в структуре значения;
4) сравнить структуры значений слов как во (внутриязыковом, так и в межъязыковом плане по составу компонентов и их яркости» [45, с. 54].
2.3. Опыт применения экспериментальных методов в
современных исследованиях семантики имен собственных
Экспериментальные методы исследования семантики онимов активно применяются на современном этапе развития психолингвистики.
Наибольшее распространение получил ассоциативный эксперимент.
А. Степанова и Д. Маховиков провели экспериментальные исследования антропонимов русского языка [76].
В своих экспериментах в качестве стимульного материала они использовали более 400 наиболее распространенных в Российской Федерации антропонимов. Выборка осуществлялась при помощи Интернет-сайтов с рейтингами имен по разным годам и регионам страны, а также привлекались материалы «Русского ассоциативного словаря».
Имена были перемешаны в случайном порядке и распределены на 8 типов анкет, в каждой из которых содержалось по 50 стимулов.
В эксперименте приняли участие около 100 испытуемых.
Полученные реакции были распределены на следующие виды по доминирующему признаку, приписываемому имени, или же от особенности ассоциирования.
1) Прецеденты.
2) Собственно характеристики.
3) Семантически диффузная совокупность реакций.
4) Ассоциации на форму слова.
5) Фонетические ассоциации.
Прецеденты оказались наиболее многочисленной группой: (Зоя – Космодемъянская 8; Вениамин – «Папины дочки» 4; Маргарита – Мастер 10; Тарас – Бульба 32; Марк – Твен 12).
Авторы обратили внимание, «…что антропонимы, имеющие тесную связь с прецедентным феноменом, имеют более четкое ядро ассоциативного поля, реакции с наибольшей частотностью…» [76, с. 122]. Например, Маргарита – Мастер 8; цветок 5; цветок маргаритка 4; Мастер и Маргарита 3; Булгаков 3; маргарин 3; цветы 2; коктейль 2.
Кроме того, А. Степанова и Д. Маховиков пришли к выводу, что «привлекательность имени, его престижность в настоящий период или, напротив, старомодность и неаттрактивность получают выражение в соответствующих реакциях» [там же]. Например, Дуня – деревня 12, доярка 3, корова 2…; Ваня – сказка 5, деревня 4, дядя 3, дед 3… Таким образом, ассоциативные поля имен «Дуня» и «Ваня» свидетельствуют о том, что для носителей современного русского языка эти имена являются непрестижными, несовременными.
Однако, как подчеркивают авторы, такие выводы правомерны только по отношению к уменьшительно-ласкательным формам данных имен. Некоторые имена вызывают отрицательные эмоционально-оценочные реакции, поскольку воспринимаются, как «чужие». Например, имя «Амир» имеет следующее ассоциативное поле (курсивом выделены отрицательные эмоционально-оценочные реакции): Амур 6, восток 4, чурка 3, Кавказ 5, драгоценный камень 2, хач 2.
По итогам экспериментов были сделаны следующие выводы:
1) Большинство антропонимов имеют «…содержательные ассоциативные поля с четко выраженным ядром при значительном количестве единичных реакций» [76, с.123].
2) Стимулы-антропонимы вызывают большое количество реакций, имеющих коннотативный характер.
Таким образом, заключают авторы, «…исследование показало, что имена – это не пустые слова, которые используются для называния людей. Это сложные единицы со своеобразной семантикой, требующей более детального изучения. Ассоциативный эесперимент, как нам кажется, это один из методов, который в совокупности с другими экспериментальными методами может помочь в изучении такой спорной и противоречивой проблемы, как семантика имен собственного» [там же].
В.И. Супрун пишет: «Однако следует учесть, что в языковом сознании онимы объединяются не только по разрядам, но и по тому фрагменту окружающей человека среды, к которому они относятся. В этом случае разрядная отнесённость имени становится второстепенной, на первое место выходит потребность номинировать объекты, соотнесённые друг с другом экстралингвально, тематически, лингвокультурно, ассоциативно и пр. Следовательно, у онимов проявляется циркумстантно-дескриптивная функция…» [71, с.101].
Для того, чтобы выявить лингвальную реализацию циркумстантно-дескриптивной функции В.И. Супрун провел направленный ассоциативный эксперимент.
Гипотеза В. И. Супруна заключалась в том, что разноразрядные имена собственные, которые относятся к определённому фрагменту картины окружающего мира, в языковом сознании русскоязычных функционируют параллельно.
В эксперименте 185 испытуемым, в качестве которых выступили студенты и преподаватели в возрасте от 18 до 63 лет (большинство испытуемых – студенты и преподаватели), было предложено записать по три имен собственных на каждое стимульное слово: кино, живопись, родина, книга, война, политика, страна, наука, Россия, образование, государство, музыка.
Выбор данных слов-стимулов был обусловлен тем, что, во-первых, «…они отражают наиболее общие социальные и культурные фрагменты действительности, были доступны всем носителям языка, могли в той или иной степени вызвать разноразрядные онимические реакции» [71, с.102].
Основываясь на закономерности функционирования имен собственных в языковом сознании и в соответствии с гипотезой исследования, В.И. Супрун предположил, что значительную долю реакций на эти стимулы составят антропонимические реакции, а на слова-стимулы из сферы искусства и культуры будут преобладать идеонимы.
Результаты эксперимента подтвердили эти предположения (таблица 5).
Таблица 5. Онимические реакции на слово-стимул «война»
в эксперименте В.Супруна
Реакции-антропонимы (% реакций)
Реакции-хрононимы (% реакций)
Реакции-топонимы (% реакций)
Реакции-идеонимы
Реакции-хрематонимы
Реакции-эргонимы
33,3%
(пример: Сталин Жуков, Гитлер, Наполеон)
28,5%
(пример: Великая Отечественная война, Вторая мировая война)
23,2%
(пример: Сталингра, Ленинград, Сирия, Берлин)
11,5% (пример: «Война и мир», «Судьба человека»)
2 % (пример: «Катюша», Т-34, Знамя Победы)
1,5 % эргонимы (пример: ГКО, Смерш)
Итого: 552 реакции (94 % от максимального числа ответов).
Таблица 6. Реакции на слово-стимул «кино» в эксперименте В. Супруна
Реакции-антропонимы (% реакций)
Реакции-фильмонимы (% реакций)
Реакции-эргонимы
(% реакций)
Реакции-имена персонажей
Реакции-топонимы
58,8 %
(пример: Тарковский Андрей, Цой Виктор)
28,1%
(пример: Любовь и голуби, Титаник)
7,6 %
(пример: Мосфильм, Голливуд)
3,7 %
(пример: Гарри Поттер)
1,8%
(пример: Москва)
Итого: 459 реакций (82,7 % от максимального числа ответов).
В.И. Супрун делает следующие выводы: «Эксперимент подтвердил одновременное, параллельное функционирование в лингвосознании русскоязычного человека разноразрядных онимов, относящихся к определённому фрагменту картины окружающего мира» [71, С.104], при этом антропонимы занимают центральное положение в онимическом поле, «остальные имена собственные распределяются в зависимости от главной темы, слова-стимула, вызывающего ассоциации» [там же].
C.В. Полубоярин в своих исследованиях семантики имен собственных использовал не только методики свободного и направленного ассоциативного экспериментов, но также предложил испытуемым написать мини-сочинение на тему «что я думаю о Воронеже» (он использовал топоним «Воронеж» в качестве стимула) [60].
В его экспериментах приняли участие 100 жителей Воронежской области и 100 жителей Ярославской области обеих полов в возрасте от 15 до 72 лет.
Испытуемым были предложены инструкции:
1) напишите любое слово, которое приходит Вам в голову, когда вы слышите слово Воронеж. Укажите свой пол и возраст» (свободный ассоциативный эксперимент)
2) «закончите фразу – Воронеж – какой? Укажите свой пол и возраст» (направленный ассоциативный эксперимент)
3) «Опишите кратко, что вы думаете о Воронеже. Укажите свой пол и возраст» (мини-сочинение) [60, с. 86].
После окончания эксперимента C.В. Полубоярин осуществил процедуру когнитивной интерпретации полученных результатов.
В итоге он выявил многочисленные когнитивные признаки топонима «Воронеж».
Результаты когнитивной интерпретации экспериментальных данных по топониму «Воронеж» представлены в таблице 7 (табл.7).
Таблица 7. Реакции на слово-стимул «Воронеж» в эксперименте C. В. Полубоярина (приводятся признаки с частотностью не менее 17) [60, с. 87]
Таким образом, полученные семы дают сведения о том, каким образом концепт «Воронеж» отражается в языковом сознании носителей русского языка в Воронежской и Ярославской областях.
Кроме того, C.В. Полубоярин, ранжировав полученные семы по частоте актуализации, построил полевую модель психолингвистического значения топонима «Воронеж».
Например, в ядро значения вошли такие семантические компоненты, как город 31, красивый 27, место действия мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» 22, находится на юге России 17, родной 17, лучший город 16, областной центр 15.
Ближняя периферия сформирована компонентами с частотностью 14 и менее (грязный 14, большой 13, здесь много ворон 11 и др.), дальняя периферия – компонентами с частотностью 4 и менее (интересный 4, много культурных ценностей 4, находится в Центральной России 4 и др.), а крайняя периферия – компонентами с частотностью 1 (в городе мало красивых мест 1, гламурный 1 и др.).
На следующем этапе C.В. Полубоярин сформулировал психолингвистическое значение топонима «Воронеж». Структура статьи: заглавное слово; цифра после заглавного слова – количество испытуемых в эксперименте; семантические компоненты; цифры после семантических компонент – частотность их актуализации.
Воронеж (200) – город 31, большой 15, реже маленький 1, провинциальный 11 областной центр 15, находящийся на юге 17 России 7, в Центральной России 4, в Черноземье 7, рядом с Украиной 1, столица Черноземья 6, в Волго-Вятском регионе 1, расположенный в степи 2, на реках Воронеж 2 и Дон 1, далеко 1; отличается теплым климатом 5, солнечный 2, зимой холодный 4 и заснеженный 3; с высотной застройкой 3, широкими улицами 2, с многочисленными воронами 11; с миллионным населением 3, обилием молодежи и студентов 2, реже немноголюдный 1, является крупным железнодорожным узлом 9, есть атомная станция, много вузов 9, водохранилище 1, промышленно развитый 11, высокотехнологичный 1, с обилием банков 1, развитым сельским хозяйством 1; обилием культурных ценностей 4, мест для развлечений 6, с футбольным клубом «Факел» 2, своей командой КВН 1; имеет богатую историю 3, является местом строительства первого русского флота 5, в Отечественную войну были жестокие бои 1, имеет звание «Города воинской славы» 2; ничем особо не примечателен 8, известен улицей Лизюкова 5, Кольцовским сквером 1, Чернавским мостом 1; родина знаменитых людей 2, жил Мандельштам 2, работает проф. Стернин 2, родина Кольцова 1, родина Никитина 1, здесь живет Май Абрикосов 1; место действия мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» 22, связан с известными фразами «Воронеж не догонишь» 5, «… девчоночки веселые, певучие» 1; красивый 27 и привлекательный 8, реже некрасивый и непривлекательный 8, город контрастов 1; криминальный 10, загазованный 2; преимущественно грязный 14, реже чистый 1; благоустроенный 3, уютный 2, хорошо озелененный 2, реже неуютный 2, с плохими дорогами 1; бедный 2; развита торговая сеть 2, хорошая медицина 1, но трудно найти работу 1; жители хорошие люди 3, разных национальностей 3, гостеприимные 2, умные 1, много женщин 1, характерно произносят звук «г» 5; странный 1, вызывает скуку 4, надоедает 1; строящийся 3, перспективный 2, развивающийся 1, реже неперспективный 2; современный 3; как интересный 4, так и неинтересный 4; имеет неудачное название 2; родной 17, место жительства моих родственников 6, я никогда его не посещал 11, незнакомый мне 9; оценивается положительно 18, реже отрицательно 3 [60, с. 90].
Т.Е. Никольская провела экспериментальное исследование состава и структуры ассоциативного поля личных имен, полагая, что ассоциативный компонент является полноправным элементом семантики личных имен [53].
Она провела свободный лингвистический эксперимент, в котором принимали участие 210 студентов Нижегородского лингвистического университета и Нижегородской архитектурно-строительной академии в возрасте от 17 до 20 лет.
Испытуемым был предъявлен экспериментальный список, в который вошли 40 произвольно выбранных личных имен: 14 мужских и 14 женских официальных имен, а также 12 неофициальных, но связанных с ними имен.
По итогам эксперимента было получено 6212 реакций.
Т.Никольская распределила реакции по характеру отношения к языку на две группы: лингвистические и нелингвистические.
Лингвистические ассоциативные реакции распределялись на следующие подгруппы:
а) реакции с фонетическим сходством формы личного имени с лексемами нарицательной лексики (например, Евгений – гений);
б) реакции, которые основаны на рифмах (например, Толик – кролик);
в) реакции, основанные на цитатах (Борис – ты не прав);
г) реакции, основанные на знаниях об этимологии имени и др.
Среди нелингвистических ассоциативных реакций Т. Никольская выделила:
а) реакции, основанные на фоновых знаниях (Александр – Македонский);
б) реакции, характеризующие внешность потенциального референта (Екатерина – мужественная, гордая);
в) реакции с визуально-динамическим образом (Анчутка – бьет посуду) и др.
Наиболее высокий процент получили реакции, основанные на фоновых знаниях испытуемых (90 % от общего числа реакций – для имени Анна; 64,9 % – для имени Борис и т.д.).
Синтагматические и парадигматические отношения между стимулом и реакцией составляют основу формирования ассоциативных связей, основанных на фоновых знаниях.
Эксперименты Н.В. Бубновой базируются на идее, что имена собственные обладают ассоциативно-культурным фоном, который формируется совокупностью вербальных ассоциаций, связанных с тем или иным онимом в составе фоновых знаний региональной языковой личности и при этом не входит в содержание самого онима.
Региональная языковая личность представляет собой обобщенный образ носителя языка в том или ином регионе (члена определенного регионального языкового пространства), который имеет определенный набор фоновых знаний. Имена собственные являются важнейшей единицей этих фоновых знаний.
Ассоциативный эксперимент является продуктивным способом выявления ассоциативно-культурного фона.
Для реконструкции ассоциативно-культурного фона имен собственных Н. В. Бубнова провела ассоциативные лингвистические эксперименты на региональном и общенациональном уровнях.
В качестве стимульного материала был использован топоним Смоленщина.
Региональный эксперимент проводился в письменной форме в два этапа.
На первом этапе было опрошено 1650 респондентов, которые заполняли анкету со следующими параметрами: возраст, место рождения, время проживания на Смоленщине, место жительства, уровень образования, сфера профессиональной деятельности.
Испытуемые должны были в течение одной минуты записать имена собственные, с которыми у них ассоциируется слово Смоленщина.
По итогам эксперимента была сформирована электронная база данных №1, «…включающая 1212 реакций (13 471 употребление), которые достаточно полно и точно отражают культурные, исторические, географические и другие реалии, связанные с заглавным смоленским онимом» [9, с. 28].
В ядре ассоциативного поля оказались такие онимы, как Днепр (953)9, Успенский собор (725), Крепостная стена (695), Ю.А. Гагарин (596), М.И. Глинка (492), А.Т. Твардовский (466), Смоленск (345), М.В. Исаковский (273), Ф.С. Конь (232), М.К. Тенишева (166), Н.И. Рыленков (154), Василий Тёркин (124).
На втором этапе была поставлена задача выявить их ассоциативно-культурный фон.
В этот раз эксперимент проводился исключительно в студенческих группах. Всего в эксперименте приняли участие 863 студента различных вузов Смоленска. Эксперимент проводился в письменной форме. Заполняли испытуемые тот же самый бланк с анкетой, который был использован на первом этапе + «ядерные» смоленские онимы.
По результатам эксперимента была составлена электронная база данных №2.
Приведем данные о структуре ассоциативно-культурного фона антропонима «Ю.А. Гагарин». Все реакции распределены на 4 группы.
I. ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ (87/796):
1. Реакции, характеризующие сферу деятельности носителя имени (64/710) (реакции переданы курсивом, для каждой из них указан ИЧ):
1.1. Профессия, род занятий 41/365: космонавт 183; лётчик 3; великий космонавт 2; астронавт; космонавт-герой; летчик-испытатель; полетевший в космос 1.
1.1.1. Первый космонавт 79; 1-й космонавт 24; первый 12; первый полет в космос 10; первый человек, полетевший в космос 7; 1-й, 1-й полет в космос 5; космонавт 1-й; космонавт первый; первый русский космонавт; первый человек в космосе 2; 1-й в космосе; 1-й космонавт мира; 1-й русский космонавт; 1-й чел. в космосе; 1-й человек в космосе; 1-й человек, полетевший в космос; космонавт № 1; космонавт первый в мире; не первый космонавт; первооткрыватель космоса; первый в мире космонавт; первый космонавт мира; первый космонавт, полетевший в космос; первый летчик; первый побывал в космосе; первый полет; первый человек, который полетел в космос; первый, кто полетел в космос; первым полетел в космос 1.
1.1.2. Русский герой, полетевший в космос; русский космонавт 1.
1.1.3. Космонавт со Смоленщины; смоленский космонавт со Смоленщины 1.
1.2. Космос 5/246: космос 240; звезда 3; бесконечность, Земля, спутник 1.
1.3. Полет в космос 17/98: «Поехали!» 30; полет в космос 11; ракета 9; скафандр 5; полет 4; «Восток», шлем 2; полет в космос человека; полет человека в космос; полетел старшим лейтенантом, спустился майором 1.
1.3.1. 12 апреля 19; 12 апреля 1961 г. 4; 1961 г., 1961 год 3; 12.04.61; 1961 1.
1.3.2. Прорыв человечества 1.
1.4. Космонавтика 1.