Великан в моем сердце
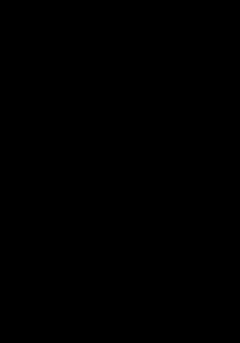
Вступление
Хоть книга носит мистический характер, хочу раскрыть смысл названия – «Великан в моем сердце». Так я назвала безусловную любовь, которую испытываешь к самым близким людям и родному месту. «Великан в моем сердце» в переводе на мокшанский (мордовский) язык – оцю ломань монь седисын.
Действие книги происходит в мордовской деревне Шумокшум, которая на самом деле называется Гремучий Ключ и находится в Оренбургской области. В этой деревне жила моя бабушка, родилась моя мама. Я решила перенести тоску в слова и получилась эта рукопись, чтобы помнить: пока ты помнишь, разрушенный дом стоит на месте, а бабушка по—прежнему ждет тебя в гости.
Каждая часть – история о той самой безусловной любви к месту и людям, о потерях и возвращениях. Пусть книга получилась жутковатая, но именно описание мест, имена и дома – списаны с настоящих.
Часть 1. Где Агата возвращается домой
Она пропадает в тот момент, когда больше всего нужна.
Стоило выйти на перекрестке и свернуть с большака направо, пройти чуть меньше километра вниз и заметить тот самый дом. Раньше он был окружен двумя рыжими соседями, теперь стоит в одиночестве и никого не ждет.
Именно здесь она пропадает.
А мое сердце бьется, бьется, бьется все громче с каждым шагом. Я почти бегу вдоль леса, наступаю на трескучие желуди, переливаюсь в лучах солнца сквозь раскидистые дубы. Интересно, какой меня сейчас видят облака?
Хочу рыдать. Упасть на пыльную дорогу и ползти до дома. Скоро он появится, и я, пожалуй, разобьюсь. Дорога делает резкий поворот, сначала вижу длиннющий огород. Вдоль дороги разбежалась земляника. Повсюду – изумрудные листочки.
Я стучу в покосившуюся дверь такого же изумрудного, как листы земляники, дома, понемногу выгорающего на летних лучах. Сейчас он кажется растаявшим. Так ребенок каждый год примеряет знакомые пространства и пугается их уменьшению. В памяти все гигантское, загадочное, только блестками не посыпанное.
Никого. Спускаюсь со скрипучей ступени в море лохматой гусиной травы. Первое окно, зал. Внутри прохладно, помню это. Никого нет. Второе окно, сени. Внутри темно, как ночью. Солнце еще не спряталось, но в маленькое закоптившееся стекло вижу только свои испуганные глаза.
Открываю калитку в полисадник. Добираюсь до другой стороны дома. Третье окно, кухня. Вижу себя по пояс, внутри тишина: и в доме, и во мне.
Если здесь никого нет, мне негде остаться. Но как так может быть, что в самом главном месте – негде остаться?
Меня не было в деревне больше двадцати лет. И если бы когда—то сказали, что вернусь сюда одна, без мамы или бабушки, ответила бы, что быть такого не может. Из воспоминаний во мне – смешные сморщенные грибы, огромные бабушкины лепешки, хвойный лес со скрипящими на ветру соснами, вафельные конфеты со вкусом ананаса и высоченные желтые головы подсолнухов.
Но только вышла на большаке, воспоминания стали набухать внутри. Фигурки из глины. Я лепила прямо здесь, у дома, во дворе. Глина была перемешана с гусиной травой, но стоило добавить воды, и серые птицы сами оживали в руках. Запах костров. Перед сном я сидела на лавочке у палисадника и вдыхала гуляющую над деревней дымку от затопленных бань и сгорающей ботвы.
За моей спиной шелест и резкий гортанный голос.
–
Тебе что нужно?
Знакомый, как и дом. Я поворачиваюсь на звуки.
–
Я ищу хозяйку
Голос хмыкает. Это девушка.
–
Нет ее. Она в соседней деревне
И чего я ждала?
–
Вот как. А когда вернется?
–
А я откуда знаю
–
Ну да
Девушка крепко держится за руль велосипеда, ноги упираются в землю. Она высокая, и велосипед ей давно не по размеру. Как и платье. Как и деревня.
–
Помнишь меня?
Не помню.
–
Вы бы еще дальше встали, я вижу только велосипед и то, что вы – девушка
Девушка снова хмыкает.
–
Я Вера
Вера.
–
Живу по соседству
Вера. Вера.
–
Вон в том желтом доме, видишь?
Девушка указывает через овраг.
–
Мы с тобой свистульки делали
На другой стороне желтый дом. Тоже знакомый.
–
И ты мне подарила свою городскую куклу
Вера! Ну конечно!
–
Вера! Ну конечно!
Городская кукла – это Барби. У местных девочек таких не было. Да и в город их привозили только по заказу, продавали из—под плаща. Сейчас за эти деньги можно было бы купить модный шоссейный велосипед. Взрослый. Лучше бы я Вере велосипед подарила. Моя Барби была знойной афро со смольной копной волос, синими тенями и оранжевым комбинезоном на стройном пластиковом теле. А Барби я подарила, потому что отец привез мне новую из Москвы. Да и не то, чтобы подарила – оставила про запас у бабушки. Иметь деревенскую Барби – отдельный вид роскоши, почти как деревенскую виллу. Оставила её на комоде, чтобы бабушке было не скучно. А бабушке не было скучно, к ней часто забегали на чай, и Вера со своей мамой в том числе. Только следующим летом я узнала, что Барби теперь у Веры. Это была моя первая и единственная афро Барби, но к тому моменту домашний барбинг насчитывал три новеньких блондинки. И в душе я и правда подарила Вере эту куклу.
Вера улыбается. Я плохо различаю, но надеюсь на лице не ухмылка, а искренняя радость.
–
Зачем ты приехала?
Откуда я знаю?
–
Хочу узнать про родственников
–
А родители не рассказывали?
–
Мне нужно знать больше, чем знают они
Вера молча смотрит на меня.
–
И что будешь делать, если хозяйка не придет?
Я развожу руками. Если запасной ключ от дома спрятан в том же месте, ответ приходит сам собой.
–
Не знаю. У меня здесь никого нет. Кроме тебя
–
Я к себе не возьму. Живу с теткой и шестью племянниками. Дом у нас, если помнишь, меньше вашего
Как же не помнить. Детьми мы прятались от летнего солнца в просторном доме с полупустыми комнатами. Из мебели в доме была только тумба, черный ящик с антенной, два матраца и использованные ульевые рамы. В доме полно пчел, дед Веры – хозяин бесконечно шумной пасеки.
Теперь я понимаю, что дом мне только казался просторным, а пасека – огромной из—за того, что вокруг меня маленькие люди. Маленькая Вера, маленькая я.
–
Значит, у меня нет выбора
Я подхожу к торцу дома, упираюсь носками в глиняную кучу и закидываю ладонь за загоревший на солнце каркас. Вместо щепок мне на голову сыпется изумрудная крошка краски. Так делали бабушка и мама. Получается, я следующая.
–
Ладно, пойдем к нам
Ворчит Вера до того, как я касаюсь холодной меди. Одергиваю руку. Оставаться в чужом доме одной хочется меньше, чем делить матрац с несколькими подростками. Если они конечно подростки.
Вера катит велосипед между нами. От неё пахнет тлеющими сотами. Я то и дело смотрю на Веру, ничего не выдает в ней особенного человека, но она – другая. Равнобокая, как луна, Прямой нос и широкие темные брови. Вера красивая и настоящая, какой и была в детстве. Ее просто приблизили в зуме, теперь она немного размыта и выше.
И все мне кажутся выше и более размытыми, чем я. С каждым годом я смотрю уже не на мальчиков, не на парней, а на мужчин. Они говорят об ипотеках, меняют одну машину на другую. Они больше не мечтатели и простофили. А я мечтатель и простофиля. И сейчас я смотрю на Веру. И она тоже мечтатель и простофиля. Совсем как из детства. Совсем как я. Хочу откинуть велосипед между нами, чтобы ничего больше не было, кроме нас, и сжать ее что есть силы, чтобы она меня оттолкнула, а я бы была готова.
Я то и дело смотрю на Веру, ничего не выдает в ней особенного человека, но она – другая. Она бы меня никогда не оттолкнула.
А Она так и не появляется. И это – впервые за полгода, за которые я несколько раз проверяла зрение, анализировала психическое состояние и экспериментировала с антидепрессантами. Все, что таблетки уничтожили, это мою нестабильную творческую непосредственность. Только не эту женщину. Только не ее.
Впервые она появилась ранним утром, когда я, проиграв бессоннице, заварила травяной чай и засела на балконе с чайником. Любимая кружка разбилась, и в полуночной лени я пила прямо из узкого носика. Обычно по пути к чашке носик лагал и половина чая проливалась на голые колени.
Ослепленная первыми прыгнувшими в разные стороны лучами солнца, я зажмурила глаза. И слева от себя увидела её. Первой реакцией было вздрагивание, за вздрагиванием – мурашки, за мурашками – смех. Вот так мог выглядеть трейлер нового «проклятия монахини», но это было всего лишь мое утро. И женщина в черном, ровесница мамы, слева от меня.
Она стояла, маленькая, с паутинкой морщин вокруг глаз. Я совершенно точно не узнавала ее, но она казалась на кого—то очень похожей. Зеленые глаза, как распустившийся одуванчик, черные брови, острый нос. Взгляд в принципе молчал. Не осуждал, не обнимал. «Сама выбирай, что я к тебе чувствую». Было непонятно, смотрит ли она на меня или мимо меня.
Бессонница стала таким будничным делом, что я просто допила чай и пошла в кровать. Это галлюцинация. До начала работы оставалось три часа, серебряные часы для сна. Последним, что попалось мне на глаза, прежде чем голова упала на подушку – она, стоит, маленькая, с паутинкой морщин вокруг глаз.
С будильником она не исчезла. И к вечеру тоже. Я выбралась из дома, чтобы проверить, пойдет ли она за мной. Она не шла, но всегда была рядом. Я не видела, чтобы женщина перебирала ногами или моргала. Зато черный платок то покрывал седую макушку, похожую на сугроб снега, то сжимался в руках.
Кроме меня её никто не видел. А она напоминала китайскую пытку. Постоянным присутствием, молчаливым и монотонным, сводила с ума.
Самолечение снотворным и сон не помогли.
За пару недель, что она составляла мне компанию, я сходила к специалистам, имен которых не хочу называть. Про свою новую подругу ничего не рассказала и на секунду даже показалось, что она смотрит на меня с благодарностью.
Каждый день я задавала ей вопросы:
Кто ты? Откуда ты? Зачем ты здесь? Я знаю тебя?
Ответа не было. Она просто смотрела на меня и никуда не девалась.
После нескольких месяцев антидепрессантов и психотерапии я отпустила надежду, что это плод стресса и тревожности. И поехала к маме.
Мы с Верой подходим к покосившемуся дому. Издалека он казался желтым, вблизи – грязно—горчичным, почти коричневым.
Вера ставит велосипед к забору и поднимает руку.
–
Жди здесь
От удивления я встаю.
–
Я тебя позову
–
Лаааадно
Вера заходит в дом. Дом оживает, шепчется. Дом жужжит, как улей.
Со двора видна вся деревня. Справа, за деревьями, на самой вершине холма, прячется погост. Дорога от него спускается в деревню и аккуратно делит ее пополам. Дорога от одного мира к другому. Слева, через овраг, бабушкин зеленый дом. В нем теперь живет едва знакомая мне женщина. Мама говорит, что—то вроде двоюродной тетки троюродной бабки. Я её видела только в детстве, поэтому можно сказать, что в бабушкином доме живет незнакомый мне человек.
Мама не знает, что я приехала в деревню. Вообще никто не знает. И Вера бы не узнала, если бы не наша случайная встреча.
А мне ведь повезло, что Вера оказалась рядом.
Когда я приехала к маме и рассказала про свою новую подругу, она от удивления сначала замолчала, а потом предложила посмотреть старые альбомы с черно—белыми снимками. Мама никогда не знала, вам вести себя со мной. Ни слова осуждения, ни одного подозрения в невменяемости.
Мы просто сели за старые фотоальбомы. Черно—белые снимки сменялись бледно—коричневыми, выцветшими и хрустящими, как засохшие цветы. В одиноком детстве я постоянно пересматривала альбомы с прошлым, но не всех людей знала. Сейчас рядом была мама, и можно было узнать незнакомцев по именам.
Это тетка со стороны отца – мама упирается указательным пальцем в блондинку с впечатляющими косами, платье в мелкий цветок, рукава—фонарики. Это брат матери – палец падает на кудрявого парня с огромными светлыми глазами и кустистыми бровями. Он не смотрит в кадр, улыбается кому—то. Близнецы, белобрысые беззубые мальчишки в одинаковых сорочках, у каждого – по початку кукурузы в руке.
В конце третьего альбома ждала она.
А вот и Вера. Она открывает дверь и машет мне рукой – идём сюда. Не знаю, сколько я простояла во дворе, но уже стемнело. Дорога на погост после взгляда на свет из двери и Веру скрылась на густыми сумерками. Я иду к дому, но успеваю взглянуть в сторону бабушкиного дома и вижу свет из крохотного окна сеней.
Я смотрю на Веру и показываю ей на дом – там свет. Вера тоже смотрит, но мотает головой и снова машет рукой – идём сюда.
Я поднимаюсь по уставшим ступеням и понимаю, как же устала сама. Совсем как крыльцо когда—то желтого дома. Вера распахивает дверь, придерживает меня за плечи и проводит внутрь. В сенях темно.
Я давно не была в деревенских домах. В бабушкином, деревянном, сначала была прихожая, за ней – сени и чулан, следом – кухня с печью, самая последняя – гостиная с кроватями. Бабушкин дом напоминал улитку, ты проходишь спиралью, и из окна гостиной видишь крыльцо.
Дом Веры, я помнила ещё с детства, был совсем не таким. У него было очень высокое крыльцо, не было прихожей. Ты сразу оказываешься в сенях. Из сеней – в огромной—огромной комнате, которая и за столовую, и за гостиную.
Мы долго брели по сеням. Казалось, будто между домом бабушки и домом Веры расстояние было меньше, чем с крыльца до гостиной.
–
Здесь так темно
–
А ты чего ждала?
–
И тихо
–
А ты чего ждала?
Наконец моя рука упирается в дверь. Вера дергает ее на нас.
–
Свет у бабушки в окнах
–
Ну
–
Горел
–
Ну
–
Может, мне к ней вернуться?
–
К бабушке?
–
К дому
–
Ну
В комнате светло. Ничего не изменилось. Из мебели в доме – по—прежнему – только тумба, черный ящик с антенной, два матраца и использованные ульевые рамы. Только пчел нет.
Я не понимаю, где все обещанные родственники.
–
А где все?
Вера идет к матрасам и садится на один из них.
–
Сегодня мы здесь вдвоем
Вера хлопает по второму матрасу.
–
Ложись. Мне завтра стадо выгонять
Я стою на месте. Ощущаю тяжесть рюкзака на плечах и мглу усталости между мной и Верой. Она поднимается.
–
Чай с медом нужно?
Я киваю.
–
Ложись. Сейчас принесу
Я прохожу к матрасу, бросаю рядом рюкзак и сажусь. Оглядываюсь по сторонам, смотрю на потолок. Интересно, как здесь зимой без печи. Наверное, очень холодно спать на полу. Даже сейчас от окон сквозит.
Веры нет, я оглядываюсь с опаской на пожелтевшую подушку с застиранными мелкими васильками. Просто положу голову. Больше я ничего не помню, только сквозь сон – пар по руке и запах мёда.
Мама уже собиралась перевернуть страницу фотоальбома. Я задержала её руку и показала на женщину в черной косынке.
–
А это кто?
Мама приблизилась к снимку, повертела альбом и задумчиво хмыкнула.
–
А вот этого не знаю
–
А какой это год?
Мама поддела ногтем снимок, он без проблем отошел от бумаги. 1915
–
Тысяча девятьсот пятнадцатый, представляешь
–
Прабабушка?
–
Бабу Настю я бы узнала
Мама всматривалась в женщину.
–
Но вообще, похожа
Я посмотрела на фотографию, потом на женщину рядом со мной.
«Но вообще, похожа» – звучало, как повод поехать в деревню. Интересно, моя новая подруга этого и хотела? Недоверчивое выражение лица, по крайней мере, не выдало эмоций.
–
Можно я заберу фотографию?
Мама кивнула и протянула снимок мне.
Я открываю глаза от горячего солнца на веках и легкого прикосновения мозолистой руки.
–
Проснулась
Передо мной на коленях – незнакомая женщина, она ласково и одновременно опасливо гладит меня по запястью.
–
Я Прасковья
–
Прасковья?
–
Баба Проска. Не помнишь меня?
Сажусь на кровати и всматриваюсь. Ну конечно, баба Проска.
–
Ну конечно, баба Проска!
Женщина улыбается, с трудом поднимается и идет к двери.
–
Вера сегодня за пастуха. У нас, знаешь, пастух снова запил, решили по очереди следить за стадом. Как раньше. Сегодня наша очередь. Вера одна из нас ходит на выгон, дети еще малы, а я уже не осилю. Да и за курами кому—то же нужно присматривать
Прасковья поворачивается ко мне.
–
Пойдем пить чай
На улице, в тени от дома, маленький деревянный столик с косолапыми табуретами. На столике – алюминиевые кружки с дымящимся чаем, лукошко с яйцами, огромная булка белого хлеба и перья зеленого лука. Прасковья несет пиалу, в ней переливается солнце. Мёд.
–
Садись за стол, а мне нужно птицу кормить
–
Помочь?
–
Нет, дочка. С птицей я и сама справлюсь
После быстрого завтрака в одиночестве я помыла посуду ледяной водой из рукомойника, переоделась и нащупала в рюкзаке старый фотоснимок. Прасковьи не видно, спрошу про женщину, как вернусь с кладбища.
Деревня уменьшилась, и дело не в том, что я стала выше. Её как будто схватил в объятия лес, и каждый год сжимает крепче, крепче. Деревня блестит, как пиала с мёдом. А окна на солнце – как соты.
Колодца на прежнем месте нет. Раньше он стоял посередине дороги, по соседству с самым первым колодцем – журавлем. А теперь на его месте бурьян, как будто не было никакого колодца, не было никакого алюминиевого ведра с шаткими ручками на отсыревшем канале. Мы залпом пили воду прямо из ведра. Во рту привкус алюминия, и горло по привычке сводит.
Оглядываюсь по сторонам. Ни гусей, ни собак не попадается. В полдень укрылись по темным закуткам. Дерево со свистульками раскинуло свои лапы над лавочкой, где собирался главный бабсовет. Я никогда не умела свистеть, в зеленые стручки – тем более.
Я подхожу к крайнему дому, улица поворачивает налево, мне – прямо, по утрамбованной полевой дороге. Издалека высокая трава с пушистыми ворсинками казалась блестящими на солнце волнами. Близко она ещё больше напоминает волны. Я врезаюсь в эти волны, раскидываю руки и делаю вид, что плыву. Как в детстве.
Не успеваю пройти нескольких шагов, поворачиваюсь к деревне лицом и смотрю на каждый домик. Не получается не заплакать. Меня здесь не было больше двадцати лет. Последние полгода женщина в черном была рядом со мной неотступно. На миг я подумала, а не была ли она символом тоски по дому? Не просто же так она исчезла, стоило мне вернуться.
Волны расплываются от слез, я поднимаюсь, и поднимаюсь, и поднимаюсь. Вот деревянные ворота, колючие кусты по бокам. Я выхлестала все слезы, а ведь впереди – встреча с бабушкой. Что я скажу? Извини, бабушка, я смочила сухую дорогу, на тебя ничего не осталось.
В тени, на лавочке, угостив бабушку конфетами и напоив водой, я поняла —
Слезы ещё как остались.
Я рассказываю ей про странную женщину, которая следовала за мной по дороге сюда. Мама и бабушка умеют слушать.
Спустя час прощаюсь с бабушкой, угощаю конфетами всех с одинаковой фамилией, по пути смотрю на другие имена и даты. Вдруг моя исчезнувшая подруга где—то здесь?
В самой глубине кладбища нахожу старый столб, от усталости он облокотился о забор. На нем как будто гвоздем – выбито «Анна, 1916». Никогда не видела таких могил. Холм совсем узкий, как будто внутри оставили кого—то совсем крошечного. У основания столба еще какие—то буквы. Сажусь на корточки, мелкими буквами выбито «калмонь кирди». В голове мамин испуганный шепот «на кладбище нельзя фотографировать», пытаюсь запомнить. Калмонь кирди, калмонь кирди, калмонь кирди. На всякий случай записываю в заметки.
Боковым зрением ощущаю чьё—то присутствие, оглядываюсь по сторонам. Никого. Вообще никого. Но такое же ощущение у меня было последние полгода. Кто—то постоянно наблюдает. Сейчас также.
–
Анна?
Деревья как будто вибрируют. Отвожу глаза и совершенно точно вижу тень. Невысокая фигурка, платок на голове. За полгода силуэт отпечатался на сетчатке.
–
Анна
Она здесь, но ее не видно.
–
Что я здесь делаю?
Тишина. Возвращаюсь к бабушке, сажусь на лавочку рядом с ней.
–
Лучше бы ты ко мне пришла, а не она
Бабушка молчит. Конечно, что же ей ещё делать.
–
Лучше бы я тебя видела, а не её
Слёзы снова возвращаются. Теперь – от непонимания, что я здесь делаю. Тишина подкидывает мысль «на какие—то вопросы могут ответить только мертвые, а на какие—то – только живые».
На кладбище у меня больше знакомых, чем в деревне. Но пора возвращаться.
Выхожу с кладбища, вся деревня по—прежнему блестит. До заката ей блестеть и блестеть, ловить пшеницей и подсолнухами тепло и отдавать обратно. На самом дальнем лугу – белые комочки. Кажется, что это гигантские головки белоснежного хлопка, которые перекатываются на ветру и звенят, звенят, звенят. Раскидываю руки в стороны и бегу вниз. Кричу, что есть сил. От страха, от воспоминаний, от счастья. Как в детстве. Нет ничего ярче жизни, когда ты ребенок. Нет ничего ярче.