Дело Короля: Преступление, которого не было?
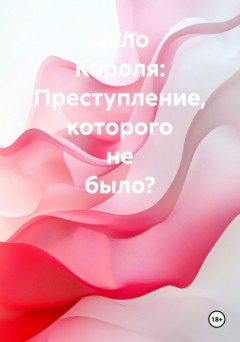
Глава 1.
Холод висел в коридоре едкой плёнкой, как потухшая коптилка. Энн Николь помнила её запах. Тот самый, что стоял в комнате после того, как унесли Лиззи. "Не рыдай, – шептала тогда Агата Торн, – слёзы – это неподобающая роскошь. Ты ещё узнаешь, какая честь тебя ждёт". Честь. Энн сжала крошечный клочок бумаги, впившийся ей в ладонь. Всего одно слово. Оно жгло кожу куда сильнее, чем утренний холод.
Высокие окна с молочными стёклами пропускали свет скупо, а туман за ними лизал стекло, превращая мир в мутное серое варево. Камень под ногами был старым, холодным и – казалось – слегка дышал. Половиц не было. Камень отвечал шагам глухо, будто прислушивался.
Тишина здесь не была просто отсутствием звука. Она была густой, вязкой, с собственной массой. В ней слышалось, как обшивка двери впитывает влагу, как где-то в глубине здания скрипит забытый клин. Тишина стояла такая, что могла бы заглушить собственный крик, родись он у кого-то в глотке.
Потом – металлический щелчок старинных часов: раз. Пауза. Два. Пауза. Три. И уже без пауз – семь. Ровно 7:00.
Дверь класса распахнулась без стука, будто разрезала плёнку тумана. В проёме встала Агата Торн: строгая, собранная, лицо – как застёгнутый на все пуговицы френч. В руке – связка ключей, и один не простой: головка, отлитая в форме короны, черным металлом, глухим к свету.
– Пятиминутка тишины.
Её голос не требовал подчинения; он констатировал закон. Воздух сгустился.
В классе сидели семь девочек в одинаковых темных платьях. Они напоминали срезанные цветы в вазе – красивые, но уже увядшие. По росту, по парте, по невидимой линии, как штыки, будто их выровняли по невидимому уровню. Они замерли ещё до команды – команды здесь никогда и не требовалось повторять дважды. В первом ряду – Энн Николь: хрупкие плечи, большие глаза, слишком глубокие для её возраста. Руки на фартуке. Только сухожилия на тыльной стороне ладони дрогнули – и застыли. Статуи дышат почти незаметно. Они словно куклы, готовые к действию по команде.
Под ножкой стола у кафедры торчал клин – незаметный, выравнивающий мебель на кривом полу. Здесь ровность была не удобством, а обетом.
На столе Агаты лежала печать: та же корона, что на ключе, только массивная, холодная. Рядом – журнал с пустой графой для подписи. Бумага молчала, зная своё место. Песочные часы на кафедре были нелепо огромными: две стеклянные колбы на чугунной раме. Песок в верхней – полный, но не тёк. Будто чья-то воля держала его взаперти.
Агата опустила ключ на стол. Металл звякнул о металл – громче, чем следовало. Эхо прокатилось по камням и вдруг глухо споткнулось, будто наткнулось на невидимую стену.
Песок в часах – заключённое в стекло время – содрогнулся. Не потек – судорожно вздохнул комком, будко пытаясь сбросить невидимые оковы. Одна песчинка-одиночка сорвалась и застряла в горлышке, будто не решаясь упасть в бездну непоправимого события. Девочки не подняли глаз, но у одной веки дрогнули – мелькнул трепет пойманной птицы за стеклом. Энн не шевельнулась, высеченная из мрамора тишины. Только пальцы впились в фартук на миг – бессловесный крик – и отпустили.
Агата взяла перо. Чернильная капля упала рядом с пустой графой, как предчувствие. Подпись вывела чётко, без росчерков – будто вырезала ножом. Печать опустила сверху.
Тук.
Звук осел в костях.
– Приступай.
В этот миг дверь снова приоткрылась. Вошёл мужчина крупного телосложения. Его шаги были редкими и тяжёлыми, как удары молота по камню. Девочки не обернулись – здесь никто никогда не оборачивался. Но каждая знала его.
Король.
Энн сжала в ладони крошечный клочок бумаги. Одно слово. Бумага липла к пальцам, как если бы знала, что сегодня будет поздно.
Король двинулся вдоль рядов. В классе всё ещё держалась "пятиминутка тишины", и каждый его шаг звучал сильнее, чем дыхание. Он останавливался у парт, склонялся ближе, разглядывал лица. На губах блуждала улыбка. Язык скользнул губам медленно, предвкушающе.
Возле третьей парты девочка едва заметно вздрогнула. Он выпрямился и сказал низко, без тени сомнения:
– Эта.
Агата не ответила. Только повернула песочные часы. Пятиминутка тишины закончилась. Энн зажала бумажку крепче. Впервые ей показалось: слово "Притчард" .
Ритуал закончился. Урок начался.
Глава 2
Туман за окном был плотным, как грязная вата, забившая улицу. Колокол Святого Михаила не звонил – глухо бился о вату и расползался. Шесть утра.
Карсуэлл сидел за кухонным столом, босые ступни на ледяных плитках. Пахло слабым чаем, подгоревшими тостами и свежей типографской краской – газету только что сунули в дверь.
Жена у плиты. Масло шипит в чугунной сковороде, ложка постукивает о край – её литургия тридцати лет.
На краю тарелки – щепотка соли. Не в солонке: отдельной кучкой. Карсуэлл взял кристаллы двумя пальцами, растёр и провёл белую черту по краю газеты.
Граница, – подумал он. И усмехнулся без радости. От чего? От кого?
Жена, не оборачиваясь, на миг повернула голову. Глаза скользнули по столу, по его руке с солью, встретились с его взглядом – коротко, без слов. Ни осуждения, ни любопытства. Только знак: вижу, знаю, молчу.
– Яйца? – спросила она. Голос ровный.
– Нет, – сказал он, ещё хрипло.
Он сгреб остатки соли с тарелки и сунул в карман халата. Кристаллы заскрипели, как песок на дне старого мешка. Жена опустила взгляд на сковороду, ложка пошла дальше.
Газета "Глостершир Кроникл" блестела свежей краской. На первой полосе:
УЧИТЕЛЬ ПАНСИОНА "НОРТ-ИСТ" ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ.
Под заголовком – грубая гравюра: здание с остроконечной крышей, окна – тёмные прямоугольники. Карсуэлл ткнул ногтем в одно из них. Щёлк. Бумага вмялась.
Он поднялся, оставив недопитый чай. Подошёл к двери, вытряхнул соль из кармана на порог и провёл ровную линию – тонкую, уверенную.
– Позавтракаешь?
– После.
Туман у порога едва шевельнулся и отступил – или показалось. Карсуэлл взял палку, газету сложил пополам, спрятал в карман плаща. В шесть пятнадцать он вышел. В кармане похрустела не только соль – рядом шуршал тугой конверт. Он всегда клал его рядом, чтобы случайно не перепутать с газетой.
В семь он будет в Ассизном суде. Дела всегда начинались одинаково: тяжёлый взгляд жены и белая черта на пороге.
Он ощутил, что эта черта – не граница, а петля: где бы он ни шагнул, всё возвращало его в дом, к жене, к её молчанию. И он стиснул зубы, потому что понял – всё, что ждёт его впереди, уже решено, и выбора не будет.
Карсуэлл уверен, что сделал черту солью на пороге. Но: белая линия исчезла, как будто её смыло дыханием. Его защита не работает.
Глава 3.
В дверь просунулась голова пристава.
– Милорд? Присяжные в сборе. Писарь – на месте. Прокурор просил минуту, но уже ждёт.
– Идём, – сказал Карсуэлл. Он погасил спичку, отложил сигарету – не затягиваясь – и взял папку.
В коридоре пахло воском и мокрыми плащами. Пол отзывался глухо; стены держали чужие разговоры, словно это и был их хлеб. Писарь – молодой, с чернильными пальцами и недосыпом – кивнул:
– Для протокола всё готово, милорд. Формулировки… как накануне.
– Тем лучше, – ответил Карсуэлл. – Значит, будет что уточнить.
– Встать! – отчётливо, без надрыва.
Зал – длинный, тёмный, тёплый от тел. На галёрке шуршали платья и цилиндры. Молоток на кафедре лежал, как лишний. Маленькие песочные часы на его столе шли исправно – ровный, успокаивающий шорох. Хороший звук для начала.
Карсуэлл коснулся часов, задержав пальцы на мгновение. Начать – значит подчинить день правилам. Не начать – признать, что правила дают течь. Он перевернул часы.
Вдоль длинного коридора, где под ногами скрипели тёмные доски, раздался сухой оклик судебного пристава:
– Суд идёт! Все встать! Его Милость, Барон Карсуэлл!
Зал поднялся единой волной. Скрип лавок, гул шагов, приглушённое покашливание. Карсуэлл вошёл, неся в себе привычку военного – спина прямая, шаг негромкий, но твёрдый. Он поднялся на возвышение и опустился в массивное кресло, под ним жалобно хрустнуло дерево.
Пристав продолжил:
– Сегодня слушается дело против Джона Торна, преподавателя пансиона “Норт-Ист”.
Секретарь у стола поклонился и начал быстро, деловито перекладывать бумаги. Скрип пера, шелест протоколов.
Карсуэлл пробежал глазами заголовок: "Дело Короля". Ни строчки лишней. Ни слова лишнего. Только буквы, набранные чётко и беспощадно.
Дверь сбоку отворилась. Под охраной вывели подсудимого.
Торн шёл неуверенно, будто его вес давил на каждую плиту. Лицо бледное, крупные черты казались расплывающимися, подбородок дрожал. Он сел в огороженное место для подсудимых и уронил взгляд в пол.
И тогда звякнуло.
Карсуэлл сразу уловил этот звук – глухой, металлический. Ключи. Подсудимый поправил карман сюртука, связка снова тихо качнулась и замерла.
Барон приподнял бровь. "Ключи? Но у него не может быть ключей. Даже носовые платки изымают при аресте. Откуда у него связка? Почему приставы молчат, или так надо?"
Один из стражников откашлялся, переглянулся с товарищем, но оба остались неподвижны, как будто не слышали вовсе.
Карсуэлл сжал губы и сделал пометку в уме.
– Объявите стороны, – произнёс он сухо.
Секретарь быстро поднялся:
– Сторона обвинения представлена королевским прокурором мистером Притчардом. Защиту подсудимого ведёт мистер Клэй.
Клэй, в очках, худой и насмешливый, поклонился слегка, с ухмылкой в уголках губ. Прокурор Притчард – наоборот, тяжёлый, неулыбчивый, держал голову, как солдат на плацу.
Карсуэлл кивнул.
– Приступайте.
В зале пошевелились. Лавки скрипнули, и снова – тишина.
– Вызывается Энн Николь, воспитанница пансиона "Норт-Ист", – буднично объявил пристав.
Девочка вошла сама. Короткие шаги, подбородок прямо, руки прижаты к платью. На свидетельской скамье ей подставили низкую табуретку – ступни не доставали пола и раскачивались сами собой, как маятник. Она остановила их усилием.
На галёрке женщины приглушённо защёлкнули сумочки, поправили шали; у одной дрогнули пальцы на узле платка. С запахом воска смешался лёгкий лавровый и мыльный – прачечные привычки, воскресные привычки. Две пожилые дамы переглянулись и отвернулись вбок, как от слишком яркого окна. Журналисты словно по команде начали что то писать.
Секретарь поднялся:
– Возраст?
– Тринадцать.
– Родители?
– Нет.
– Под чьим попечением?
– Под пансионом.
Карсуэлл кивнул:
– Предупреждена об ответственности за ложные показания. Если вопрос непонятен – скажи. Говори ясно.
Сбоку, в ограждении, Торн шевельнулся; ключи в кармане звякнули – чисто, как ложка о край сковороды. Латунь мелькнула. Никто из стражников не повёл бровью. Несколько женщин на галёрке одновременно вскинули взгляды – коротко, остро – и так же разом опустили их.
Прокурор Притчард поднялся. Фигура крупная, плечи чуть наклонены вперёд – не давящая поза, а скорее домашняя. Голос мягкий, будто для младших классов:
– Мисс Николь, прежде воды… – он кивнул приставу; тот поставил перед Энн стакан. – Если устанешь – скажи. Мы тебя слышим.
Короткая пауза. Он глянул на Карсуэлла: – Ваша честь, прошу оставить свидетельницу сидя.
Кивок.
– Скажи, пожалуйста, – продолжил Притчард, – совершал ли подсудимый в отношении тебя, скажем так, неприличные прикосновения?
Энн вздрогнула. В горле – вкус мела. Она сидела ровно, ладони на коленях. В правой – сложенный вчетверо клочок. На нём одно слово: Джон. Чернила отпечатались в кожу.
– Да, – сказала она. – Когда объявляли тишину, пятиминутку тишины. И когда я оставалась одна.
Шевеление на галёрке – женский вздох, тонкий, сплющенный в платке. Карсуэлл поднял руку – тишина легла, как крышка. Слышен скрип пера по бумаге.
– Ты уверена? – всё тем же тоном спросил Притчард. – Не могла принять случайное касание за другое? Если слово трудно – скажи проще.
Энн подняла глаза. Они были глубже её возраста, но голос – ровный:
– Уверена. Это было не случайно.
Защитник Клэй встал, поклонился легко; в голосе – железо:
– Возражаю. Просим свидетеля пояснить без оценок. Что именно она называет "Не приличным и непристойными" действиями: место, время, обстановка.
– Удовлетворено частично, – сказал Карсуэлл. – В пределах приличного, без образов.
Энн кивнула. Пальцы перестали мять бумажку; она положила ладони плоско.
– На чтении… мы стояли читали, – медленно. – Он ходил. Взял мою руку… как берут мел… и положил… – она искала слово, – …в карман. Долго держал. Сказал не дёргать.
– Под платьем… – на галёрке три женщины одновременно сильнее сжали сумочки; у одной хрустнули перчаточные швы, – …касался выше колена. Там, где взрослые руки не держат у девочек.
– В часовне – держал меня за талию слишком низко. Шептал, чтобы молчала. Что это "между нами". И что " шум – лишение". Я молчала.
Ключи опять тихо провели по латунному кольцу – цок-цок. У Торна на губах дрогнула улыбка; он тут же опустил взгляд. С галёрки это увидели – разом дёрнулись веки, кто-то едва слышно шепнул "Господи".
Клэй наклонил голову:
– Свидетель использует оценочные формулы – "слишком низко", "не держат" и тому подобное. Но кто учил тебя этим словам?
– Нам говорили… – снова подбирая слова, – …что "неприлично" – это когда становится стыдно и страшно, и хочется встать, но нельзя. Слово "неприлично" сказали. Остальные слова – мои.
В этот момент Притчард едва заметно повернул к ней ладонь – жест "говори дальше, как умеешь". Женщина в переднем ряду вынула чистый платок и, не глядя, протянула приставу; тот переложил его на край скамьи свидетеля. Энн не взяла.
– Сколько раз это происходило? – сухо уточнил Клэй. – Точный счёт.
– Я считала, – сказала Энн. – По гвоздикам на плинтусе. Три у стены, ещё два у кафедры, потом… – она вдохнула, – …пять раз. В разные дни. Когда песок ещё стоял в часах и нельзя было двигаться.
Мурлыканье женских голосов прокатилось галёркой, как тихая волна; кто-то шепнул: "Ребёнок же…"…
– Почему не обратилась к взрослым? – Клэй шагнул ближе к барьеру.
Притчард поднял ладонь:
– Ваша честь, прошу защитника не ускорять темп допроса. Свидетельница – малолетняя.
Кивок.
– Обращалась, – сказала Энн. – Тихо. В пятиминутку тишины нельзя говорить. После… – она искала простое,слово – …не верят. А ещё… – она коснулась ногтём бумаги в ладони, не разворачивая, – …если говоришь… – Если говоришь не то наказывают…больно.
Писарь на миг оторвал перо, провёл взглядом по своей странице, будто что-то потерял, и снова наклонился.
– Что ты имеешь в виду – "исчезают имена"? – мягко уточнил Притчард, просматривая документы дела.. – Скажи, как это выглядит.
– Было семь. Стало шесть. И никто не сказал "где". Только парта стала чистой, как будто её никогда не было. – Она посмотрела поверх зала, туда, где галёрка. – Я помню.
– Возражаю, – поднял ладонь Клэй. – Свидетель даёт метафоры о "исчезающих именах". Просим суд пресечь поэтические образы.
– Пресекать не буду, – сказал Карсуэлл. – Зафиксируйте буквально. Суд сам оценит.
Притчард чуть наклонился вперёд – не переходя черту – и мягко:
– Энн, если трудно назвать предмет, покажи ладонью, где "слишком низко". Не обязательно слово, – и тут же, уже в зал: – Ваша честь, прошу зафиксировать, что прокурор просит не детализацию, а границы, доступные ребёнку.
Кивок.
Энн, не глядя на Торна, провела ладонью в воздухе – на уровне, где пояс заканчивается и начинается стыд. На галёрке несколько женщин одновременно отвели глаза вниз; одна перекрестилась так украдкой, будто поправляла шарф.
– И всё же, – Клэй, возвращаясь к "железке", – слова "выше колена", "слишком низко", "неприлично" – это взрослые слова, мисс Николь?
– Да, – сказала она. – Но стыд – мой. И страх – мой. Они не взрослые. – Она смотрела прямо. – И рука – его.
В зале кто-то всхлипнул. Карсуэлл стукнул молотком – один раз, негромко. Песок в маленьких часах шёл ровно. Притчард медленно выровнял листы на столе – жест "ты справляешься" – и кивнул Энн почти незаметно: продолжай, мы тебя слышим.
Клэй подошёл ближе, пальцы легко коснулись барьера – и тут же он будто стряхнул невидимую пыль платком, аккуратно, с лёгким оттенком брезгливости.
– Свидетельница, – деликатно, почти ласково, – ты сказала: "когда объявляли тишину". Кто объявлял?
– Мисс Торн.
– Всегда?
– Всегда.
Клэй повёл плечом к суду, голос ровный, "служебный":
– Отмечаем: распорядок обязателен и публичен. – Снова к девочке, мягко: – Какие ощущения ты помнишь от касания?
– Холод.
Клэй – мгновенно, без паузы:
– Возражаю. Ненаучно. "Холод" – понятие относительное: сквозняк, болезнь, впечатлительность. Просим конкретизировать.
Карсуэлл кивнул, не меняясь лицом:
– Свидетель, поясни. Если можешь – в рамках приличного.
Энн впервые перевела взгляд на судью. Сказала тихо, но слышали все:
– Кожа была как камень. Холод шёл изнутри. Оставался на коже, когда он убирал руку.
На галёрке коротко ахнули; у двух женщин дрогнули перчатки на коленях. Несколько секунд слышно было тиканье настенных часов.
Торн дёрнулся и хрипло выкрикнул, не вставая:
– Ложь! Она… позволила!
Пристав шагнул, но Клэй опередил – наклонился к подсудимому, шепнул, одновременно убирая его пальцы со связки ключей. Звякнуло ещё раз – коротко, как точка.
– Подсудимого – к порядку, – сухо сказал Карсуэлл. – Ещё одно нарушение – удалю. – И, к Энн: – Девочка, ответь прямо: это происходило против твоей воли?
– Против, – без колебаний. – Я знала, что это неправильно. Я молчала, потому что боялась.
Притчард повернул к ней ладонь – "говори, как умеешь":
– Кого ты боялась?
– Всех.
Клэй поднялся снова; в голосе – тонкий металлический звон:
– Уточню. Рядом со свидетельницей нет врача, наставника; никто не проверил её состояние. Просим учесть впечатлительность возраста.
– Ходатайство о враче не заявлялось, – коротко отрезал Карсуэлл. – Суд слышит свидетельство. По существу.
Клэй кивнул – послушно – и тут же перешёл в наступление, аккуратно расставляя "проверочные" шпильки:
– Ты говорила: "он ходил". Подтверди: у кафедры?
– Да.
– В момент "пятиминутки тишины"? Когда класс стоит, глаза опущены?
– Да.
– А мисс Торн – где?
– У стола. С печатью и журналом.
Клэй на секунду разрешил себе тонкую улыбку – почти незримую:
– Значит, в классе присутствовал взрослый. И всё это – "в присутствии класса"?
– Да.
– При этом, – он слегка наклонился, – твоя рука якобы была в кармане у подсудимого. Ты правша?
– Да.
– На какой руке у тебя были манжеты? – он кивнул на её платье.
– На обеих.
– Платье короткое или с фартуком?
– С фартуком.
– Пояс фартука – на талии?
– Да.
– Тогда покажи, где ещё раз "слишком низко". – Он чуть повернул ладонь к залу. – В рамках приличия, Ваша честь.
– Разрешаю обозначить уровень, – кивнул Карсуэлл.
Энн, не глядя на Торна, провела ладонью в воздухе – там.
– Благодарю, – мягко сказал Клэй. – Далее. Ты утверждала: "держал долго – пока шёл песок в маленьких часах у доски". Сколько времени ты держала руку. Часы? Минуту? Две? Пять?
– Около двух, – после паузы.
Клэй поднял бровь чуть заметнее – того, что прилично:
– Тогда это касание должно было быть заметно всем, правда? И мисс Торн – которая, по твоим словам, была у стола – не могла не видеть?
Шевеление на галёрке; тонкий женский шепот: "Видела…”.
Притчард спокойно, но твёрдо:
– Настаиваю: вопрос оценочный. Свидетельница фиксирует свои ощущения и факты, а не реакцию всех присутствующих.
– Снято, – кивнул Карсуэлл. – По фактам, мистер Клэй. Не ускоряйте процесс. Агата Торн также присутствует среди свидетелей.
Клэй вынул чистый носовой платок, коснулся им пальцев – будто возвращая их к "чистоте" – и снова мягко:
– Свидетельница, ты говорила также: " исчезают имена; на журнале остаётся пусто". Я прошу пояснить: ты собственными глазами видела "пусто" в журнале?
Энн сжала клочок бумаги ладонью:
– Да. Там, где было имя, – осталась пустая графа. Или ставился крест, как на могиле.
На галёрке – острое "ах" и так же быстрая тишина.
Клэй сделал вид, что не заметил шума, и продолжил:
– Кто дал тебе на это время и доступ? Журнал – у стола, верно?
– Я помню, – просто сказала Энн.
– Это не ответ, – Клэй чуть нажал, но голос всё ещё заботливо-педагогический. – Кто и когда дал тебе журнал?
Притчард поднял ладонь:
– Ваша честь, свидетельница – малолетняя; давление неуместно. Если защита хочет допросить писаря пансиона по режиму ведения журналов, пусть заявляет ходатайство. В деле не указано.
Карсуэлл кивнул:
– Так и будет. Мистер Клэй?
– Заявлю, что хочу позже допросить Святого отца Бреннан, он же писарь пансиона. На предмет ведения журнал.
– Принято.
И тут же – новый заход: – Последний блок, Ваша честь.
Он повернулся к девочке, улыбнулся по-учительски:
– Энн, ты сказала: "я считала". По гвоздикам у стены, верно? Скажи суду: считать – это твоя привычка? Ты часто считаешь? Ступени, окна, доски пола? – Он говорил мягко, но в голосе сквозил холодный рациональный интерес, как у врача к симптомам.
– Часто, – сказала она. – Когда нельзя говорить, и двигаться. Тогда считаешь.
– Понимаю, – он кивнул, как будто разделял, – привычка снимает страх, верно? – и, уже к суду: – Просим учесть особенность восприятия: склонность к навязчивому счёту, повышенная внушаемость. Мы обязательно вызовем директрису пансиона для пояснений по распорядку "пятиминутки тишины" и расположению кафедры.
Слова прозвучали у него почти как стерильные инструменты. На галёрке женщина в сером сжала сумочку так, что выступили косточки пальцев.
Притчард не поднял голоса – только поменял интонацию на домашнюю:
– Энн, – мягко, – ты молодец. Ещё одно. Когда ты говоришь "стыдно и страшно, и хочется встать, но нельзя" – это тебе так сказали или ты так почувствовала?
– Я. – Я так почувствовала.
Клэй сделал шаг назад, складывая заметки ровно, как бинты. На секунду его ноздри едва заметно сморщились – будто от чужого запаха – и тут же лицо стало прежним: безупречным, заботливым, корректным.
В зале опять стало очень тихо. Писарь водил пером, не поднимая глаз. Притчард сменил позицию:
– Когда ты впервые рассказала кому-то о случившемся?
– Через два дня. Сначала – однокласснице. Потом – смотрительнице. Позднее меня допросили.
Клэй едва заметно усмехнулся, но промолчал. Торн опустил голову; ключи у него в кармане еле слышно перестали звенеть.
Карсуэлл сделал отметку в протоколе:
– Свидетель предупреждена, показания зафиксированы. – И поднял взгляд на присяжных: – Слова “против её воли” прошу запомнить как формулу.
Он это произнёс слишком спокойно. Но спина у него под мантией взмокла, а в воздухе стоял неясный, жёсткий холод – как от камня.
В зале снова позвали тишину. Адвокат Клэй медленно поднялся, изящно поправил манжету и склонил голову в сторону судьи.
– Милорд, прошу разрешения задать уточняющий вопрос, – его голос звучал, как скрипучее перо по стеклу: сухо и с оттенком насмешки.
Карсуэлл кивнул:
– Допускается.
Клэй обернулся к девочке.
– Мисс Николь, позволь спросить… ты сказала, что это было "непристойно". Скажи нам, дитя, что это значит? Для тебя.
Энн чуть заметно моргнула. Губы дрогнули. Она сидела прямо, но пальцы, всё ещё вцепленные в подол платья, дернулись, будто кто-то дёрнул за ниточку.
– Это… – начала она, и голос её был как всегда ровен, но в нём проскользнула странная задержка. – Это то, чего учитель не должен делать. Это… неправильно.
– Неправильно, – мягко повторил Клэй. – А кто тебе сказал, что это именно неправильно?
На секунду её взгляд ушёл в сторону – туда, где в зале сидели женщины пансиона, сжатые в строгий ряд. Лицо её снова стало маской.
– Я знаю сама, – отрезала она.
Карсуэлл заметил: у девочки не дрогнул голос. Но пауза – эта пауза была долгой и слишком взрослой. Не детской.
Клэй шагнул ближе, его тень упала на скамью:
– Энн, тебе тринадцать. Ты знаешь, что значит непристойно и не правильно ? Или ты повторяешь слова, которые слышала?
Зал затаил дыхание. Взрослые женщины на галёрке переглянулись.
Девочка медленно подняла глаза. В них блеснуло что-то странное – не страх, не смущение, а нечто вроде вызова.
– Мне сказали, – произнесла она неожиданно тихо. – Что если мужчина трогает так – это неприлично.
– Кто сказал? – Клэй резко подался вперёд.
Она отвернулась.
– Я не помню.
Гул прошёл по рядам, как слабое землетрясение. Кое-кто шепнул соседу. Судебный пристав кашлянул, требуя тишины.
Карсуэлл наклонился вперёд, взглядом сверля девочку. И в этот миг его охватило странное чувство: не она отвечает, не она говорит. Словно за её плечом стоит кто-то ещё – взрослый, умный, расчётливый – и кладёт ей в рот нужные слова.
Чьи слова? – мелькнуло у него, и эта мысль прилипла, как липкая паутина в подвале.
Адвокат Клэй, уловив дрожь момента, сделал шаг назад, улыбаясь краешком губ.
– Благодарю, милорд. У защиты не осталось вопросов.
Энн сидела неподвижно. Но её пальцы снова вцепились в ткань так сильно, что ногти оставили белые борозды.
Карсуэлл перевёл взгляд на песочные часы. Песок шёл ровно, лёгкий шорох успокаивал.
– Свидетельница может быть свободна, оставайся в зале, позже суда охрана тебя сопроводит в отель "Корону". – сказал он. – Благодарю, ты молодец.
В зале на секунду гаснет один газовый рожок. В полумраке кажется, что на лице Торна улыбка – не его улыбка, а чья-то чужая. Свет возвращается, но ощущение остаётся.
Глава 4.
Воздух в зале суда сгустился от запаха пота и воска, когда пристав Уикс выкрикнул её имя. Дверь открылась, и в проёме показалась миссис Поттл. Она вошла не как свидетель, а как провинившаяся служанка, вызванная на ковёр к строгой госпоже. Её крепкое, некогда полное силы тело съёжилось, сгорбилось под грубым передником. Тяжёлая связка ключей на поясе – символ её двадцатилетней власти над спальнями и чуланами – теперь казалась нелепым и жалким грузом, бессильно поблёскивавшим при каждом её неуверенном шаге. Она шла, опустив голову, и весь её вид говорил о единственном желании – провалиться сквозь эти натёртые до блеска половицы.
Карсуэлл, сняв очки, наблюдал за ней. Он видел не свидетеля, а явление – измождённую жизнью женщину, чьё лицо было испещрено морщинами, как старый пергамент, на котором можно было прочесть всю историю её нелёгкой службы: вечную усталость, страх перед начальством, покорную преданность порядку, который она сама же и поддерживала. Её пальцы, красные и огрубевшие от работы, беспрестанно теребили краешек сбившегося чепца – жалкий, трогательный жест, выдававший смятение.
– Миссис Поттл, – начал прокурор Притчард, и в его голосе прозвучала не столько мягкость, сколько искренняя, почти болезненная забота. – Не соблаговолите ли вы сообщить суду… жаловалась ли вам мисс Николь на поведение мистера Торна? Подумайте хорошо: девочка доверилась именно вам.
Пауза повисла тяжёлым, влажным полотном. Было слышно, как на галерее перешёптываются дамы и как за окном каркает ворона. Миссис Поттл молчала, уставившись на свои стоптанные башмаки. Казалось, она собирается с духом, чтобы произнести не слово, а поднять непосильную ношу.
– Ну… было дело-с… – наконец выдохнула она, и голос её был тих, слаб и прерывист, точно она говорила сквозь сон. – Подходила как-то вечерком… перед самым сном. Глаза у ней… большие такие, словно не свои. И говорит… шёпотом, знаете ли…
Она замолкла, сглотнув комок в горле. Её пальцы снова потянулись к чепцу.
– И что же она сказала? – терпеливо, но с нарастающей горячностью повторил Притчард. – Какими именно словами? Это очень важно, миссис Поттл. Очень важно для ребёнка.
Женщина заморгала, растерянно оглядывая зал, будто ища поддержки у безмолвных портретов на стенах.
– Сказала… что он… что мистер… – она запиналась, подбирая слова, которые казались ей слишком уж неподъёмными, слишком книжными для этой ситуации. – Что он вёл себя… "неприлично". Да-с. Так и молвила: "неприлично".
В зале пронёсся одобрительный гул. Притчард с торжеством кивнул, будто только что получил подтверждение собственной веры. Но его триумф длился недолго.
Клэй поднялся неторопливо, мягко, будто боялся потревожить воздух. Трость его легко оперлась о пол. На лице – почти приветливая улыбка, в голосе – тёплая вежливость.
– Милорд, с вашего позволения… одно уточнение для присяжных. Это слово – "неприлично"… оно ведь не свойственно речи тринадцатилетнего ребёнка. Согласитесь, оно скорее из взрослого лексикона. Быть может, миссис Поттл, именно вы его произнесли? Чтобы объяснить то, что девочка чувствовала, но не могла назвать.
Миссис Поттл замерла. Её глаза наполнились тем животным страхом, с которым бедные всю жизнь живут под взглядом господ. Она сжала свои натруженные руки в кулаки.
– Я… не припомню-с, – прошептала она. – Может… может, и я это слово вставила… Чтобы яснее было. Она же, девочка, всё больше молчала… А глазами… глазами всё говорила.
Клэй медленно кивнул, обратившись теперь уже к присяжным, и его голос остался всё таким же ровным, почти дружеским.
– Вот, господа, глаза – вот искренность. А слова? Слова – это то, что можно внушить, вложить, обронить. Три вещи: услышать, повторить, поверить. Особенно когда речь идёт о ребёнке.
Притчард вспыхнул, его голос дрогнул:
– Милорд, прошу заметить: ребёнок понимает разницу между приличным и неприличным! Это вопрос морали, а не риторики!
Карсуэлл не ответил сразу. Он снял очки, протёр их, задержал взгляд на миссис Поттл: тяжёлые плечи, смятый чепец, красные руки. Он чувствовал: она не лгала. Она и не умела лгать. Она лишь пыталась, как могла, придать форму смутному детскому испугу – и сама же стала пешкой в чужой игре.
И эта маленькая, серая правда – её правда – казалась Карсуэллу страшнее и безысходнее любой самой искусной лжи.
Он вспомнил: прежде чем их показания прозвучали в открытом заседании, Энн Николь и миссис Поттл были заслушаны присяжными обвинителями в закрытом режиме. Именно эти свидетельства позволили составить обвинительный акт против Торна. И именно под горячим напором Притчарда они решили открыть официальный суд.
Сейчас же их слова – в зале, на виду у всех. Каждое движение, каждый вздох девочки, каждая неуверенная пауза экономки превращались в факты, которые могли изменить судьбу мужчины.
Карсуэлл подня глаза на дождливое окно. Там больше не было вороны. Только мелкий, липкий дождь, похожий на пот на лбу уставшего человека.
– Вы можете быть свободны, оставайтесь в зале суда.
Глава 5.
Карсуэлл опустил руку на молоток. Зал был тих, воздух вязкий и тяжёлый, словно сам камень прислушивался к шагам.
На столе перед ним лежала небольшая свернутая записка. Он не вздрогнул. Не в первый раз кто-то оставлял подобное напоминание – осторожное, холодное, невысказанное. Он знал: это не просьба, не угроза, а ожидаемая услуга, заранее оплаченная и принятая. Взятка, аккуратно поданная через систему, которую он давно уже знал.
Он расправил листок. Несколько угловатых слов:
"В верхах надеются на скорое и благоразумное разрешение этого дела".
Карсуэлл сдержанно кивнул себе. Никакого волнения – только привычка, многолетний опыт, расчет. Он уже делал такие "добрые намёки" частью работы. Подсознание отмечало: ход событий оценивается не только глазами закона, но и теми, кто стоит выше.
Молоток оставался в его руке, как всегда – инструмент порядка и символ власти.
– По технической причине, а также ввиду неявки свидетеля духовного звания, суд объявляет перерыв. Пристав, проветрить зал. Секретарь – разыскать отца Бреннана: курьер отправлен?
– Отправлен, милорд. Сообщили, что задержался у тюремной капеллы, – ответил секретарь.
Карсуэлл не успел сесть, как за спиной у присяжных глухо ударило железом о железо. Затем – шипение, резкое, как змеиное.
– Чёрт побери, Том, придержи шибер, а то вся конструкция к дьяволу! – донёсся грубый полушёпот.
Головы повернулись разом. Из-за дубовой панели, в нише светильного рожка, торчали две пары ног в замасленных сапогах. По натёртым половицам потянулись грязноватые разводы от мокрой уличной глины.
– Милорд, – склонился к Карсуэллу секретарь, – газовщики. Вчера к вечеру рожок потрескивал. Фитиль подсасывает, напор скачет. Вызвали к вечеру сегодня а они почему то сейчас пришли. Оставляем?
Карсуэлл кивнул.
Первым вывалился из ниши рослый детина с обветренным лицом – Сэм Гоббс. За ним, держась за стеклянный колпак, покрытый изнутри копотью, – его тощий напарник, Том Пайк.
– Да будь оно неладно, – проворчал Сэм, протягивая разводной ключ. – Штуцер отошёл. Прокладка села, шибер люфтит. Век отслужил, а с вас света требуют как в ратуше.
Том, морщась, приподнял закопчённый колпак на ладони.
– Видите, господа? Нагар не снаружи – изнутри. Газ бедный, смесь гуляет: то шипит, то глохнет. Пламя пляшет, как баба на ярмарке. Понюхайте: сладковатый душок. Не догорает – травит. Его не видно, а он тут есть.
Дамы на галёрке ахнули, принялись обмахиваться. Пристав Уикс шагнул к нише:
– Эй вы, поосторожнее! Здесь заседание суда, держите язык в узде!
– Держим, держим, – буркнул Сэм, даже не оборачиваясь. – Только если не перекрыть – рванёт, и будет не заседание, а поминки.
Он крутанул кран, потянул за рычаг. Шипение усилилось, прошлось по залу неприятной волной и стихло. Том наклонился к форсунке, тонко прислушался, потом кивнул:
– Тише стало. Рожок снять да промыть, фитиль новый поставить – и зажигать на пробу.
– Действуйте, – коротко бросил Карсуэлл. – Пристав, окна – настежь, на минуту. Господа, сохраняем порядок.
Окна скрипнули; в зал ворвался мокрый февральский воздух. Газовщики работали быстро: стекло – в сторону, фитиль – в бочонок с маслом, шибер – на пол-деления. Сэм чиркнул спичкой прямо о подошву, занёс пламя к рожку. На миг загорелось синеватым язычком, будто чужим огнём, потом выровнялось тёплым ровным светом.
– Готово, – сказал Сэм, глухо удовлетворённо. – Напор стабилен, шибер подтянули, тянуть не должно. Но окна пока закройте, чтобы пламя не сдуло сквозняком – дух газовый, он липкий. И щелкать краном без надобности не советую: чувствительный.
Том, вытирая стекло паклей, пробормотал:
– Если что – зовите. Мы рядом, у лестницы. Но, по чести сказать, нынче всё исправно. Гореть будет ровно.
Они собрали железо, гулко погремев ключами, и скрылись за панелью. Запах металла и угольного газа ещё держался, но свет теперь стоял ненарушно, без дрожи.
Карсуэлл перевёл взгляд на зал. Присяжные шептались, публика приходила в себя, секретарь записывал отметку о перерыве. Он поймал себя на странной мысли: "не догорает – травит" – прозвучало так, будто речь шла не только о лампе. Слова липли к делу.
– Секретарь, – тихо, без раздражения, – уточните. Как прибудет отец Бреннан – сразу в зал. И распорядитесь, чтобы окна закрыли.
– Слушаюсь, милорд.
Карсуэлл посмотрел на рожки: пламя стояло ровно, как строй солдат на утреннем смотру. Всё исправлено, всё работает. И всё же – воздух сохранял лёгкий сладковатый привкус, будто кто-то оставил в комнате след своего дыхания.
Он подумал: "Жизнь и суд похожи. Снаружи – свет ровный, порядок соблюдён. А внутри всегда что-то коптит, травит, не догорает. Ты этого не видишь, но оно здесь. И моя работа – сделать вид, что всё горит чисто".
Он достал из внутреннего кармана тонкую папиросу. Щёлкнул спичкой, затянулся коротко, не для удовольствия, а чтобы поставить границу – между собой и этой липкой, тянущей тьмой. Дым пошёл горький, вязкий, и он выдохнул его сквозь зубы, глядя на ровное пламя рожков, как будто проверял: дым ли это или всё ещё тот сладковатый дух газа.
Записал на полях: "Перерыв – освещение, ожидание свидетеля. Свет стабилен". Почерк его был резкий, ломкий, но каждое слово стояло, как подпорка в стене. Это был его способ удержать порядок: запись, метка, штрих. Соль на пороге перед важным делом.
Он хотел докурить, но услышал шаги в коридоре, сдержанный голос секретаря, и затушил папиросу в пустой чернильнице. Вторая за утро – недокуренная. Первая лежала в блюдце, с неровным пеплом, будто усохшая кость.
"Так всегда, – подумал он. – Куришь не ради конца, а ради середины. Чтобы в паузе, между хаосом и его отражением, успеть вдохнуть свой порядок".
Газовщики ушли, но на месте, где стоял их фонарь, остаётся лёгкий круг копоти на стене. Похожий на нарисованную корону. Как визитка.
Глава 6
Зал наполнился снова гулом – публика вернулась с шёпотом и шелестом, как деревья после ветра. Воздух пах свечным воском, мокрыми плащами и чем-то ещё – тем сладковатым следом газа, который никак не выветривался.
Карсуэлл сел, тяжело опустив руку на молоток.
– Заседание продолжается, – произнёс он сухо, как будто это был не голос, а камень, катящийся по плитам.
Притчард поднялся, нервный, с синей папкой в руках. Голос его дрогнул, но в дрожи была искренность:
– Милорд, прошу не забывать: мы имеем чистое, ясное свидетельство ребёнка. Имеем слово женщины, которая подтвердила её жалобу. Разве этого недостаточно, чтобы видеть суть? Речь идёт не о букве, а о справедливости. Девочка ведь не выдумала свой страх!
Он сжал папку так, что та хрустнула.
– Когда взрослый пользуется властью против ребёнка, это уже преступление, даже если у нас нет целого шкафа улик. Разве для правды всегда нужны печати и подписи?
Гул одобрения прокатился по галёрке.
Клэй встал, медленно, будто ленился. Трость с серебряным набалдашником скользнула по полу – сухо, негромко; звук обиднее любого сарказма.
– Милорд, – голос мягкий, почти медовый, – мы ведь говорим о суде, а не о театре. У справедливости могут быть глаза и сердце, у закона – только весы.
Он повернулся к присяжным, улыбнулся так, что спорить расхотелось.
– Что у нас есть? Слова ребёнка, которая не вполне владеет понятийным аппаратом "прилично/неприлично". Слова усталой экономки, которая, возможно, сама подложила девочке слова, чтобы назвать чувство. Это не факты, господа. Это эхо.
С верхних рядов слово "факты" вернулось чужим, детским шёпотом:
– …страх…
На галёрке женщины разом втянули воздух. Пристав Уикс поднял ладонь: тише.
Клэй не улыбнулся – только слегка наклонил голову, будто подтверждая чужую реплику:
– Вот. Страх. Он честен, но он не доказательство. Ребёнок может обижаться. Ребёнок может пакостить. Ребёнок может перепутать. Мы все были детьми – и знаем.
Он повернул лист, проверяя пометки.
– 14-го числа, – голос остался тёплым, – в "Книге наказаний" пансиона (№ III-27) зафиксировано: "лишение субботней прогулки" у мисс Николь – за чтение непристойной книги после отбоя. 18-го – "лишение сладкого" за разговоры в "пятиминутку тишины". Это факты распорядка, не эмоции. Могла ли девочка затаить обиду на наставника, применившего наказание? Могла. Могла ли перепутать строгость с неприличием? Могла.
Шевеление, сухие кашли мужчин, со стороны женщин – глухое "ну…".
Поттл вздрогнула и инстинктивно потерла ладони о передник. Несколько женщин переглянулись: одна кивнула, другая покачала головой.
– О "часах", – Клэй мягко поставил акцент. – "Долго – пока шёл песок в часах у доски". Мы замерили ровно такие же – пять минут семнадцать секунд. Это я к чему? А к тому, что под стрессом минута кажется вечностью. Это известно любому врачу и учителю.
Он снова улыбнулся – вежливо, как у домашнего учителя.
– И наконец, – голос ещё тише, почти доверительно, – у подсудимого есть характеристика: "строг, но справедлив; взыскателен, но добр к слабым". За двацать лет – ни одной жалобы, ни одного взыскания по части чести. Это не эмоции – это записи. Мы попросим вызвать свидетелей по характеру.
С женской галёрки – тонкое "а если…", но тут же – "ш-ш-ш".
Клэй поднял ладонь, как бы ограждая присяжных от шёпота:
– Я не прошу вас не верить ребёнку. Я прошу вас не путать чувство со событием, слово – с фактом. Взвесьте. Где дата, где время, где свидетель, где предмет? Где взрослый, который видел, а не додумал? Мы обязаны не обидеть ни девочку, ни человека, на которого она обижена. И особенно – не осудить доброго и справедливого учителя одним слогом, внушённым вечером у прачечной.
Он повернулся к скамье подсудимого, коснулся перчаткой лацкана Торна – жест почти поддерживающий, слишком аккуратный – и снова к судье:
– У защиты – ходатайство о приобщении "Книги наказаний", списка поощрений подсудимого и опросе бывших выпускниц. Факты, милорд. Только факты.
В зале – разнотон. Женщины с передних рядов сжали сумочки, у одной выступили косточки пальцев; с мужских мест послышалось довольное "хм". Притчард, не глядя на Клэя, придвинул к себе стакан, будто опасаясь, что и воду тот назовёт "эмоцией", и сказал спокойно, по-домашнему:
– Ваша честь, ребёнок дал дату. Ребёнок дал место. Ребёнок показал границу. Это и есть факты пережитого. Обида – слово взрослых. У девочки – страх и стыд. А это уже язык тела, а не риторики.
Карсуэлл снял очки, задержал взгляд на Поттл, потом на присяжных:
– Суд приобщает "Книгу наказаний" и характеристики. И напоминает: показания ребёнка – допустимая улика. Её надлежит взвесить, а не смести.
Он коснулся маленьких часов, перевернул их. В зале стало слышно, как течёт песок.
– Переходим к журналу пансиона и к писарю, – сказал Карсуэлл. – Там и посмотрим, где факты, а где – страх.
С галёрки снова донёсся голос.
Тишина.
Кто-то кашлянул. Кто-то обернулся к соседу. Но никто ничего не сказал.
Карсуэлл ударил молотком.
– Порядок в зале!
Но молоток глухо отозвался – словно дерево проглотило звук.
На галёрке послышался нервный смешок – молодой клерк прикрыл рот рукой, но было поздно, все уже услышали. Дамы зашуршали веерами, перекрестились. Старик в тёмном сюртуке пробормотал "Господи, сохрани…" и вжал голову в плечи.
Притчард побледнел, как мел, и стал лихорадочно листать свои записи, будто в них мог найти объяснение. Он услышал что другие не могли?
– Милорд… – начал он, но голос его дрогнул. – Я… я полагаю, это… сквозняк… или… случайность…
Клэй, напротив, усмехнулся тонкой линией губ.
– Сквозняк умеет разговаривать? Любопытно.
Карсуэлл ударил молотком. Громко. Так громко, что у него самого дрогнула кисть.
– Порядок в зале! – крикнул он, и голос его сорвался. – Суд ждёт отца Бреннана. Заседание будет продолжено лишь после его прибытия
Прогремел не тук. Прогремел УДАР. Глухой, раскатистый – будто выстрел, будто ломается кость. Древесина пульта, не знавшая такого насилия, жалобно хрустнула. По изящной рукояти молотка побежала тонкая, почти невидимая трещина.
Зал ахнул не столько от звука, сколько от кощунства: нарушен ритуал. Дамы схватились за грудь; присяжные дёрнулись, как по команде; даже невозмутимый Клэй чуть откинулся, будто от холодного порыва.
Молоток судьи Карсуэлла был не инструментом, а знак. Резной морёный дуб, отполированный руками поколений до бархатной гладкости. За десять лет на судейском кресле он поднимал его считанные разы – всегда с церемонной сдержанностью: лёгкий, отточенный тук, чтобы осадить слишком ретивого адвоката; ещё один – объявить перерыв. Звук у молотка был камерный, сухой, предназначенный не для подавления хаоса, а для его мирного укрощения. Это была не кувалда – печать, ставящая точку в споре умов.
Он лежал справа, на мягкой подушечке из тёмной кожи, – как музейный артефакт. Предмет для созерцания, а не для силы.
.– По-рядок… – повторил он, фальцет прозвучал жалко и неверно после грома собственного удара. – Суд ждёт отца Бреннана… Заседание – после его прибытия.
Он отнял руку. Молоток остался на пульте перекошенно, уже не символ – просто надщербленный кусок дерева. И все понимали: треснул не только морёный дуб. Треснул сам ритуал. Порядок не был восстановлен – он был надломлен этим единым, отчаянным ударом.
Приставы поднялись. Шум стих. Но все знали: порядок здесь – не более чем слово. И это слово уже не слушалось.
Карсуэлл откинулся в кресле, пальцы его сжали ручку молотка, как будто тот был последним якорем. В голове крутилась мысль: "Эта девочка говорит не правду? "
Высокая, худая фигура в чёрном возникла в дверях. Сюртук истёрт до пергамента на локтях; чётки – тёмные, натёртые, как камни у входа в часовню. Отец Бреннан перекрестился большим пальцем у груди. Четко и точно.
– Miserere… – выдох, не громче шороха.
– Предупреждёны об ответственности за ложь? – хрипло спросил Карсуэлл.
– Даю слово говорить правду, насколько позволено моим обетам. Что под печатью – не ваше. Всё остальное – ваше, – ответил священник. Ладонью, как будто сглаживая воздух перед собой, он сделал полшага вперёд.
Начал Притчард сначала спросил про Торна. – И, пожалуйста, святой отец Бреннан, без латыни и молитв. Первое мало кто знает, второе не поможет делу.
Святой отец Бреннан кивнул, отвечал ровно.
– В камере – молчал, молиться отказывался, один раз прошептал "она позволила", просил не гасить ночной свет.
Секретарь записывал.
– Он каялся? – спросил Притчард,
– Не видел раскаяния, – тихо сказал Бреннан. – Видел страх. Не перед приговором – перед ночью. Когда я говорил "не бойся", он отворачивался. Timor noctis – страх ночи.
Клэй поднялся медленно, с мягкой улыбкой:
– Милорд, мы ведь различаем впечатление и факт? Отец говорит о душах, а суд – о делах.
– Дела растут из душ, – не споря, ответил Бреннан. – Как плесень – из сырости.
Он перевёл взгляд к присяжным и, не повышая голоса, сказал уже как проповедь:
– Что такое зло? Для нас – согласие на пользование другим. Молчание, которое не защищает, а прикрывает. Порядок, который служит страху, а не миру. Грех любит порядок – там теплее.
Он перебрал чётки большим пальцем. – Древние ставили соль на пороги. Не для колдовства – для границы. Соль останавливает гниение; кругом отмечают: "дальше не входи". Когда дети боятся говорить, круг из соли – не магия, а знак для людей и для тьмы: "этот малый – под защитой". Fiat pax.
Газовые рожки на стенах на миг дрогнули синеватым пламенем, тени выросли и расползлись по панелям; ни одна не совпала с фигурой внизу. В галёрке перекрестились. Клэй вежливо вздохнул, ладонью как веером отстраняя "излишнюю драматичность":
– Всё это уместно в приходе, отец. Здесь – суд.
– Суд – не театр, – резко сказал Притчард. – И не лавка скептиков. Когда взрослый пользуется властью против ребёнка, мораль – не лишняя.
– Порядок, – сухо произнёс Карсуэлл. – Коротко: по девочке.
– Энн говорит формулами: "неправильно", "против воли", "молчала". Просишь описать страх – говорит о холоде, но без слёз. В её возрасте твёрдость берут у взрослых.
– И ещё, – добавил святой отец Бреннан, – Без границ всё, что внутри, выходит наружу.
– Вопросов больше нет, – сказал Карсуэлл, посмотрев на адвокатов. Голос его прозвучал сухо. – Тогда свидетель свободен. Секретарь, отметьте в протоколе.
Он сделал шаг от кафедры – и поскользнулся. У края помоста темнела тонкая лужица от проветривания, смешанная с копотью. Чётки звякнули о дерево; лист протокола соскользнул, кромка бумаги легла в мокрое. На поле слова "намерение" и "против воли" разъехались в стороны. Священник удержался, выпрямился сам. Люди отвели глаза. Кому-то стало неловко. Кому-то – страшно. Но никто не торопился помочь.
– Простите, – сказал Бреннан совсем тихо. – Старость.
Он посмотрел в зал долго и прямо – тем взглядом, от которого молчат.
– Сначала вслух, потом молчанием, – произнёс он напоследок, как ставят свечу. И отступил.
Глава 7.
Защита вызывает миссис Агату Торн в качестве свидетеля.
Судья Барон Карсуэлл кивает. Пристав Уикс выкрикивает:
– Миссис Агата Торн, хозяйка пансиона "Норт-Ист"!
Зал суда погрузился в тусклый, тяжёлый свет, который скользил по строгим деревя́нным панелям и отражался на лаковом столе судьи. Пристав Уикс выкрикнул её имя, и двери медленно распахнулись. Вошла Агата Торн.
Она шла неспешно, почти бесшумно. Тёмное платье с высоким воротником, накидка из чёрного шелка, спина прямо, взгляд прямой и бесстрастный. С каждым шагом казалось, что пространство вокруг сжимается, подчиняясь её присутствию. Муж в клетке, прокурор, присяжные – всё это было фоном, лишённым веса, пока она двигалась к скамье свидетеля.
– Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и ничего кроме правды, да поможет вам Бог? – прозвучал вопрос, и зал словно замер.
– Клянусь, – голос её был ровный, низкий, стальной, без малейшей дрожи.
Она села. Спина прямо, руки сложены на коленях, дыхание ровное. Каждый жест был выверен и точен. В нём не было гордости, только холодная, непоколебимая власть, которая сковывала внимание каждого. Присяжные невольно выпрямлялись на своих местах.
Мистер Клэй, адвокат защиты, подошёл почти почтительно. Его голос был мягким, почти отеческим:
– Миссис Торн, благодарю вас, что нашли время прибыть сюда, несмотря на вашу чрезвычайную занятость. Прежде всего, прошу вас описать пансион "Норт-Ист" для присяжных и зрителей, так сказать, из первых уст. Какова его главная цель?
Агата посмотрела на него, как педагог на ученика, который пытается прочесть между строк.
– "Норт-Ист" – это не просто школа, мистер Клэй. Это дом. Мы готовим девочек к миру, который не терпит слабости. Мы даем им образование, но прежде всего – характер. Порядок, дисциплина, смирение. Эти стены защитят их лучше, чем родительская любовь.
Клэй кивнул, будто подтверждая себе, что именно это он хотел услышать.
– И мистер Торн, ваш супруг, разделяет эту философию?
– Он – её самый преданный служитель. Он требует безупречности, потому что мир требует безупречности. Он исправляет не из жестокости, а из заботы. Позволить девочке ошибаться – значит предать её будущее. А для него это страшнее всего.
– Свидетельница Энн Николь упоминала так называемые "пятиминутки тишины". Не соблаговолите ли объяснить суду, что это такое?
Агата слегка повернулась к присяжным. Голос её стал ровным и лекционным, почти мягко назидательным:
– Минуты абсолютной тишины перед уроком. Чтобы утихли детские эмоции, чтобы ум настроился на восприятие знания, а не на шалости. Каждая должна понять: она – часть целого, и её личный шум разрушает хрупкую гармонию. Это не наказание. Это медитация. Очищение.
Присяжные слушали, затаив дыхание. Некоторые слегка напряглись в креслах, осознавая, что перед ними не просто свидетель, а человек, который живёт своими строгими законами.
– И во время этих минут… – осторожно спросил Клэй, – что делает мистер Торн?
– Он исполняет свой долг. Он – дирижер тишины. Проходит между рядами, поправляет осанку, проверяет, готовы ли умы к труду. Иногда – поправляет тетрадь или руку, поставленную неверно. Это не "прикосновение". Это корректировка. Инструмент мастера.
В зале послышался тихий, сдержанный вздох. Некоторые присяжные обменялись взглядами, понимая, что дисциплина здесь – это не метафора.
– Миссис Торн, как вы можете охарактеризовать репутацию мисс Энн Николь в стенах вашего заведения?
– Девочка с живым воображением, склонная к мечтательности и обидам. Она неоднократно нарушала распорядок: чтение после отбоя, чтение нехороших книг, разговоры в тишине. Наказания воспринимала не как урок, а как личную обиду. Её слова следует фильтровать через эту призму.
Клэй слегка улыбнулся про себя, удовлетворенно кивнув, возвращается на место. Его работа сделана.
Прокурор Притчард подошёл медленно, ощущая исходящую от Агаты угрозу. Его пальцы сжимали бумаги, в глазах мелькала напряжённая попытка удержать контроль.
– Миссис Торн, вы сказали, что "пятиминутка тишины" – это не наказание. Какие наказания применяются в пансионе "Норт-Ист" к девочкам, например, за чтение после отбоя?
– Все наказания перечислены в правилах, мистер Притчард. Лишение прогулки. Лишение сладкого. Дополнительные обязанности. Уборка, помещений. Помощь на кухне. Мы не варвары.
– А "крест"? Что означает отметка в журнале пропусков?
Агата замерла на мгновение. Она оценила его, как учитель оценивает ученика, который пытается её перехитрить.
– Внутренняя пометка. Означает, что девочка опоздала и ждала разрешения войти в здание. Чтобы не нарушать урок.
– В любую погоду? Ждала снаружи? Не в помещений? – настаивал Притчард.
– Дисциплина не зависит от погоды.
– За многие годы множество воспитанниц покинули пансион до окончания обучения. По записям – "по состоянию здоровья" или "по семейным обстоятельствам". Вы не находите это тревожным?
Агата наклонила голову. Лёд и ирония сверкали в глазах.
– Мистер Притчард, – начала она, и её голос был ровным, как поверхность льда, – вы ищете злой умысел там, где есть лишь непреложный порядок вещей. Вы ошибочно принимаете естественный ход событий за чью-то злую волю.
Одни семьи разоряются и забирают дочерей по бедности. Другие находят для них иное применение – замужество, работу. Третьи… – здесь её взгляд стал особенно твёрдым, – признают, что их ребёнок не соответствует высоким стандартам "Норт-Иста". Мы – не благотворительное общество для неудачников. Мы – кузница характера и знаний. Мы поддерживаем уровень, и те, кто ему не соответствует, должны освободить место для тех, кто соответствует. Это не жестокость. Это – закон природы, который я лишь прилежно соблюдаю. Он – единственная гарантия качества для тех, кто остаётся и кто платит за этот качество немалые деньги.
Она слегка наклонилась вперёд, и её слова приобрели вес холодного, отполированного камня.
– Вы упрекаете меня в жестокости садовника? Но природа не терпит сантиментов. Садовник, выпалывающий сорняк, – это не палач. Это – слуга жизни. Он расчищает пространство для сильных и здоровых, чтобы те могли расти, не отравляемые чуждыми соками. Я – такой слуга. Я создаю условия, в которых сила укрепляется, а слабость неизбежно проявляет себя и устраняется. Те, кто ушли, ушли не по моей указке. Они ушли, потому что не имели внутреннего стержня, чтобы выдержать давление, необходимое для кристаллизации алмаза. Я не приказывала им быть слабыми. Я лишь констатировала этот печальный факт и действовала в интересах целого. Ибо целое всегда важнее части.
После её речи несколько присяжных-мужчин, солидных торговцев, переглянулись и кивнули. Не потому что они одобряли, а потому что её аргументы о "качестве", "результате" и "естественном отборе" били в самую сердцевину их деловой, прагматичной натуры. Они сами выживали в мире жёсткой конкуренции. В её словах была чудовищная, но узнаваемая логика. Одна из дам на галёрке, вся в кружевах, прошептала соседке: "Ну, знаете, в этом есть свой резон… Детей же надо готовить к суровой жизни…"
– А в городе есть конкурирующие пансионы? – спросил Притчард, стараясь звучать спокойно.
– Есть.
– И если подтвердится непристойное поведение преподавателя в "Норт-Исте", это станет ударом по репутации?
Агата не моргнула:
– Репутация – гарантия результата. Скандал разрушил бы будущее других девочек. Вы предлагаете пожертвовать ими ради одной? Это ваша справедливость?
– Где вы были 14 октября, во время "пятиминутки тишины"?
– В кабинете, составляла отчёт для попечителей и писала письма родителям. Я нанимаю профессионалов, чтобы они делали свою работу. Моя вера в методы мужа и остальных основана на результатах: девочки вышли из этих стен собранными, сильными и благодарными. Ваши вопросы – пыль, затмевающая эти результаты.
– Вы считаете долг жены – защищать мужа, или хозяйки – защищать пансион?
Агата позволила себе лёгкий, едва слышный вздох.
– Вы пытаетесь разделить неразделимое. Моя верность супругу и заведению – одно и то же. Если рухнет он – рухнет дисциплина, если рухнет дисциплина – пансион. Я спасаю корабль.
– А что с теми, кого порядок сломал?
Долгая пауза. Её взгляд прошёл по присяжным.
– Их судьба – ответственность их семей. Моя задача – дать шанс. Я не делаю их слабыми. Я лишь показываю правду. Я – наставник, и урок завершён, когда ясно, что он усвоен, или когда невозможно его усвоить.
– Но позвольте спросить.– Почему вы не посетили мужа в камере? Ни письма?
Зал затаил дыхание.
– Моя вера – в порядок. Он требует, чтобы я оставалась во главе "Норт-Ист". Личные чувства – роскошь. Я делаю то, что должна. Как всегда.
Перед тем как замолчать, Агата продолжала, обращаясь уже не к Притчарду, а ко всему залу, как к сборищу неразумных детей:
– Вы судите одного человека. Но вы не понимаете, что пытаетесь осуждать сам принцип мироздания. Иерархию. Порядок. Требовательность. Без этого нет ни великих империй, ни великих людей. Есть только болото, в котором тонут все без разбора. И ваш суд – это шаг в это болото.
Притчард понимает, что пробить эту броню невозможно. Он пытается нанести последний удар.
– И последний вопрос. Который лично меня очень сильно заинтересовал, как потом и заинтересует многих. – Миссис Торн, вы утверждаете, что пансион "Норт-Ист" поддерживает высочайшие стандарты и отбирает только "достойных". Но позвольте спросить: откуда у Энн Николь, сироты без семьи и состояния, взялись средства на обучение в вашем заведении? Кто оплачивал её содержание? И не являлось ли это оплатой со стороны некоего третьего лица, заинтересованного в доступе к девочкам?
Агата не моргнув глазом отвечает с холодной, почти механической точностью, раскрывая свою идеологию:
– Мистер Притчард, вы мыслите категориями рынка, а не благородства. "Норт-Ист" – не лавка, где место покупают за монеты. Да, Энн Николь – сирота. Но её присутствие здесь финансировалось через Фонд поддержки одарённых девочек, учреждённый анонимным благотворителями. Этот фонд покрывает расходы тех, кто демонстрирует потенциал, но лишён ресурсов. Мы даём им шанс стать частью общества, которое иначе было бы для них закрыто. Это не милосердие – это инвестиция в будущее. Слабые не выдерживают и уходят. Сильные – остаются и служат примером.
– Но разве это не делало их зависимыми от воли фонда? – настаивает Притчард.
– Зависимость – естественное состояние любого, кто получает шанс, – парирует Агата. – Они обязаны быть благодарными. А благодарность выражается в послушании и стремлении оправдать оказанное доверие.
Ледяной след её присутствия висел в зале, но это была не просто пустота. Это было заражение. Среди присяжных несколько человек – солидный лавочник и отставной офицер – не выглядели шокированными. Они смотрели перед собой вдумчиво, их лица выражали не ужас, а задумчивое согласие. Слова о "естественном отборе" и "сорняках" упали на благодатную почву их собственного, прагматичного мировоззрения.
Её руки снова сложились на коленях. Она не оправдывалась. Она не просила. Её объяснения были страшнее любой исповеди.
Карсуэлл видел это. Он видел, как яд её логики проникает в умы, как он находит отклик. Он стукнул молотком, но на этот раз звук был глухим, бессильным
– Допрос… завершён. Вопросов нет, прошу остаться в зале суда ненадолго.
Агата встала, лёгкий кивок, бесшумно прошла на свое место, где её ждали, не оглядываясь. Ледяной след её присутствия висел над залом, как знак, что она осталась непобедимой.
Глава 8.
– Подсудимый Джон Торн, – произнёс Карсуэлл с явной отдышкой, и его голос прозвучал, как скрип замка в тихой комнате. – Суд предлагает вам дать объяснения. Без присяги. Но помните – каждое слово будет взвешено.
Торн поднялся, и его движение было тяжёлым, будто под водой. Он опёрся о перекладину не для опоры – чтобы ощутить под пальцами жёсткую, чёткую геометрию, островок порядка в бушующем море хаоса. Блеск на его затылке был не от пота, а словно лёгкая морозная плёнка, покрывающая неживой труп.
– Вы признаёте прикосновения к мисс Энн Николь? – голос Притчарда был сух, как щепка.
Торн сглотнул, и звук этот был громким в тишине.
– Я… наставлял. – он начал, как всегда, с поправки. С утверждения своего статуса. – Это был ритуал тишины. Чтобы дрожь в голосе утихла. Чтобы воля подчинилась разуму. Когда девочка заикается от страха… тишина лечит куда лучше розги. Я никогда не поднимал руку на девочек, милорд. Никогда. Я их… выравнивал.
Карсуэлл молча указал пером на Притчарда, давая тому продолжить. Жест был равнодушным, но в воздухе повисло напряжение.
– Вы признаёте факт прикосновений? – настаивал прокурор, заостряя вопрос, как иглу.
Торн отвёл взгляд, его глаза упёрлись в спинку скамьи перед ним, видя там не дерево, а стройные ряды парт.
– Не признаю… непристойности. – он выдохнул слово с лёгким презрением, как будто это было что-то грязное, не имеющее к нему отношения. – Я… направлял локоть у кафедры – дабы девочка не поскользнулась. Каменный пол, воск… они малы и неустойчивы. Я подкладывал клин под шаткий стул – чтобы не раскачивался, не отвлекал. Я завязывал тесёмки – у печи холодный сквозняк, шея должна быть в тепле. Я просил кухню подкладывать каши слабым ученицам – дабы не падали в обморок от голода во время Закона Божьего. Я покупал за свои скудные гроши бумагу для черновиков – для тех, чьи пальцы дрожали и рвали лист от усердия. Это – попечение. Это – порядок. Без этого – хаос.
Писарь выводил: "попечение", "порядок", "хаос". Слова ложились на бумагу неровно, будто сопротивляясь.
Клэй поднялся, его движение было плавным, как у кошки, готовой поймать мысль. Голова слегка в головокружение.
– Милорд, прошу зафиксировать: подсудимый не отрицает заботу, но отрицает порочный умысел. Он описывает не преступление, а педагогический метод. Суровый – да. Но разве суровость – это злодейство?
Притчард вспыхнул, но не от гнева, а от ледяной ярости. В голове клубился туман, дышать становилось всё труднее.
– Метод? Ребёнок боится до дрожи. Разве страх – это педагогический метод, мистер Клэй?
– Страх перед беспорядком – основа дисциплины, – парировал Клэй, обращаясь к присяжным. – Вы ведь и сами воспитываете дочь в строгости. Неужели вы станете утверждать, что строгость – это насилие?
– Строгость – не значит положить руку на бедро ребёнка! – голос Притчарда сорвался, и он тут же осекся, сжав губы. Он попал в ловушку Клэя, скатившись к физиологии, тогда как защита говорила о возвышенных категориях.
Карсуэлл постучал костяшками пальцев по столу, вернув тишину.
– Вопрос по существу. И, если возможно, побыстрее с вопросами. В часовне – вы держали девочку за талию?
– Поддерживал, – мгновенно поправил Торн. – Во время коленопреклонений пол скользкий. Я, когда холодно, ставил слабых ближе к печке, согревал их.. Я укрывал спины шарфом – общим, казённым, он висел на гвозде для всех. Я писал письма опекунам часто болеющих. Я старик, милорд… я строг по-старинному. Я не… – он запнулся, впервые подбирая слово, которое не было частью его педагогического лексикона. – Не то, что вы думаете.
– На уроке чтения. Во время "пятиминутки". Вы брали руку ребёнка? – Притчард бил в самую суть, не давая уйти в общие рассуждения.
Торн закрыл глаза на секунду, будто вызывая в памяти образ.
– Поправлял пальцы на строке. – его голос стал тише, почти мечтательным. – Чтобы не сбивалась. Когда голос дрожит от неуверенности… я возлагал ладонь на плечо. Сверху. Тяжесть руки выравнивает дыхание. Успокаивает. Они должны учиться, а не краснеть от стыда за каждую ошибку. Я… лишь учил.
Самая страшная правда – что он верил в каждое сказанное слово.
– Против её воли или нет? – Притчард вогнал в тишину последний гвоздь.
Пауза повисла тяжёлым, густым полотном. В тишине послышался тонкий, сухой треск – то ли древесина скамьи, то ли лопнула лакированная плёнка на портрете какого-нибудь короля, висевшем на стене.
– Она… – Торн вдохнул так, будто воздух стал вязким. – Она допускала это. – Он сказал это шёпотом, но слово прозвучало на весь душный зал, громче любого крика. – Она ждала тишины. И в тишине этой… была готова к принятию. Воли. Знания. Порядка.
В зале ахнули. Дама уронила веер. Пристав Уикс вздрогнул, как от удара током. Отец Бреннан перекрестился, большим пальцем прижав крест к губам. Клэй лишь провёл ладонью по воздуху, сметая невидимую пыль – жест, отвергающий чужую иррациональность. Агата Торн не двигалась.
Карсуэлл ударил молотком. Звук был глухим, утробным.
– Порядок!
Пламя в газовых рожках дёрнулось, вытянулось в синеватые язычки и снова съёжилось, будто испугавшись собственной аномалии.
– Подсудимый, – голос Карсуэлла стал ледяным, – вы утверждаете, что ребёнок допускал? Что она была готова?
– Я не желал зла! – Торн заговорил быстро, сбивчиво, его маска педагога треснула, и из-под неё проглянул испуганный, загнанный в угол человек. – Я не такой! Я держал – как в церкви держат младенцев при крещении; поправлял тетради – чтобы не было помарок; сажал поближе к теплу тех, кто зяб; просил для отстающих оставить ужин… Она смотрела на меня… прямо… и ждала, когда наступит тишина и можно будет начать… Я стар, милорд… я никого не…
Писарь, побледнев от удушья зала, выводил: "допускала", "готова", "ждала тишины".
Клэй поднялся с видом человека, которому противна необходимость вмешательства.
– Милорд, защита настаивает: мы слышим не факты, а их интерпретацию. Прошу оставить присяжным образ: не сластолюбец, а суровый наставник. Человек долга. Заблудший, быть может. Но не развратник.
Притчард покачал головой, и в его взгляде была уже не ярость, а отвращение.
– Портреты пишут художники. Здесь же судят поступки. Ребёнок живёт в страхе. Это – факт. Объясните, мистер Клэй, как ваша "забота" совмещается с этим фактом?
– Порядок, – отрезал Карсуэлл, и в его голосе прозвучала стальная усталость. – Довольно. Писарь: зафиксировать. Подсудимый отрицает непристойность, апеллируя к порядку и попечению, и заявляет, что потерпевшая "допускала" и "ждала".
Он постучал ещё раз. Свод зала молчал, поглощая звук. Зал выдохнул – не с облегчением, а с чувством глубочайшей неразрешенный тоски.
Карсуэлл окинул взглядом зал: бледные лица, сжатые рты, дрожащие веера. Газовые рожки горели ровно, как ни в чём не бывало. Но что-то изменилось. Была произнесена не просто ложь. Была произнесена формула оправдания всего зла, творящегося под маской порядка.
– Слушание откладывается, – произнёс Карсуэлл. Он не кричал. Он расставлял слова, как каменщик кладёт кирпичи – плотно, неотвратимо, возводя стену между безумием и реальностью. Он устал. Голова раскалывалась от боли. Воздух в душном зале казался тяжелым. Каждый отстаивал свою правду.
Он поднял руку, и его костлявые пальцы один за другим сомкнулись в счете, обращённом не к залу, а к самому механизму правосудия, который начал давать сбой.
– Во-первых. – Палец, указательный, жёсткий. – Суд назначает специалиста. Доктора Грейвза, присутствующего в зале в качестве зрителя. Ему вменяется оценить душевное состояние и внушаемость свидетельницы Энн Николь: способна ли она отличать пережитое от заученного. Так же на следы… насильственной деятельности.